рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры
- Раздел Философия
- /
- Тимофеев Л. И. основы ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ
Реферат Курсовая Конспект
Тимофеев Л. И. основы ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ
Тимофеев Л. И. основы ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ - раздел Философия, Тимофеев Л. И. Основы Теории Литературы. – М.: Просвещение, 1968. – 48...
Тимофеев Л. И. основы ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ. – М.: Просвещение, 1968. – 480 с. ((KnigiP37))
ОТ АВТОРА
Настоящая работа представляет собой систематическое изложение понятий теории литературы применительно к изучению ее в вузах. В основу ее положены ранее изданные работы автора, пересмотренные и дополненные новыми материалами Ряд положений, высказанных в этих работах, подвергался критике в печати Автор в своей работе стремился учесть те критические замечания, которые представились ему в достаточной мере обоснованными Учтены в книге и новейшие исследования по вопросам теории литературы, хотя они и не подвергаются подробному критическому рассмотрению.
Неразработанносіь многих теоретических вопросов и отсутствие в ряде случаев установившейся терминологии, естественно, определяют индивидуальный характер трактовки некоторых вопросов и в настоящей книге,

ВРЕДЕЙИЕ
<JB предисловии к «Человеческой комедии» Бальзак заметил, что он считает себя секретарем французского общества: «Составляя опись пороков и добродетелей, собирая важнейшие случаи проявления стр.астей... »создавая типы путем соединения отдельных черт многочисленных однородных характеров, быть может, думалось мне, я смогу в конце концов написать историю, забытую столькими историками, историю нравов».
В этих мыслях одного из крупнейших писателей мира о сущности литературного творчества определено, действительно, одно из чрезвычайно существенных свойств художественной литературы: то, что она представляет собой бесконечно разнообразную и многогранную историю человеческого общества, как бы-переведенную на язык живых человеческих нравов и страстей, передающую для последующих поколений все богатство мыслей, переживаний, интимнейших человеческих чувств самых различных периодов существования и развития человеческого общества. Чем шире и богаче наше восприятие художественной литературы различных веков и народов, тем разностороннее становится наш индивидуальный жизненный опыт, вбирающий в себя опыт человечества, закрепленный в литературных образах. Благодаря литературе мы как бы живем множеством жизней, роднящих нас и с прошлым человечества, и со всем миром окружающей нас современности. Благодаря литературе мы становимся как бы участниками всего бесконечно сложного и разнообразного исторического пути развития человечества. И понятно, что, вбирая в себя этот опыт, накопленный человечеством, мц растем не только потому, что обогащаемся прежде всего знаниями об этом пути людей, которые жили до нас или живут вокруг нас, мы растем и потому, что воспринимаем те высокие цели и идеалы, которые возникают в процессе исторического общественного развития, видим во всей их жизненной непосредственности героические картины борьбы за эти цели и идеалы, подвиги, совершенные во имя этих целей, силу и высоту человеческого духа, проявленные в этой борьбе. Вот почему Бальзак, определив писателя как секретаря общества,
l « другой мйелй, к мысли о том, что писатель ив-
ляетея„жу*Штелем людей*. -
Понятно, что эти Важнейшие задачи литература в различные периоды своего существования осуществляла в самых различных формах, то воспроизводя действительность с предельной точностью, то обращаясь к фантастике или гротеску, то закрепляя мысль поэта в предельно лаконическом лирическом стихотворении, то развертывая перед читателем грандиозные по своему охвату картины жизни в многотомной эпопее, — и все это в бесконечном историческом разнообразии стилей, жанров, литературных течений, художественных методов Изучая литературу, мы должны найти внутренние связи, единство, все то, что каК бы спаивает эти всегда самостоятельные и неповторимые проявления художественно-литературного творчества 'в единое общее целое, воплощающее в себе художественный опыт человечества, сохраняя вместе с тем живое индивидуальное своеобразие: каждого его исторического проявления в конкретном художе^ ственном произведении В этом и состоит основная задача науч-( ного осмысления закономерностей, управляющих художественно-литературным творчеством, определение принципов и методики его изучения, короче — науки о литературе.
^— В основе нашей науки о литературе лежит прежде всего по-[ нимание литературы как идеологической деятельности человека, »познающего и оценивающего действительность в определенной исторической обстановке
Это понимание литературы резко противостоит весьма активным за рубежом попыткам осмыслить литературу, устранив ее общественно-идеологическое значение. Таков, например, фрейдизм, сводящий в конечном счете художественное творчество к чисто биологической функции — к воспроизведению подсознательной и прежде всего сексуальной стороны человеческой психики Таков субъективизм Кроче и многих его последователей, исходящих из положения о том, что для эстетического наслаждения «естественными объектами нужно отвлечь их от внешней и исторической реальности и отделить от существования простую видимость или являемость», что «при-рода красива только для того, кто созерцает ее взором художника» '.
Чрезвычайно активен за рубежом и формализм, полагающий, что «содержание» и «форма» .. слишком упрощенно дихо-томизирую» (т е расчленяют надвое — Л. Т ) произведения искусства»2. Его представители считают, что «личность поэта или
/l
L
1 Б Кроче, Эстетика как на>ка о выражении и как общая лингви
стика, М, 1920 стр 112
2 R W е 11 e k and Aust Warren, Theory of Literature New York,
1956, p 216

его мнран£»ренве, литературнее течшйе шш поколение,
аЦышг группа или страна, дух $яохи »ш характер, шрвда, »*• *
кше«, проблемы и идеи — Таковы ,быля жизненные сиам,
к которым пытались приблизиться через поэзию... Возникает
вопрос, не пренебрегают ли при этом сущностью словесного ис
кусства и не упускаются ли собственные задачи литературного
исследования. '
Поэтическое произведение живет и возникает не как отблеск чего-то другого, но как замкнутая в себе языковая структура» '
Как видим, все эти и подобные им трактовки литературного творчества устраняют по сути дела необходимость существования Бальзака и как «секретаря общества», и как «учителя людей». В трактовке этого рода теорешков литература обедняется, лишается своего общественного значения, теряет свою идеологическую сущность.
Jrlo, утверждая на основании всего опыта развития мирового искусства и осмысления этого опыта крупнейшими его представителями (как это мы видели на примере Бальзака), что литература несет в себе огромное идеологическое содержание, что она органически входит в целостную систему общественного ее«" знания каждого исторически самостоятельного периода развития человечества, мы не можем вместе с тем не видеть и того своеобразного места, которое она занимает в этой целостной системе общественного сознания среди различных форм идеологической деятельности человека. Своеобразие этих форм идеологической деятельности определяется по сути дела двумя решающими условиями — предметом и целью этой деятельности. Различие предмета и цели и определяют внутреннюю дифференцированность целостного общественного дознания, не устраняя вместе с тем его единства. Научное осмысление литературы предполагает прежде всего определение специфически присущих ей предмета и цели и вытекающей отсюда формы. Естественно, что перед нами прежде всего встает вопрос о том, каким путем идти к решению этой проблемы, т е. вопрос об определении принципов построения теории литературы. Задача ее состоит в том, чтобы осмыслить природу художественной литературы как одной из форм идеологической надстройки, особенности отражения ею действительности и ее об* щественную функцию.
Исходя из понимания общих законов, управляющих развитием литературы, теория литературы разрабатывает принципы и методику анализа художественно-литературных произведений, стилей, течений и литературного процесса в целом.
1 W. К а у s e r, Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einfuhrung in die Literaturwissenschaft, Bern, 1956, S 5.
І
В задачи теории литературы входит также рассмотрение закономерностей, управляющих развитием различных сторон художественно-литературного творчества, закономерностей, связанных с развитием отдельных жанров, языка художественной литературы, стихосложения, композиции, сюжета и т. д.
Художественная литература является одним из видов искусства. Поэтому теория литературы теснейшим образом связана с эстетикой — наукой, одной из основных задач которой является разработка вопросов теории искусства '.
Изучение вопросов теории литературы немыслимо также без исторического подхода к ним, без того материала, который накоплен историей литературы.
Эстетика и история литературы — это ближайшие смежные
дисциплины, вне связи с которыми не может развиваться и тео
рия литературы как наука. В свою очередь основные положения
теории литературы определяют работу и историка литературы,
и критика, намечая самое направление анализа ими литератур
ных произведений и литературного процесса в целом, прин
ципы их изучения и оценки. '
Сложным и до сих пор не нашедшим полного решения во-'просом является вопрос о построении теории литературы. Очевидно, с одной стороны, что основные особенности литературы и — шире — искусства в целом являются чрезвычайно устойчивыми, повторяются на протяжении многих веков развития человеческого общества В этих исторически устойчивых, повторяющихся форійах проявления тех или иных особенностей литературного творчества и находят свое выражение основные общие законы, управляющие развитием литературы. Легко заметить, что мы и непосредственно ощущаем значимость этих основных повторяющихся свойств литературного творчества. Перечисляя, например, писателей и поэтов, мы назовем и Гомера, и Шота Руставели, и Вольтера,- и Пушкина, и Горького, и Маяковского, т е. писателей самых различных эпох и народов, объединяя их именно потому, что в их деятельности сказались какие-то очевидные для нас общие, однородные свойства. Говоря о драматургах, мы назовем и Аристофана, и Шекспира, и Лопе де Вега, и А. Н. Островского, и других К числу романистов мы, не колеблясь, отнесем и Фильдинга, и Флобера, и Льва Толстого, и М. Шолохова. Говоря о баснописцах, мы вспомним и Эзопа, и Лафонтена, и Крылова, и Демьяна Бедного, опять-таки ощущая, что их произведения подчинены однородным закономерностям, сходны по своим основным структурным особенностям
1 См Ю школа», 1960,
Б Б о p е в, Основные эстетические категории, изд «Высшая
Тем самым и теория литературы определяется как наука именно общего характера, устанавливающая наиболее общи« закономерности, управляющие развитием литературы. Исходя из этого, теория литературы и дает общие определения образа, стиля, метода, жанра, сюжета, композиции и т. д.
Из этого основного содержания теории литературы вытекают и принципы анализа литературных произведений, и самая методика этого анализа.
Возникает, однако, весьма существенное сомнение в возможности такого построения теории литературы. Художественное творчество представляет собой один из видов деятельности человеческого сознания и, стало быть, определяется прежде всего общественным бытием, которое обусловливает собой содержание и форму человеческого сознания. Художественное творчество теснейшим образом связано с той эпохой, в которую оно возникло. Идеи писатели, которыми он руководствуется, отбирая и оценивая окружающие его жизненные явления в своих произведениях, типы людей, которых он рисует, конфликты, в которых эти люди сталкиваются между собой и которые вызваны противоречиями именно данного периода, — все это явления чисто исторического порядка, неповторимые, связанные именно с данной исторической обстановкой. Тем самым исторически своеобразны и основные особенности художественной формы: жанры, сюжеты, словарный состав и т. п.
Закономерности, управляющие литературным творчеством данного периода, глубоко отличаются о г закономерностей, управляющих литературным процессом какого-либо другого периода. Идеи, образы, отношение к языку, жизненные конфликты, лежащие в основе литературных произведений советских писателей, не имеют ничего общего, скажем, с эпохой французского классицизма. Возможно ли поэтому искать какие-то общие законы, управляющие творчеством представителей классицизма, с одной стороны, и советских писателей — с другой?
Многие полагают, что историческое своеобразие каждого периода развития литературы настолько существенно, что стремление к созданию общих теоретико-литературных определений по сути дела теряет смысл, так как эти общие определения как бы стирают все конкретное, индивидуальное своеобразие литературного творчества любого данного исторического периода.
В связи с этим возникает идея создания исторической теории литературы, или, как ее раньше называли, исторической поэтики. Такого рода историческая Теория литературы должна систематически прослеживать, как в процессе развития литературы возникают, развиваются, отмирают и заменяются новыми те или иные литературные формы, как они видоизменяются и т. д.
Г
При таком построении теории литературы исчезнет опасность создания слишком общих и в то же время ни к чему конкретному не приложимых формулировок и определений. Ха-рактер-изуя ту или иную форму литературного творчества, тот или иной жанр, тот или иной сюжет и т. д., мы всегда будем точно знать, с какой исторической обстановкой они связаны, какими основными чертами и особенностями отличаются '.
Беда, однако, в том, что при таком построении мы, пожалуй, и вообще отдалимся от задачи создания теории литературы и будем заниматься по сути дела изучением истории литературы.
Характеристика литературных форм, возникших в творчестве того или иного писателя или того или иного периода развития литературы, в целом неотделима, конечно, от идеологии писателя, от конкретных условий общественной борьбы, которые влияют на его идеи и образы. А обрисовав все эти обстоятельства, мы и придем в конечном счете к характеристике творчества данного автора как чисто историко-литературного явления и не сумеем подойти к определению тех общих законов, которые управляют развитием литературы и которые обусловливают единство и общие черты самых различных произведений а это, как говорилось, прямо и непосредственно нами ощущается.
Определение всякого явления по правилам логики предполагает указание на его родовые свойства и вместе с тем на его видовое отличие. Если мы не определим эти родовые свойства явления, то мы всегда будем стоять перед опасностью принять его общие родовые свойства за его видовые отличия. Чернышевский справедливо замечал, что «без истории предмета нет теории предмета; но и без теории предмета нет даже мысли о его истории, потому что нет понятия о предмете, его значении и границах» 2. Марксизм именно благодаря принципу последовательного историзма не только не отрицает, но, наоборот, подчеркивает необходимость установления общих законов, управляющих развитием общества и природы, и борется против релятивизма, отрывающего явление от процесса (т. е. рассматривающего его как полностью и исторически самостоятельное). Для всякого языка характерно, например, наличие словарного фонда и словарного состава. Понятно, что в каждом конкретном языке свой особый, неповторимый общий словарный фонд и
1 Попытка создать такого рода историческую теорию литературы (или — как называют ее — историко-логическую) осуществлена в книге «Теория литературы Основные проблемы в историческом освещении» (М, 1962, и М, 1964). В ней собран обширный и ценный материал, показывающий многообразие исторического развития литературы и различных ее форм, но вряд ли можно признать осуществленным ее основной замысел
2Н Г Чернышевский, Полное собрание сочинении в 15 томах, т. II, Гослитиздат, М, 1949, стр. 265—266
словарный- состав. Но самое членение языка на словарный фонд и словарный состав есть общая форма развития языка, общая его закономерность, как бы исторически своеобразно она ни проявлялась.
Общие закономерности управляют и человеческим позна-н»ем, а тем самым и такой формой его познания, как искусстве, как бы исторически своеобразно оно ни проявлялось. Человеческое мышление, по выражению Энгельса, «суверенно и неограниченно по своей природе, призванию, возможности, исторической конечной цели; несуверенно и ограниченно по отдельному осуществлению, по данной в то или иное время действительности» '.
Проявляясь в бесконечно разнообразной исторической действительности, в бесконечной смене поколений, общие законы, естественно, получают каждый раз все новое и новое историческое осуществление. Поэтому понять и раскрыть их мы можем лишь в определенной исторической обстановке. Но в то же время мы должны помнить о единстве законов, управляющих историческим развитием.
Понятно, например, что закон борьбы противоположностей, борьбы между старым и новым, между отжившим и развивающимся, есть общий закон развития. Но совершенно очевидно, что проявляется он каждый раз в особых формах: в феодальном обществе иначе, чем в капиталистическом, в капиталистическом иначе, чем в советском. Но самое понимание закона борьбы противоположностей необходимо для того, чтобы уметь понимать действие этого закона в любом его проявлении. «Для объективной диалектики,— по определению Ленина,— в релятивном есть абсолютное» 2.
Таким образом, знание общих законов определяет собой самое направление .нашего анализа данного конкретного исторического материала. Общий закон указывает лишь на основную, жизненную функцию данного явления, а свое реальное осуществление' он получает только в конкретной исторической обстановке. Общие определения имеют поэтому только функциональный характер, обозначают не определенные признаки, а именно общие функции явлений, т. е. не дают конкретной их характеристики. Поэтому и неправильно критиковать их, применяя к данному конкретному историческому явлению, за то, что они не учитывают тех или иных конкретных его признаков. Задача их в том, чтобы определить самый подход к этому явлению, обеспечить правильное направление его анализа.
'К. Маркси Ф. Энгельс, Сочинения, т. 20, стр а В. И. Л е н и и, Поли. собр. соч., т. 29, стр. 317.
f •
Для каждого языка необходимо разграничение между устойчивыми и переменными явлениями, между словарным фондом и словарным составом. Это его постоянное функциональное свойство. Но конкретная характеристика словарного фонда и словарного состава может быть дана только применительно к данному языку и к данному периоду его исторического развития.
Точно так же и определения образа, жанра, сюжета, композиции и т. д. имеют чисто функциональный характер. Говоря о сюжете, например, мы можем сказать, что он представляет собой систему событий, в которых раскрываются изображаемые в произведении характеры, что он представляет собой отражение противоречий и конфликтов, присущих данной социальной среде, что для развития сюжета характерны три основных момента — завязка, кульминация и развязка. Все это — именно функциональные определения, но, исходя из них, мы сможем правильно анализировать любое сюжетно организованное произведение, учитывая конкретную историческую обстановку, в которой оно возникло, и привлекая к нашему анализу все те специфические видовые отличия, которые этому произведению присущи.
Задача теории литературы в том и состоит, чтобы разработать систему функциональных определений основных явлений литературного творчества, устанавливая именно общие закономерности, которые присущи этому творчеству.
Это ни в какой мере не отрывает теорию литературы от исторического материала, не лишает ее исторической основы. Во-первых, сами эти функциональные определения, если они действительно правильны и серьезны, возникают на основе анализа конкретных историко-литературных фактов. С другой стороны, они проверяются в процессе анализа опять-таки конкретных историко-литературных фактов.
Основываясь на опыте исторического развития искусства, теория литературы и формулирует наиболее общие определения, характеризующие самую природу литературного творчества, устанавливающие общие законы его развития.
В статье «Карл Маркс. «К критике политической экономии» Ф. Энгельс писал, что теоретическое осмысление исторического процесса представляет собой «отражение исправленное, но исправленное соответственно законам, которые дает сам действительный исторический процесс, причем каждый момент можно рассматривать в той точке его развития, где процесс достигает полной зрелости, своей классической формы» '.
К- Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 13, стр. 497.
В реалистической литературе XIX века, справедливо именуемой классической, мы наблюдаем именно зрелые формы проявления основных особенностей искусства, в достаточной степени широко и полно осмысленные и в теоретическом и в историческом плане в посвященных им научных работах.
На опыте этой литературы мы и характеризуем общие черты художественно-литературного отражения жизни с достаточной степенью конкретной исторической обоснованности.
Осмыслив общие закономерности художественного творчества, как они выступили в наиболее ясных и зрелых формах его развития, мы и получим возможность поставить вопрос о том, в каких конкретных исторически своеобразных формах они проявлялись в более ранние периоды или в более осложненных видах творчества (романтизм, например). Во всех этих случаях общие понятия, нами установленные, получат уже не функциональные определения, в которых обнаруживается, так сказать, лишь направление творческой деятельности, а конкретно-исторические, т. е. раскрывающие те живые формы и то реальное содержание, которые они обретают именно в данных исторических условиях. Понятно, что практически мы во многих случаях уловим связи их с предшествовавшими им периодами развития искусства, установим известную преемственность в этом развитии, т. е. роль традиции, практически чрезвычайно существенной, но это явится задачей уже историко-литературного их рассмотрения, теоретически само собой разумеющейся. При этом надо иметь в виду и то, что во многих случаях сходство тех или иных художественных форм может оказаться результатом сходства исторической обстановки, устойчивых жизненных ситуаций и пр.
А. Веселовский—ученый, особенно настойчиво отстаивав-'ший идею создания исторической поэтики,— справедливо заметил в свое время, сравнивая в различных странах варианты рассказов о верной жене. «Такой простой, из глубины души вечно поднимающийся мотив, как история невинно заподозренной жены, мог так естественно представиться воображению восточного и западного человека, что тот и другой могли создать сказания на эту тему, сходные по единству понимания и вместе с тем независимые друг от друга фактически» '.
В принципе всякое произведение искусства целиком исторично, оно возникает лишь как ответ на вопросы своего времени и лишь в его условиях черпает содержание и форму: идеи, темы, образы, композицию, жанры, язык. В этих условиях оно и должно быть прежде всего изучено, понято и объяснено. В этом и состоит основа исторического подхода к литературе,
1 А. Веселовский, Греческий роман. «Журнал министерства народного просвещения», ч. 188, 1876, стр. 150.
І
Ге
ü
ї.
необходимая для научного ее понимания. Но понятно, что в число исторических условий, в которых развивается искусство, всегда входит, во-первых, определенный круг общих закономерностей, для него характерных и в данной обстановке проявляющихся в индивидуальной исторической форме, ей "отвечающей, и, во-вторых, конкретные историко-литературные преемственные связи, традиции, проясняющие и облегчающие пути развития литературы в данный период.
Вот почему неправильно противопоставление общей и исторической теории литературы, о чем мы раньше говорили. Все дело в том, что общее проявляется только в историческом и как историческое Но правильно понять данное историческое явление можно только в свете общих законов, управляющих его развитием.
Теория литературы вырабатывает на основе опыта развития искусства принципы анализа литературного творчества, позволяющие правильно подойти к любому исторически своеобразному его проявлению. Искусство советского общества, искусство социалистического реализма в частности, характеризуется новаторским подходом ко всем проблемам литературного творчества и по его содержанию и по форме. Поэтому, формулируя общие теоретико-литературные понятия, мы с особым вниманием должны относиться к тому, в какой мере они применимы к опыту искусства социалистического реализма. Но самое определение художественного метода советской литературы как метода социалистического реализма уже свидетельствует о том, что применительно к советскому искусству сохраняют свое значение общие закономерности, управляющие реалистическим .творчеством вообще, хотя они получают глубоко новаторское осуществление именно потому, что этот реализм является социалистическим.
Достаточно в виде примера указать на то, что и для искусства социалистического реализма сохраняют все свое значение общие законы реалистического искусства вообще, законы художественной типизации явлений. Очевидно, что* новый тип общественных отношений и самое понимание их представителями социалистического реализма и в СССР и за рубежом вносит чрезвычайно много нового в создаваемые ими образы сравнительно с тем, как понимались и осуществлялись принципы типизации искусством прошлого. Но самый закон художественной типизации остается общим законом реалистического искусства. Это функциональное понятие, дающее нам направление для анализа любого реалистического произведения в любом историческом периоде развития искусства.
Внутреннее единство литературного развития, обусловленное тем, что им управляют общие законы, присущие прежде всего человеческому познанию вообще, обнаруживается и в том,
что в самом процессе развития искусства складывается и его теория, в той или иной мере отражающая закономерности развития искусства. Поучительно с этой точки зрения, что в процессе многовекового развития теории искусства, в частности теории литературы, уже сложились многие существенные на« блтодения, которые отнюдь не противоречат нашему современному пониманию природы искусства. Наоборот, они подготовили и обусловили это понимание.
Это тем более существенно подчеркнуть, что теория лите
ратуры и, шире, теория искусства теснейшим образом связана
с эстетикой, а эстетика в свою очередь неразрывно связана с фи
лософией. ^
В. И. Ленин в своей работе «Материализм и эмлириокрити-цизм» показал, что развитие философии в течение двух тысячелетий определялось прежде всего борьбой двух партий, двух философских лагерей — материализма и идеализма.
Такая же борьба шла и в той области философии, которая посвящена разработке вопросов эстетики, т. е. науки о прекрасном в жизни и в искусстве.
Понимание сущности искусства определялось, естественно, в зависимости от общих философских предпосылок той или иной эстетической системы.
Однако при всем несходстве этих предпосылок самые различные эстетические учения уже со времен античности во многом близки друг другу в характеристике основных характерных особенностей искусства, поскольку в этих учениях осмыслялись свойства, объективно присущие искусству.
Уже в «Поэтике» Аристотеля (384—322 гг. до н. э.) были отчетливо поставлены, например, вопросы о сюжете, о жанрах, о воспитательном значении искусства, о связи его с изображением именно человеческой жизни, о двух способах художественного изображения жизни, которые мы теперь назвали бы реалистическим и романтическим, и т. д.
Это лишний раз подтверждает, что в самые различные периоды развития искусства, при всем их своеобразии, в них можно уловить проявление тех общих функциональных особенностей, которые характеризуют его как особую форму идеологической деятельности человека. В силу этого мы и объединяем в своем сознании, говоря об искусстве, и те формы, в которых оно проявлялось в эпоху античности и даже ранее, и те формы, которые присущи ему теперь. Они обладают функциональным сходством, т. е. выполняют в каждом данном периоде общественного развития принципиально однородную задачу принципиально однородными средствами, при всех бесконечно разнообразных путях их конкретного исторического развития.
Определяя литературу прежде всего как «искусство создания характеров и типов», М. Горький заметил, что «литературное
творчество в существе своем одинаково во всех странах, у всех народов» ' Эта одинаковость определяется сходством функции искусства в обществе
В -самом депе, между, скажем, «Одиссеей» и «Войной и миром» Льва Толстого, казалось бы, нет ничего общего И в то же время мы не можем не заметить сходства этих произведений в изображении ими действительности в их интересе к конкретным событиям человеческой жизни, к человеческим характерам, к живой индивидуальной человеческой речи, к различным сторонам предметного и природного мира, окружающего человека, и т. д. и т. д. Это именно функциональные сходства художественного творчества, присущие ежу при всем различии его конкретных исторических проявлений.
'М Горький, Собрание сочинений в 30 томах, т 24, Госпитиздат, М, 1953, стр 466 и 468
Часть первая
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
ТЕОРИИ
ЛИТЕРАТУРЫ
Ч", а
U t
s
Глава первач
ОБРАЗНОСТЬ
П аучное осмысление определенного круга явлений предполагает наличие и достаточно широко разработанного круга понятий (терминов), определяющих различные стороны и грани этого целостного явления, но наряду с установлением такого широкого круга понятий необходима вместе с тем и их систематизация, последовательное соотнесение их друг с другом, отражающее связи и соподчинения различных сторон изучаемого явления, их, так сказать, внутренней иерархии. Однако наука о литературе еще не достигла той степени разработанности, которая, в частности, находит свое выражение в относительно установившейся единой и систематизированной терминологии. Создание такой терминологии — насущная, но, к сожалению, далеко не решенная задача нашей науки, и она отнюдь не является второстепенной или внешней, формальной стороной научного осмысления предмета. На самом деле в ней выражаются ясность и последовательность его изучения, представления о связи, взаимодействии, соотношении, значимости всех составляющих его сторон и граней '. В дальнейшем нам не раз придется сталкиваться с неясностью и противоречивостью литературоведческой терминологии.
Центральным понятием, имеющим, в частности, определяющее значение для дальнейшей систематизации понятий науки
1 «Неправильное употребление слов в нашей литературе показывает, что
мы неясно определили те понятия, которые словами означаются, а от этого
смешения сколько заблуждений и предрассудков вводится в теорию словес
ности I»—говорилось в «Московском вестнике» еще в 1828 году (т, 7, 1828,
стр. 186), *
17
t
'Ч
о литературе, является понятие образа, или — точнее и шире — образности '. Характерно, что в уже названных и имеющих широкое распространение за рубежом работах по теории литературы Уэллека и Уоррена и В. Кайзера это понятие полностью отсутствует. Точно так же и в английском «Словаре литературных терминов», предназначенном для высшей школы («A Handbook of Literary Terms», H. L. Yelland, S. G. Y. Gones, K. S. W. Easton, Lond., 1950), нет ни понятия образа, ни понятий, сколько-нибудь ему соответствующих. Тем самым (если учесть то содержание, которое мы вкладываем в это понятие) из теории литературы устраняется по сути дела основной круг вопросов, подлежащих ее изучению, что, в частности, определяет односторонность и неверность этих работ.
Определить своеобразие какого-либо явления — значит установить, чем оно отличается от других явлений по своему содержанию, по своей форме и по своей функции, т. е. по той роли, которую оно играет в общественной жизни. Таким определен нием своеобразия литературы, т. е. ее отличия от других форм познания жизни, от других идеологий, является указание на tgb что она отражает жизнь в образах2, образно.
Следует оговориться, что термин «образ» употребляется в двух значениях — в узком и широком. В узком смысле слова образом называется выражение, придающее речи красочность, конкретность; с этой точки зрения в строке «Горит восток зарею новой» перед нами уже имеется образ, т. е. выражение, благодаря которому наше представление о заре становится более конкретным, так как небо на заре сравнивается с пожаром («горит»).
1 В работах последних лет встречаются попытки отказаться от понятия
образа как основного. Так, Г. Поспелов считает «архаической... позицию, сто
ронники которой сводят специфику искусства к его образности» («Литератур
ная газета» от 12 июня 1962 г., ст. «Так не спорят»). Но ведь дело не в тер
мине, а в том содержании, которое в него вкладывается. В своей книге
«О природе искусства» (М, 1960) Г. Поспелов указывает на то, что «об
разы существуют не только в искусстве Ими очень широко пользуется
также и наука» (стр 17 и 115). Но это — неверное сопоставление, основанное
опять-таки на неразработанности терминологии и содержание, и функция
образа в науке имеют совершенно иной характер, чем в искусстве, это —
разные понятия И сопоставление их ничего существенного для понимания
природы образа как специфической формы искусства дать не может. Термин
«образ» принят также в психологии Но там опять-таки он имеет иное
значение
2 Литература есть вид искусства, и понятие образа относится к искус
ству вообще, но вопрос об отличии литературы от других видов искусства
далеко еще не решен, мы его здесь не затрагиваем и говорим лишь о ли
тературном образе, учитывая, что это понятие во многом близко и другим
видам искусства. Вопрос о различии искусств затронут в книге В. Кожинова
«Виды искусств» (М, 1960).
В последующем отрывке из «Полтавы» Пушкина, дающем описание красоты Марии, мы будем с этой точки зрения иметь пример такого образного языка, ряд таких словесных образов:
И то сказать в Полтаве нет Напоминают плавный ход,
Красавицы, Марии равной То лани быстрые стремленья.
Она свежа, как «вешний цвет, Как пена, грудь ее бела. '
Взлелеянный в тени дубравной Вокруг высокого чела,
Как тополь киевских высот, Как тучи, локоны чернеют,
Она стройна. Ее движенья Звездой блестят ее глаза,
То лебедя пустынных вод Ее уста, как роза, рдеют.
| Понятие образа имеет и более широкое истолкование. Обра- зом называют тип отражения жизни худ |
Мы еще вернемся к затронутым в этом разделе вопросам, но уже сейчас мы должны указать на это слишком узкое содержание, вкладываемое в понятие образности. Оно сводит особенности литературы, во-первых, только к языковым явлениям (а мы знаем, что она гораздо шире по. своему содержанию), а во-вторых, оно сводит образность к красочности, минуя остальные свойства отражения жизни литературой, ее обобщающее (т. е. идейное) значение и т. д.
ание. Обра- к
_ ожником г
в отличие от тех форм отражения жизни, которые характери- ' зуют другие идеологии, прежде всего науку. В таком понимании понятие образа охватывает не только язык, как в первом случае, о кртором мы говорили, а и целый ряд других сторон литературного творчества. Белинский, например, говорит, определяя отличие литературы от науки: «Политико-эконом, вооружась статистическими числами, доказывает, действуя на ум своих читателей или слушателей, что положение такого-то класса в обществе много улучшилось или много ухудшилось вследствие таких-то и таких-то причин.
Поэт (Белинский в данном случае имеет в виду вообще писателя.— Л. Т), вооружась живым и ярким изображением действительности, показывает в верной картине, действуя на фантазию своих читателей, что положение такого-то класса в обществе действительно много улучшилось или ухудшилось от таких-то и таких-то причин» '. Еще более детально характеризует эти общие свойства литературы Чернышевский, говоря об отличиях искусства от науки: «Главная-цель ученых сочинений. .. та, чтобы сообщить точные сведения по какой-нибудь науке, а сущность произведений изящной словесности (литературы. — Л Т ) в том, что они действуют на воображение и должны возбуждать в читателе благородные понятия и чувства. Другое
'В Г Белинский, Полное собрание сочинений, т X, изд. АН СССР, М, 1956, стр 311.
Іг
различие состоит в том, что в ученых сочинениях излагаются события, происходившие на самом деле, и описываются предметы, также на самом деле существующие или существовавшие; а произведения изящной словесности описывают и рассказывают нам в живых примерах, как чувствуют и как поступают люди в различных обстоятельствах, и примеры эти большею ча-стию создаются воображением самого писателя. Коротко можно выразить это различие в следующих словах: ученое сочинение рассказывает, что именно было или есть, а произведение изящной литературы рассказывает, как всегда или обыкновенно бывает на свете... Поэты — руководители людей к благородному понятию о жизни и к благородному образу чувств: читая их произведения, мы приучаемся отвращаться от всего пошлого и дурного, понимать очаровательность »сего доброго и прекрасного, любить все благородное; читая их, мы сами делаемся лучше, добрее, благороднее» '.
Легко убедиться в том, что эти определения говорят о целом ряде существенных свойств литературы, характеризуют ее как совершенно своеобразную идеологическую деятельность сравнительно с другими ее формами, а не ограничивают ее только языковым своеобразием. Понятие образа в широком смысле и имеет в виду общие свойства искусства и литературы в целом. Литературный образ —- в отлич.и.е.ххг образов других искусств —
ЭТО P-nAiWTnjirffipatt' nftpâa" ^фгірмттоцрмй p /vnQgP^R НЗИбоЛЄЄ
В то же время ясное определение основных особенностей образного отражения жизни весьма важно. Образность — это центральное понятие теории… 'H Г Чернышевский Полное собрание сочинений в 15 томах, т. III, Гослитиздат,… Традиционные определения образа, распространенные и* _/• в нашей учебной литературе, указывают главным образом на v…L'E
І І
<
Ч
- Беа этого дара воображения писатель, если он и обладает знанием жизни, позволяющим ему прийти к известным обобщениям, языковой культурой и другими данными, все равно не сумеет воплотить свой материал с художественной убедительностью, заставляющей читателя поверить в ту жизнь, о которой писатель ему рассказывает,
Чернышевский справедливо замечал, что главное в поэтическом таланте-—так называемая творческая фантазия
Возможно возражение, что сама по себе способность воображать присуща всем людям. Но это состояние, когда человек представляет себе то, что его ожидает, или свое прошлое, связано с субъективными его интересами. Характерной же особенностью воображения истинного художника — помимо его интенсивности, силы — является его «бескорыстность», точнее — объективность, т. е. то, что он грезит не о себе, а о конкретном мире, его окружающем, как бы «перевоплощаясь», отрешаясь от себя, своих личных интересов. «Какая чудесная вещь,— писал Флобер,— писать, не быть заключенным в себе, но обращаться во всем мире, о котором говоришь. Сегодня, например, я — одновременно мужчина и женщина, любовник и любовница — совершил прогулку верхом в лесу в осенне послеполуденное время, под желтыми листьями, ветром, произносимыми словами и багряным солнцем, от которого смежались глаза, отягченные любовью» '.
Это отрешение от себя особенно примечательно в тех случаях, когда художник изображает характеры, к которым он отрицательно относится. «Я ежеминутно должен влезать в шкуру несимпатичных мне людей,— говорил Флобер.— Мне стоит больших усилий представить себе своих персонажей и говорить от их лица; ведь они мне глубоко противны»2. Об этой силе воображения художника опять-таки свидетельствуют слова Флобера: «Меня увлекают, преследуют мои воображаемые персонажи, вернее, я сам перевоплощаюсь в них. Когда я описывал отравление Эммы Бовари, у меня во рту был настоящий вкус мышьяка, я сам был... отравлен»3.
Именно дар художественного воображения позволяет художнику превратить свои обобщения в образы, волнующие читателя своей жизненной убедительностью.
Но в то же время вымысел художника не произволен, он подсказан ему его жизненным опытом; только при этом условии художник сумеет найти настоящие краски для изображения того мира, в который хочет он ввести своего читателя. Очень хорошо разъяснил эту жизненную основу вымысла Вахтангов:
1 Флобер, Сочинения, т. VII, 1937, стр 589.
2 Т а м же, стр. 458, 545,
» Флобер, Сочинения, т, VIII, 1938, стр. 220.
«Если вы хорошо знаете какого-нибудь человека, знаете несколько значительных моментов его жизни, знаете его характер, привычки и вкусы, т. е. что он любит и чего не любит, то вы легко ответите и на вопрос, как бы он поступил в том или ином случае. Вы можете придумать несколько положений для такого знакомого вам человека и почти безошибочно угадаете, как он выйдет из них. Чем лучше вы будете знать его, чем больше подробностей вспомните, тем лучше вы будете чувствовать его и тем правильнее и скорее чувство ваше подскажет вам, как на вашего знакомого подействует тот или иной случай. Когда писатель пншет пьесу, то он непременно хорошо знает всех дей^ ствующих в его пьесе людей» *.
В этом смысле вымысел представляет собой как бы концентрацию жизненного опыта художника. Люди действуют в произведении его так, как они с наибольшей вероятностью действовали бы в самой жизни, ло его предположению. Поэтому вымысел художника и обладает такой убедительностью, несмотря на свою условность. Художник не произволен в своем вымысле, ибо он воображает то, что имеет наибольшие основания случиться в самой жизни. И чем крупнее, талантливее художник, чем шире и глубже его жизненный опыт, его знание людей, событий и обстановки, им изображаемых, тем ярче и ближе к жизни его вымысел, тем правдивее его образы. Вот почему герои писателя иногда совершают такие поступки, которых он и не предполагал по своему первоначальному замыслу. Продумывая поступки своих героев, автор может отказаться от своих планов и прийти к таким их поступкам, которые окажутся возможнее, вероятнее с точки зрения логики самой жизни. «Воскресение» Л. Толстого первоначально кончалось браком Нехлюдова с Масловой, но потом он изменил конец, найдя более правдоподобный, т. е. отвечающий свойствам этих характеров и той среды, которая за ними стоит, ход событий.
Вымысел, таким образом, представляет собой не что иное, как средство отбора писателем наиболее характерного для жизни, т. е. является прежде всего обобщением собранного писателем жизненного материала. При помощи вымысла писатель как бы придает этому материалу наибольшую выпуклость, освещает его полным светом, показывающим то, что в обыденной жизни заслонено от нас всякого рода случайными обстоятельствами.
Художественный вымысел, следовательно, не противостоит действительности, а является лишь особой, именно искусству присущей формой отражения жизни, своеобразной формой ее обобщения.
Е. Б. Вахтангов, Записки,Письма, Статьи, 1939, стр, 202,
I -I
им
Пшятно, что как вообще познание жизни может быть неверным, ошибочным, искаженным в конкретных исторических случаях, так и вымысел может принимать искаженные, нелепые и тому подобные формы. Но мы говорим о его общем значении в творчестве, а здесь его роль как средства обобщения писателем известного ему жизненного материала несомненна.
Художественный вымысел представляет собой тот мост, благодаря которому обобщения художника переходят в индивидуальные картины жизни, не теряя в то же время своего общего значения. Когда мы говорим о том, что образ — это обобщение, мы должны помнить, что это обобщение дается художником в конечном счете, жизненность образа возникает благодаря богатству в нем индивидуальных черт, всякого рода деталей и жизненных подробностей, придающих ему характер «случайного» жизненного явления, живого факта жизни; каждая из этих подробностей сама по себе может и не обладать обобщающим значением, но в целом все вместе они создают обобщенную картину жизни, как бы проступающую сквозь покров индивидуального.
Энгельс писал Лассалю, что созданные им образы лишь один из способов, которыми можно было передать то, что хотел сказать Лассаль, и что «существует по крайней мере десяток других, столь же или еще более подходящих способов» *. Вымысел и есть тот путь, идя по которому художник находит полные жизни формы, облекающие его обобщения.
Может показаться, однако, что не во всех случаях мы встречаемся в литературе с вымыслом, что о нем нельзя говорить как об обобщающем признаке творчества. Так, лирическое стихотворение, например, может быть воспринято нами как простой рассказ поэта о том, что им пережито, за которым нам нет оснований искать ту работу фантазии, которую мы наблюдаем, скажем, у романиста. Это верно отчасти, поскольку лирику не приходится рисовать таких сложных картин жизни, какие мы находим в романе. Но в принципе и в лирическом стихотворении при его кажущейся простоте мы.все же найдем ту же (в основе) работу воображения художника. Сошлемся прежде всего на то, что отнюдь не всегда стихотворение имеет точное соотношение с фактами жизни художника. Известное стихотворение Лермонтова:
В полдневный жар в долине Дагестана С свинцом в груди лежал недвижим я ..
не находит оснований в биографии поэта. Более того, известно, что оно написано по рассказу знакомого Лермонтова, офицера
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 29, стр. 495.
Шульца, который действительно после сражения под Ахульго в 1839 году целый день пролежал раненый на поле боя среди > битых.
Стихи Пушкина «Я помню чудное мгновенье», посвященные Л. П. Керн, не отвечают его отзывам о ней в письмах, где он говорит о ней весьма иронически.
Блок написал под одним своим стихотворением, которое кончалось словами:
Ты мне в любви призналась жаркой, А я упал к ногам твоим .
недвусмысленное примечание: «Ничего такого не было». Примеров такого рода можно привести много. Они говорят о том, что лирик изображает то или иное чувство, силой своего воображения воссоздавая жизненную ситуацию, которая может вызвать такое переживание, так же как романист ставит своего героя в то или иное вымышленное положение.
Но если лирическое стихотворение и совпадает с данным фактом жизни поэта, оно воздействует на читателя не по этой причине, поскольку биография писателя отнюдь не всегда ему детально известна. Она волнует его опять-таки потому, что в нем в форме конкретной картины — человеческого переживания — дано обобщение: характерное для данного типа людей в данной обстановке чувство, которое могут разделять многие люди. Следовательно, нас волнует в лирическом стихотворении не то, что данное чувство испытал данный человек, а то, что оно могло быть испытано «по вероятности или необходимости» (Аристотель) многими людьми в подобных обстоятельствах
Поэтому и в лирическом стихотворении конкретность переживания лишь «форма случайности» (пользуясь выражением Чернышевского), за которой мы и видим обобщение. А то, что оно совпало с данным фактом из жизни поэта, нам и неизвестно в подавляющем большинстве случаев, и, главное, безразлично, потому что при наличии обобщения в нем не может не быть элемента вымысла, вторичного воссоздания художником действительности в его творческом воображении.
Равным образом и очерковая литература, которая описывает факты, имевшие место в действительности, хотя и не в такой мере использует вымысел, но все же не может обходиться и без него. Художник подвергает факты той или иной обработке, сдвигает их последовательность, переносит их из одной области в другую, усиливает в героях характерные черты и ослабляет второстепенное и т. д.
Следовательно, и очерк, несмотря на его фактическую обоснованность, не обходится без вымысла. В нем художник рассказывает о факте именно потому, что факт этот интересен своей характерностью, т. е. выходит за рамки своего
ill 4
индивидуального существования, важен для нас потому, что при его помощи мы понимаем многие подобные ему в жизни факты.
Подытоживая сказанное, мы вправе теперь прийти к выводу, что вымысел является необходимым условием создания художественного образа.
Мы должны дополнить наше определение: образ — это конкретная и в то же время обобщенная кар* тина человеческой жизни, созданная при помощи вымысла.
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
До сих пор мы говорили о литературе, так же как и об искусстве вообще, имея в виду те своеобразные пути, которым'и художник идет к познанию жизни. Данное нами определение образа как той формы отражения жизни, которая присуща искусству, говорит о том, что художественное произведение имеет идеологическое, познавательно^ значение, благодаря ему мы получаем новое знание о жизни, так же как и благодаря какой-либо научной работе. Это познавательное значение образа весьма существенно. Однако непосредственный опыт каждого, кто проследит за своим восприятием художественного произведения, подскажет ему, что оно существенно отличается от восприятия произведения научного характера. Мы усваиваем знания, которые сообщает нам ученый, к этому и сводится наше впечатление от научной работы. Произведение же искусства вызывает у нас чувство непосредственного волнения, сочувствия героям или негодования, мы относимся к нему, как к чему-то лично затрагивающему нас, непосредственно к нам относящемуся.
И это вполне понятно. Познавательная деятельность человека проявляется в единых по своему существу, но вместе с тем в многообразных по своим конкретным особенностям формах. И это многообразие зависит прежде всего от предмета и цели познания, от того, на что направлена познавательная деятельность человека и для чего она направлена. Мы до сих пор говорили о содержании и о предмете искусства (в частности, литературы), т. е. определяли, на что в области искусства направлена познавательная деятельность человека. Но этого недостаточно. Ее конкретное своеобразие зависит и от той цели, с которой она связана. Говоря о цели искусства, мы можем определить ее как эстетическую цель. Цель искусства состоит в том, чтобы эстетически осмыслить действительность, чтобы вызвать у человека эстетическое чувство.
Искусство едино в своей сущности со всеми другими формами познавательной деятельности человека. Но вместе с тем
эта познавательная сущность выступает в искусстве в особой форме, как эстетическое познаме, т. е. как познание действительности под углом зрения той эстетической цели, которой руководствуется писатель. Художник познает действительность с точки зрения соответствия или несоответствия ее определенным общественным идеалам. И в этом основа того типа познания жизни, которое присуще искусству и отграничивает его от других видов познавательной деятельности человека.
Определение эстетического чувства — при всем разнообразии его понимания различными философскими системами — в конечном счете чрезвычайно тесно связано именно с представлением об идеале. У Белинского мы находим очень глубокое понимание того, что мы называем идеалом «Под «идеалом» разумеют не преувеличение, не ложь, не ребяческую фантазию, а факт действительности, такой, как она есть; но факт, не списанный с действительности, а проведенный через фантазию поэта, озаренный светом общего (а не исключительного, частного и случайного) значения, возведенный в перл создания и потому более похожий на самого себя, более верный самому себе, нежели самая рабская копия действительности верна своему оригиналу» '.
Развивая это определение, Белинский добавлял: «Идеалы скрываются в действительности; они — не произвольная игра фантазии, не выдумки, не мечты; и в то же время идеалы — не список с действительности, а угаданная умом и воспроизведенная фантазиею возможность того или другого явления»2.
Таким образом, представление об идеале связывается с представлением, по выражению Белинского, о «перле создания», т. е. о наиболее полном и совершенном воплощении возможностей, присущих тому или иному кругу явлений той или иной области жизни, и, поскольку предметом искусства является, как мы помним, человеческая жизнь, постольку идеалом в области искусства является воплощение в наиболее полном и совершенном виде тех возможностей, которые присущи человеку (конечно, в данном историческом периоде его развития). Познание человеческих отношений в искусстве неразрывно соединено, стало быть, с определенной и специфической целью — изображением этих отношений в свете тех (в каждом данном случае исторически обусловленных) идеалов, которым должны отвечать эти отношения. В этом смысле основной сущностью искусства является то, что и его содержание, и предмет изображения, через который проявляется это содержание
'В Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VI, иэд АН СССР, стр. 526.
••В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т, VIII, изд, АН СССР. стр. 89,
и! її <
(человеческая жизнь), освещены эстетической целью: оценкой действительности применительно к «угаданным умом и воспроизведенным фантазиею» писателя идеалам В отражении действительности под углом зрения исторически сложившихся в ней идеалов и состоит главная общественная функция искусства Но, как мы помним, поскольку предметом изображения в искусстве является человеческая жизнь, а человеческая жизнь может быть показана лишь через ее индивидуальное целостное проявление, через отношения человеческих личностей,— постольку идеалы, найденные писателем, выступают в его произведении непосредственно воплощенные в индивидуальном человеческом опыте, в богатых и многогранных проявлениях, присущих действующей человеческой личности
Восприятие того, что мы считаем идеалом в непосредственном опыте конкретной человеческой личности, показанной в произведении искусства, позволяет нам возможность жизни увидеть как действительность, как воплощение в конкретном явлении того, ч го в наибольшей степени отвечает нашим требованиям к жизни, тем целям, которые мы перед ней ставим и к достижению которых стремимся; важнейшая черта искусства в том и состоит, что благодаря специфичности своего предмета изображения оно обладает способностью показать во-пЛоЩение идеалов в индивидуальном конкретном характере, жизненный опыт которого может быть непосредственно сравнен и соотнесен с непосредственным жизненным опытом читателя или зрителя, в нем проверен и в нем воспроизведен.
Явление, которое своими чертами и свойствами отвечает нашему идеалу, воспринимается нами как прекрасное явление, вызывает в нас представление о красоте. «Прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такою, какова должна быть она по нашим понятиям... нет ничего на земле прекраснее человека» *.
Таким образом, в искусстве мы, во-первых, воспринимаем представление об идеале, в свете которого мы должны оценивать жизнь, и, во-вторых, его представление дано в непосредственном жизненном его воплощении, как прекрасное. Вот это непосредственное восприятие воплощенного в жизни идеала, восприятие прекрасного, и вызывает в нас то особое эстетическое чувство, о котором мы раньше говорили, чувство волнения, радости, как говорят, чувство эстетического наслаждения.
«Эстетическое переживание есть одно из сильнейших человеческих наслаждений,— справедливо говорит Г. Недошивин.— В нашей критике и искусствознании до сих пор проявляется «боязнь понятия» эстетическое наслаждение. Нам мнится, что
'Н Г Чернышевский, Полное собрание сочинений в 15 томах, т II, Гослитиздат, M, 1949, стр. 10, 17.
54-
здесь какое-то сибаритство, отказ от общественной значимости эстетического Нет ничего более ошибочного . Никакого эстетического восприятия не существует вне наслаждения . Эстетическое переживание, эстетическое наслаждение как одна из высших форм наслаждений, ставших человеческими, есть тот специфический способ практически духовного освоения мира, при. помощи которого человек осознает определенные качества конкретно-чувственных предметов и явлений и определяет свои отношения к ним» '.
Понятно, что, говоря об эстетическом наслаждении, мы не должны понимать это состояние узко и ограниченно. Произведение искусства может вызвать у нас и чувство гнева, и чувство скорби, потрясать трагическими картинами страданий и гибели человека, которые, естественно, в прямом смысле этого слова не доставляют нам наслаждения В самом деле, мы остановимся в Третьяковской галерее перед картинами, которые вызывают у нас сложные и противоречивые переживания Назовем картину И Репина «Иван Грозный и сын его Иван», H Ге — «Петр Первый допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе», В. Верещагина — «Смертельно раненный», В Перова — «Утопленница» и «Проводы покойника», В Якоби — «Привал арестантов», К. Флавицкого — «Княжна Тараканова». Перед нами трагические характеры и события, потрясающие нас, сталкивающие нас с мучительными и пугающими сторонами жизни, требующие их оценки в свете наших представлений о жизненных идеалах. Все это и вызывает в нас особое эмоциональное состояние, которое лишь условно можно охватить термином «эстетическое наслаждение», отвлекаясь, естественно, от традиционного житейского его понимания
Эстетическое чувство — это то особое эмоциональное состояние, которое испытывает человек, вступивший в мир искусства. В этом мире все явления окружающей его жизни озарены светом идеалов, к которым он стремится, и приобретают в силу этого особое значение. Человек в искусстве не только предмет изображения, воспроизводимый со всеми присущими ему реальными чертами и качествами Он всегда соотнесен в произведении искусства с идеалом человека, с Человеком с большой буквы, и поэтому все, что с ним происходит в произведении искусства, приобретает для нас волнующее значение, получает глубокий смысл, далеко выходящий за пределы тех жизненных ситуаций, которые мы непосредственно наблюдаем в данном произведении. Подлинное искусство, заметил Горький, обладает правом преувеличивать. Характерно определение Чернышевским значения героя его романа «Что делать?» Рахметова:
1 Г. H е д о ш и в и н, К вопросу о сущности эстетического Сб «Вопросы эстетики», 1958, стр. 51—52.
if
мі
«Мало их,— говорит Чернышевский,— но ими расцветает жизнь-всех; без них она заглохла бы, прокисла бы; мало их, но они дают всем людям дышать, без них люди задохнулись бы. Велика масса честных и добрых людей, а таких людей мало; но они в ней — теин в чаю, букет в благородном вине; от них ее сила и аромат; это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли» *.
В основе искусства, таким образом, лежит представление о прекрасном, а в основе прекрасного — представление об идеале, т. е. о наиболее ценном, наиболее значимом для человека (определенной исторической среды, в определенном историческом периоде). «...Человек,— говорил Маркс,— умеет производить ио мерам любого вида, и всюду он умеет прилагать к предмету соответствующую меру, в силу этого человек формирует материю также и по ааконам красоты» 2.
Силой своего воображения художник и создает в своем произведении мир по найденным им законам красоты. Создаваемые им картины человеческой жизни соотнесены им с мерой, им соответствующей. Мы можем сказать, что искусство отражает действительность применительно к человеческой жизни и соответственно мере, отвечающей этой жизни. Этим прежде всего и определяется его особое место среди других форм идеологической деятельности. «Во всем чувственном мире,— говорил Чернышевский,— человек — самое высшее существо; потому человеческая личность есть высшая красота в мире, доступном нашим чувствам, и все другие степени существующего в нем имеют значение прекрасного только в той степени, в какой намекают на человека и напоминают о человеке... самая высшая сфера прекрасного — человеческое общество» *. Даже Кант, взгляды которого на искусство весьма далеки от нашего понимания искусства, считал, что идеал в художественном творчестве всегда связан с человеком. «Человек — .. .идеал красоты,— говорил он.— Идеал состоит в выражении начала нравственного, без которого предмет не мог бы нравиться вообще, и притом положительного»4.
Эта мысль очень существенна: красота в искусстве для нас связана прежде всего с представлением о прекрасном человеке, т. е. о таком поведении его в жизни, которое воплощает лучшее в нем.
Jti
1 Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений в 15 томах, т. XI, Гослитиздат, 1949, стр. 210
3 К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений, Гослитиздат, М., 1956, стр. 566 (заменяем в переводе неудачное слово «мерка» словом «мера»).
3 Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений в 15 томах,
т. II, Гослитиздат, М., 1949, стр. 132.
4 Кант, Критика способности суждения, 1898, стр. 84.
В последнее время выдвинулась трактовка эстетического чувства как способности человека воспринимать «эстетические свойства», присущие самой действительности. Об этом гово-рится в названных выше книгах В. Ванслова и Ю. Борева, в книгах А. Егорова «Искусство и общественная жизнь» (М., 1959), Л. Столовича «Эстетическое в действительности и в искусстве» (М., 1959). По словам Ю. Борева, «термин этот прочно вошел в арсенал советской эстетики» (ук. соч., стр. 116). Вряд ли, однако, оптимизм автора можно считать оправданным. Приписывая эстетические свойства самой действительности, мы прежде всего разрываем связь эстетического и идеального и, кроме того, неизбежно приходим к выводу о всеобщности эстетических свойств, поскольку они существуют в действительности как таковые и в таком качестве будут восприняты независимо от социальных, исторических и т. п. условий, в которых находится воспринимающий, в порядке внеисторического единого эстетического потока. Здесь верное положение о том, что эстетическое и вообще идеальное имеет объективную основу в действительности, как ее возможность, угаданная умом и воспроизведенная фантазией, понято весьма односторонне и упрощенно1. Эстетическое суждение — это суждение о ценности, а представление о ценности является результатом отбора, который определяется теми социально-историческими условиями, в которых находится художник. Поэтому одни и те же явления жизни могут найти и находят у различных художников различные — вплоть до противоположных — оценки. Исходя из положения о том, что «эстетические свойства» присущи самой действительности, мы не в состоянии удовлетворительно решить этот вопрос. Другое дело, что художник может в самой жизни найти явления, отвечающие его идеалам, в этом случае их воспроизведение будет в его творчестве являться вместе с тем их утверждением. Соотношение идеала и действительности — опять-таки является следствием исторической обстановки.
Эстетическое значение образа, следовательно, состоит в том, что в нем дано конкретное воплощение человеческих идеалов. Воплощенный идеал — это и есть прекрасное в жизни. В основе его лежит сама действительность, но изображенная в наиболее совершенном и гармоническом виде. И связан он прежде всего с человеком, со стремлением выделить в нем все лучшее, как его представляет себе писатель. Отсюда и вытекает важнейшее свойство искусства — то, что оно конкретно показывает те цели, к которым человек стремится в жизни, и путь к осуществлению этих целей.
1 См. критику этой теории в книге Г. Поспелова «Эстетическое и художественное», изд МГУ, M, 1964.
Однако здесь возможно весьма существенное возражение: всегда ли искусство связано с прекрасным? Ведь мы встречаем в произведениях искусства и изображение всякого рода отталкивающих, отвратительных, тяжелых явлений жизни, которые отнюдь не являются воплощением наших стремлений. Достаточно вспомнить персонажей «Мертвых душ» или «Ревизора» Гоголя. Это соображение наталкивало иногда на мысль, что искусство шире прекрасного и что, следовательно, произведение искусства может и не вызывать эстетического чувства. Соображение это само по себе бесспорно: в сущности большинство произведений искусства прошлого не дает нам прямолинейного, так сказать, изображения идеала, а в гораздо большей степени говорит об отрицательных явлениях жизни. Но значит ли это, что они не будят в нас эстетическое чувство?
Для того чтобы точно ответить на этот вопрос, надо разграничить два понятия: прекрасное как предмет изображения и прекрасное как цель изображения. Действительность часто не дает возможности осуществиться идеалам художника.
Белинский справедливо замечал, что в искусстве перед нами в равной мере выступает «созерцание высокого и прекрасного» и «тоска по идеалу», которая вызывается «изображением низкого и пошлого в жизни» *.
" Поэтому в те или иные периоды развития истории литературы для нее характерно выдвижение на первый план таких произведений, в которых показываются именно тяжелые и трагические стороны жизни. «В том-то и состоит,— писал Белинский в «Очерках гоголевского периода русской литературы»,— задача реальной поэзии, чтобы извлекать поэзию жизни из прозы жизни и потрясать души верным изображением этой жизни».
Именно изображая страдание и гибель людей, искусство в таких случаях вызывает тоску по идеалу, т. е., другими словами, борется за восстановление меры, которая нарушена данным общественным укладом. Более того, чрезвычайно поучительна мысль Белинского о том, что «хорошие люди есть везде, об этом и говорить нечего, что их на Руси по сущности народа русского должно быть гораздо больше, нежели как думают... Но вот горе-то: литература все-таки не может пользоваться этими хорошими людьми... не может представлять их художественно такими, как они есть на самом деле... А почему? Потому именно, что в них человеческое в прямом противоречии с той общественной средою, в которой они живут»2.
'В Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т VIII, изд. АН СССР, M., 19S5, стр. 90.
2 В Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XII, изд. АН СССР, M, 1955, стр. 460.
Задача искусства состоит в утверждении меры, закона красоты. И если в данных условиях эта мера нарушена, то утверждение прекрасного в искусстве будет именно изображением этого нарушения, а не воспроизведением, хотя и существующих, но не имеющих возможности преодолеть это нарушение меры явлений действительности.
Предметом изображения прекрасное само по себе является далеко не всегда, но цель этого изображения — та же: оно вызывает эстетическое чувство, показывая то, что мешает ему в жизни. Г. Успенский писал о том, что художник создает «то истинное в человеке, что составляет смысл всей его работы, то, что сейчас, сию минуту, нет ни в ком, ни в чем, нигде, но что есть в то же время в каждом человеческом существе, в настоящее время похожем на скомканную перчатку, а не на распрямленную» («Выпрямила»).
Прекрасное может быть, следовательно, показано художником или прямо, непосредственно, как осуществленный идеал (например, образы Прометея, Ахиллеса в античной литературе, Татьяны в русской литературе и других), или же косвенно, как возникающее у читателя противопоставление тому тяжелому, что господствует в жизни. Гоголь писал о «Ревизоре»: «.. мне жаль, что никто не заметил честного лица, бывшего в моей пьесе. Да, было одно честное, благородное лицо, действовавшее в ней во все продолжение ее. Это честное, благородное лицо был — смех... тот смех, который весь излетает из светлой природы человека...» '
Поэтому-то художник, рисующий отталкивающие стороны жизни, все же остается в области прекрасного: его изображение будит в читателе представление об идеале. Поэтому эстетическое чувство вызывается изображением и величественного и ничтожного, и высокого и низкого, и возвышенного и пошлого, и героического и мелкого, и естественного и фальшивого, и правдивого и лицемерного и т. д. Первые члены этих параллелей могут быть показаны прямо как идеальные, вторые вызывают в сознании представление о первых как их антитеза, противоположность; и в том и в другом случае прекрасное остается целью художественного изображения, а предметом его оно является только в первом случае.
Итак, мы можем сказать, что значение искусства состоит в том, что оно вызывает у человека эстетическое отношение к жизни. «Цель и назначение... произведений искусства,— писал Чернышевский,— дать возможность хотя бы в некоторой степени познакомиться с прекрасным в действительности людям, которые не имели
1 «Русские писатели о литературе», т. I, изд. «Советский писатель», Л, 1939, стр. 293.
возможности наслаждаться" им на самом деле... служить наткк минанием, возбуждать и оживлять воспоминание о прекрасном в действительности» *.
Существенной стороной образа является, следовательно, его эстетическое значение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗА
Мы можем теперь дать определение образа, которое вобрало все те черты, о которых мы говорили.
Образ — это конкретная и в то же время обобщенная картина человеческой жизни, созданная при помощи вымысла и имеющая эстетическое значение.
1,ля того чтобы более конкретно разобраться в этом определении, остановимся на примере, который позволит нам представить себе эти основные признаки образного отражения жизни. Пример этот нам дал Достоевский. Рассказывая в «Дневнике писателя» о своих прогулках по Петербургу, он писал:
Вот замечаю в толпе одинокого мастерового, но с ребенком, с мальчиком,— одинокие оба, и вид у них у обоих такой одинокий Мастеровому лет тридцать, испитое и нездоровое лицо. Он нарядился по-праздничному немецкий сюртук, истертый по швам, потертые пуговицы и сильно засалившийся воротник сюртука;, панталоны «случайные», из третьих рук, с толкучего рынка, но все вычищено по возможности. Коленкоровая манишка и галстук, шляпа-цилиндр, очень смятая, бороду бреет. Должно быть, где-нибудь в слесарной или чем-нибудь в типографии. Выражение лица мрачно-угрюмое, задумчивое, жесткое, почти злое. Ребенка он держит за руку, и тот колыхается за ним, кое-как перекачиваясь. Этот мальчик лет двух с небольшим, очень слабенький, очень бледненький, но одет в кафтанчик, в сапожках с красной оторочкой и с павлиньим перышком на шляпе Он устал: отец ему что-то сказал, может быть, просто сказал, а вышло, что как будто прикрикнул. Мальчик притих. Но прошли еще шагов пять, и отец нагнулся, бережно поднял ребенка, взял на руки и понес. Тот привычно и доверчиво прильнул к нему, обхватил его за шею правой ручкой и с детским удивлением стал пристально смотреть на меня: «Чего, дескать, я иду за ними и так смотрю?» Я кивнул было ему головой и улыбнулся, но он нахмурил^ бровки и еще крепче ухватился за отцовскую шею. Друзья, должно быть, оба большие.
Я люблю, бродя по улицам, присматриваться к иным совсем незнакомым прохожим, изучать их лица и угадывать, кто они, как живут, чем занимаются и что особенно их в эту минуту интересует Про мастеровою с мальчиком мне пришло тогда в голову, что у него всего только с месял назад умерла жена и почему-то непременно от чахотки. За сиротой-мальчиком (отец всю- неделю работает в мастерской) пока присматривает какая-нибудь старушонка в подвальном этаже, где они нанимают каморку, а может быть, всего только угол Теперь же, в воскресенье, вдовец с сыном ходили куда-нибудь далеко на Выборгскую к какой-нибудь единственной оставшейся родственнице, всего вернее, к сестре покойницы, к которой не
1 «Русские писатели о литературе», т. I, изд «Советский писатель», Л.,
1939, стр. 7. ^
счєнь-то часто ходили прежде в которая замужем за каким-нибудь унтер-офицеров с нашивкой и живет непременно в каком-нибудь огромнейшем казенном доме и тоже в подвальном этаже, но особняком. Та, может быть, повздыхала о покойнице, но не очень; вдовец, наверное, тоже не очень вздыхал во время визита, но все время был угрюм, говорил редко и мало, непременно свернул на какой-нибудь деловой, специальный пункт, но и в нем скоро перестал говорить. Должно быть, поставили самовар, выпшиг вприкуску чайку Мальчик все время сидел на лавке в углу, хмурился и дичился, а под конец задремал. И тетка, и муж ее мало обращали на него внимания, но молочка с хлебцем, накоиец-таки, дали, причем унтер-офицер, до сих пор не обращавший на него никакого внимания, что-нибудь сострил про ребенка в виде ласки, но что-нибудь очень соленое и неудобное, и сам (один, впро~ чем) тому рассмеялся, а вдовец, напротив, именно в эту минуту строго и неизвестно за что прикрикнул на мальчика, вследствие чего тому немедленно захотелось а-а, и тут отец уже без крику и с серьезным видом вынес его на минутку из комнаты... Простились так же угрюмо и чинно, как и разговор вели, с соблюдением всех вежливостей и приличий. Отец сгреб на руки мальчика и понес домой, с Выборгской на Литейную Завтра опять в мастерскую, а мальчик к старушонке И вот ходишь-ходишь и все этакие пустые картинки и придумываешь для своего развлечения.
Пример этот чрезвычайно поучителен. Перед нами самый первоначальный набросок художественного произведения, это, так сказать, самое зарождение образного отражения жизни. И в нем в простейшем виде можно наблюдать основные особенности этого отражения.
Очевидна прежде всего сосредоточенность Достоевского на человеческой жизни («люблю... присматриваться... к прохожим»), она представляет для него наибольший интерес. Жизнь эта воспринимается им во всех ее деталях и подробностях, чрезвычайно конкретно (внешность людей, их одежда, разговор, поведение, быт: «сильно засалившийся воротник сюртука», «чаек вприкуску», «выражение лица мрачно-угрюмое»). Вслед за тем отдельный жизненный факт начинает осмысливаться писателем; вглядываясь в него, он начинает выделять в нем характерное, черты людей определенной социальной среды (по одежде и внешности определяется, что встреченный человек — рабочий, жена его умерла от болезни бедноты — «непременно от чахотки», живет он в рабочем квартале — на Литейной). Эта обобщающая работа — выделение в факте того, что характеризует подобные ему факты, превращение его в факт возможный, вероятный с точки зрения жизненного правдоподобия — осуществляется при помощи вымысла («мне пришло в голову, что у него умерла жена», занимают, «может быть, угол», за мальчиком присматривает «какая-нибудь старушонка» и т. д.).
Этот вымысел строится из материала, который уже накоплен писателем в его жизненном опыте: он знает, что рабочий идет с ребенком на руках, вероятно, потому, что он лишился жены, по нарядности костюма понимает, что он идет в гости, предполагает, что жена, вероятнее всего, умерла от чахотки, представляет себе каморку, в которой они живут, и т. д. Короче, этот
'
I I;
факт как бы накладывается на уже имеющийся у писателя запас фактов и в свете их обнаруживает скрытые в нем закономерности социальной жизни особенности жизни рабочего в Петербурге в конце XIX века. Вымысел является здесь путем к обобщению, к тому, чтобы придать индивидуальному факту общие черты Богатство жизненного опыта позволяет писателю сразу уловить в этом случайном факте его характерные черты. Это отличает крупных художников, обладающих благодаря большому жизненному опыту и силе воображения исключительной проницательностью Гете замечал, что, поговорив с кем-либо четверть часа, он ясно представляет себе, что тот будет говорить в течение двух часов. Гоголь развлекал своих друзей, безошибочно предсказывая, что и как будет говорить случайно встреченный ими человек, и т. д.
Так, благодаря вымыслу постепенно перед нами возникает конкретная картина человеческой жизни, сквозь которую начинает как бы просвечивать известное обобщение (мы начинаем понимать, что в том человеке, о котором говорил нам писатель, имеются черты, общие людям одного с ним общественного положения). И, наконец, если бы эта картина жизни разрослась, она неминуемо привела бы нас к оценке жизни: к вопросу о том, в какой мере жизнь этого человека соответствует тому, как, по нашим представлениям, должны жить люди, т. е. поставила бы перед нами вопрос о несоответствии жизни тем идеалам нормальной человеческой жизни, к которым мы стремимся.
К ПОНИМАНИЮ ТЕРМИНА «ОБРАЗ»
Обоснованное нами выше понятие художественного образа охватывает основные, принципиальные особенности художественной литературы как особой формы идеологической деятельности. Образ в этом его понимании есть присущий искусству (и, в частности, литературе) способ отражения действительности. Говоря о том, что искусство образно отражает действительность, мы имеем в виду и содержание, и форму, и общественную функцию искусства.
Образность характеризует собой самый тип художественного отражения действительности.
Однако в современной литературоведческой практике весьма распространено стремление всякое, хотя бы в самой сжатой форме, очерченное в произведении явление трактовать как образ. Говорят в этом смысле об образе «товарища маузера» (стихотворение Маяковского «Левый марш»), об «образе парохода» (в стихотворении Маяковского «Товарищу Нетте...»), об «образе кровати» (на которой располагается Керенский в поэме Маяковского «Хорошо!») и т. д. Короче, изображение того или
иного предмета, тай или иной вещи, природного явления и т. п. трактуется как «образ вещи», «образ природы», «образ явления» и т. д. Эту терминологию нельзя признать закономерной. В центре художественного изображения стоит человек, изображение вещей и т. п. не имеет самостоятельного художественного значения, оно необходимо для конкретизации человека, определения того места и пространства, в котором он находится Изображение их столь же необходимо, как и изображение человека, но имеет подчиненное значение, определяется нормами определенной художественной иерархии. Если на картине нарисован человек, сидящий за столом в кресле, то это не значит, что на картине перед нами три самостоятельных и равноправных образа: стола, человека и кресла. Изображение стола и кресла столь же необходимо, как и изображение человека, без них он будет висеть в пространстве в уродливой и непонятной позе, но в то же время они не равноправны с человеком. Они являются лишь средством целостного его изображения. Более того, если на картине перед нами только вещи (натюрморт) или явления природы (пейзаж), то и они представляют ценность не сами по себе, а прежде всего как форма раскрытия определенного индивидуального человеческого взгляда на предметный и природный мир. Индивидуализированность изображения есть только одна сторона образного отражения действительности и не может поэтому быть основанием для возникновения самостоятельного художественного образного отражения действительности. В большей мере понятие образа приложимо в художественном произведении к изображению человека. В этом смысле чаще всего понятие «образ» и употребляется в смысле образа-характера (образ Татьяны, образ Онегина и т д). Характеры, действительно, представляют собой относительно целостные композиционные единицы художественного произведения, и в этом смысле термин «образ» применяется нами в дальнейшем изложении. Все же надо подчеркнуть, что изображение характеров включает в себя и изображение окружающего их предметного и природного мира, что за характерами стоят обобщения и т. д Поэтому было бы точнее говорить о том, что отличительным признаком художественного отражения действительности является именно о 6j)ji з н ость как самый принцип подхода писателя к действительности, а выражается эта образность в самых разнообразных конкретных формах, которые зависят от того непосредственного жизненного материала, которым оперирует писатель.
В последнее время в критике получило широкое распростра-нение стремление придаватьпонятиюобразасобирательное значение и говорить в этом смысле об «образе коллектива», «образе народа», «образе нации» и т. д Характерный пример находим в статье Б. Бурсова «Структура характера в «Войне
її
t ^
• І * l
(M
и мире» Л. Н Толстого». С одной стороны, автор говорит об образах Болконского, Безухова и других, т. е. об образах-характерах. Далее он выдвигает понятие «образа демократической России». Далее у него появляется «образ народа», которьш «дается в двух планах — как образ русской нации и как образ народной массы» При этом «в образ народа входят и образвг представителей дворянства». Далее оказывается, что «образ народной массы входит в образ нации и в то же время отчетливо выделяется из него»1. Как видим, здесь происходит обратная ошибка. В основу понятия образа кладется то или иное обобщение, намечающееся в произведении, хотя бы оно и было лишено каких бы то ни было конкретных индивидуальных признаков В подавляющем большинстве случаев понятие образа здесь заменяет вообще обобщенное отвлеченное понятие, которое зачастую принадлежит не автору произведения, а самому критику. Вместо «образа нации» мы с таким же основанием можем сказать «идея нации», «проблема нации», «изображение нации» и т. д Но обобщение само по себе не может создать целостной образной картины Здесь опять-таки незакономерно выделена лишь одна сторона образного отражения действительности.
Можно думать, что распространившееся в последние годы представление о собирательных коллективных образах связано с авторитетом А. С. Макаренко, который говорил в письме к Ф. Левину: «.. .мой герой всегда коллектив... Но и во многих произведениях советских писателей я вижу эту линию потребности. «Разгром», «Чапаев», «Поднятая целина» заключают очень большие коллективные образы и коллективные явления»2.
Однако нет оснований поддерживать эти взгляды А Макаренко. Названные им произведения безусловно богаты обобщениями, говорящими об исторической роли народа, о значении партии как организующей силы революции. Но здесь перед нами именно обобщения, вытекающие из общего идеологического содержания этих произведений, но они отнюдь не индивидуализированы в конкретных картинах, составляющих собой непосредственное содержание «Разгрома» или «Поднятой целины». Надо сказать, что и значение «Педагогической поэмы» самого А. Макаренко определяется именно богатством изображенных в этом произведении разнообразных характеров, и в частности центрального характера — характера повествователя, а представление об огромной силе коллектива — это чрез-
1 «Ученые записки ЛГУ», Ns 200, вып 25 «Русская литература», стр. 106—131.
* А С. Макаренко, О литературе, изд «Советский писатель»1, М., 1956. стр. 219,
вычайво ценное обобщение, которое вырастает из всего произведения в целом, но отнюдь не дано в сколько-нибудь индивидуализированном образе. Следует заметить, что критические работы, посвященные «Педагогической поэме», сосредоточивающие свое внимание на анализе «образа коллектива» (проходя мимо тех своеобразных и разнообразных характеров, которые этот коллектив составляют), чрезвычайно обедняют представление о широте и яркости образной ткани «Педагогической поэмы».
Так или иначе, но очевидна недопустимость такого нечеткого понимания термина «художественный образ», когда одновременно говорят и об «образе кровати» и об «образе Родины», об «образе парохода» и об «образе человека», об «образе океанов» и «образе слезы» и т д , ясно, что перед нами различные категории художественного изображения, требующие поэтому и различного наименования, которое вместе с тем отражало бы и иерархию этих категорий в художественном творчестве
Следует отметить еще ряд терминов, параллельных в той
или иной мере понятию характера персонаж, действую-
щее лицо, герой, тип Следовало бы упорядочить и üx._
употребление "Действующеетчцо и персонаж —- понятия, при
помощи которых мы обозначаем изображенного в произведении
человека безотносительно к тому, в какой мере глубоко и верно
он изображен писателем, хотя бы он был обрисован крайне
бегло. Характер — уже_более определенное понятие: мы говорим
о характере в том случае, если изображенный в произведении
человек обрисован с достаточной полндтпЮі—о-и редел е н_-
н о с т ь ю, так, что мы за ним чувствуем определенную нор_му_
общественного поведения ~~
В жизненных отношениях не всякий человек имеет характер, точно так же и не всякий персонаж — характер В произведении может быть десять персонажей, действующих лиц и всего один или два характера В свою очередь не всякий характер — тип. Тип — это уже типический в значительной мере характер. Это уже высшая форма характера, большое художественное обобщение. Наконец, герой зачастую трактуется как понятие, однородное с персонажем,— при таком употреблении этого термина можно сказать: герой этого произведения — старый растратчик и т. п Правильнее называть героем лишь такой характер, в который писателем вложено большое положительное содержание, в котором он утверждает определенную норму общественного поведения (например, Рахметов или Кирсанов в романе Чернышевского «Что делать?» или Пелагея и Павел Власовы в романе Горького «Мать»), т. е. когда изображаемый им характер может быть назван героем по заслугам. Нужно, однако, иметь в виду, что в существующей критической литературе все эти термины, не получив еще вполне устойчивого содержания,
3 Л. И Тимофесп 65
употребляются как параллельные один другому; поэтому во избежание путаницы или недоразумений следует в каждом данном случае определять, какое конкретное содержание вкладывается в эти термины данным автором.
І Ц
І t
РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
Мы до сих пор рассматривали вопрос о сущности литературного творчества, стремясь определить его наиболее общие свойства, выделить его основные черты, которые проявляются по существу в любом художественном произведении. Всегда мы будем в нем иметь дело с отражением жизни в связи с человеком, всегда будем наблюдать стремление к обобщению и в то же время к индивидуализированному изображению жизни, всегда будем замечать в нем наличие вымысла, всегда будем улавливать в нем эстетическую устремленность, т. е. стремление воплотить идеалы времени. Но эти общие черты образности как особой, именно искусству присущей формы отражения жизни проявляются в чрезвычайно разнообразных формах, в зависимости от исторической обстановки, определяющей метод и жанры художника, накладывающей на них свой отпечаток.
То определение образности, к которому мы выше пришли, есть общее определение, указывающее на основные задачи, которые в творческом процессе ставит перед собой художник. А как он осуществил и в какой мере полно смог осуществить те возможности, которые дает ему образность как особая форма отражения жизни,— это уже может определить лишь конкретный критический анализ, учитывающий в каждом данном случае ту историческую обстановку, в которой действовал художник, его мировоззрение, индивидуальность и т. д.
Понятно, что образное отражение жизни зависит прежде всего от того, как художник понимает жизнь, вообще, а это в свою очередь зависит от исторических условий, в которых он находится.
На самой ранней стадии развития искусства, в эпоху палеолита, первобытный художник не умел еще, например, передавать в своем рисунке позу животного, он был в состоянии лишь набросать его контуры, изображение человека имело у него голову, но без четко очерченного лица, ибо черты лица он еще не умел воспроизводить, так же как рука изображалась им без кисти. Нужно было очень долгое развитие искусства, чтобы человек научился более точно отражать явления действительности.
Точно так же и в литературе нужен был чрезвычайно долгий и отнюдь не прямолинейный путь от простейших словесных форм изображения до их развитых художественных форм, как
например «Илиада» или «Одиссея». Понятно, что и образность выступает перед нами в различные периоды развития искусства не как единая повторяющаяся форма, а в процессе своего развития. В простейшей дикарской песенке мы лишь с трудом различаем те ее первичные черты, которые лишь в конечном счете представляют собой образное отражение жизни.
Историческая обстановка- определяет и бесконечное разнообразие тех эстетических целей, которые возникают перед писателями в том или ином периоде развития общества, разнообра-зие тех эстетических идеалов, в свете которых они отражают и оценивают действительность.
Чернышевский в своей диссертации «Эстетические отноше-ния искусства к действительности» на примере понятия человеческой красоты в различной социальной среде с большой ясностью показал, что даже однородные жизненные явления получают различное освещение в зависимости от различных социально-исторических ситуаций:
«Хорошая жизнь», «жизнь, как она должна быть», у простого народа состоит в^ том, чтобы сытно есть, жить в хорошей избе, спать вдоволь, но вместе с этим у поселянина в понятии «жизнь» всегда заключается понятие о работе жить без работы нельзя; да и скучно было бы. Следствием жизни в довольстве при большой работе, не доходящей, однако, до изнурения сил, у молодого поселянина или сельской девушки будет чрезвычайно свежий цвет лица и румянец во всю щеку — первое условие красоты, по простонародным понятиям Работая много, поэтому будучи крепка сложением, сельская девушка при сытной пище будет довольно плотна,— это также необходимое условие красавицы сельской: светская «полувоздушная» красавица кажется поселянину решительно «невзрачною», даже производит на него неприятное впечатление, потому что он привык считать «худобу» следствием болезненности или «горькой доли». Но работа не даст разжиреть если сельская девушка толста, это род болезненности, знак «рыхлого» сложения, и народ считает большую полноту недостатком; у сельской красавицы не может быть маленьких ручек и ножек, потому что она много работает... Одним словом, в описаниях красавицы в народных песнях не найдется чи одного признака красоты, который не был бы выражением цветущего здоровья и равновесия сил в организме, всегдашнего следствия жизни в довольстве при постоянной и нешуточной, но не чрезмерной работе.
Совершенно другое дело светская красавица' уже несколько поколений предки ее жили, не работая руками, при бездейственном образе жизни кровч льется в оконечности мало; с каждым новым поколением мускулы рук и ног слабеют, кости делаются тоньше; необходимым следствием всего этого должны быть маленькие ручки и ножки —они признак такой жизни, которая одна и кажется жизнью для высших классов общества,— жизни без физической работы; если у светской женщины большие руки и ноги, эго признак или того, что она дурно сложена, или того, что она не из старинной хорошей фамилии .. Мигрень, как известно, интересная болезнь — и не без причины от бездействия кровь остается вся в средних органах, приливает к мозгу... неизбежное следствие всего этого — продолжительные юлов-ные боли и разного рода нервические расстройства; что делать5 и болезнь интересна, чуть не завидна, когда она следствие того образа жизни, который нам нравится... болезненность, слабость, вялость, томность также имеют... достоинство красоты, как скоро кажутся следствием роскошно-бездейственного образа жизни... люди... которым .. часто бывает скучно от безделья и отсутствия материальных забот, ищут «сильных ощущений,
3* 67
волнений, страстей»... А от сильных ощущений, от пылких страстей человек скоро изнашивается как же не очароваться томностью, бледностью красавицы, если томность и бледность ее служат признаком, что она «много жила»?
Мила живая свежесть цвета,
Знак юных дней,
Но бледный цвет, тоски примета,
Еще милей!
Но... истинно образованный человек чувствует, что истинная жизнь — жизнь ума и сердца Она отпечатывается в выражении лица, всего яснее в глазах — потому выражение лица, о котором так мало говорится в народных песнях, получает огромное значение в понятиях о красоте, господствующих между образованным людьми; и часто бывает, что человек кажется нампрекрасен только потому, что у него прекрасные выразительные глаза... главные принадлежности »-еловеческой красоты... производят на нас впечатление прекрасного потому, что в них мы видим проявление жизни, как понимаем ее» '.
Таким образом, сохраняя по существу свои общие функциональные свойства, образное отражение действительности практически, в зависимости от своеобразия исторической обстановки, выступает перед нами в бесконечно разнообразных формах. Мы всегда будем наблюдать в художественном творчестве определяющую эстетическую направленность, интерес к изображению тех сторон действительности, которые связаны с человеческой жизнью,— индивидуализацию, обобщение, художественный вымысел и т. д. Но все эти свойства образного отражения жизни получают каждый раз новое и непохожее на предшествующее историческое содержание в зависимости от того, в какой реальной общественной среде, в какой конкретной исторической обстановке проявляются эти свойства образного отражения жизни. Вот почему при изучении творчества писателя нам необходимо не только определить те общие свойства, которые позволяют нам рассматривать его произведения как проявление общих принципов образного отражения действительности, но и прежде всего осмыслить индивидуальное, конкретное, исторически обусловленное своеобразие его творчества.
Общие свойства искусства могут быть поняты только в их историческом проявлении. Сами по себе они говорят лишь о его функциональной направленности сравнительно с другими формами идеологической деятельности. Живую плоть и кровь образное отражение действительности получает лишь тогда, когда оно одухотворяется индивидуальным способом осуществления писателем этих закономерностей искусства в данной исторической обстановке в зависимости от его реальных эстетических целей.
1 Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений в 15 томах, т. II, Гослитиздат, М., 1949, стр. 10—11,
В какшг бы бесконечно разнообразных формах ни развивалось искусство, осуществляя в той или иной исторической обстановке свои особые идеологические функции, оно в творчестве каждого художника предполагает как его основу наличие познанной им меры, законов красоты, т. е. определенного эстети* ческого идеала, представления о прекрасном в жизни. Во имя прекрасного художник и создает свои произведения, за него он борется своим творчеством, к нему зовет всех воспринимающих его произведения.
В основе его представлений о прекрасном лежит его мировоззрение, определенное его классовыми позициями, лежат те общественно-политические идеалы, которые он выражает. Но в творчестве эти идеалы выступают в своем конкретном воплощении. Прекрасное раскрывается художником как определенный тип человеческого поведения. Вот почему мы и выделяем искусство как особую форму выражения общественного идеала, конкретизированного, переведенного на язык человеческой практики, получившего форму прекрасного, идеала эстетического.
Анализ творчества художника необходимо должен_привести_ К определению того эстетического идеала (практически — идеалов), который лежит в основе его творчества, управляет его оценками жизни, отбором тех явлений, о которых он говорит.
Эстетический идеал в искусстве (в особенности в литературе *) находит свое выражение в облике его носителя, реализующего идеал в жизни, в человеческой практике, т. е. в образе положительного героя (либо в образе отрицательного героя, препятствующего достижению идеала). Воздействие искусства на общество опирается прежде всего на тот тип человеческого поведения, который оно рисует, показывая конкретный путь к достижению идеала и к преодолению всего, что ему в жизни противостоит.
Создание образа положительнпго героя —. важнейшая задача искусства на каждом этапе его развития, определяющая его воспитательное значение, поскольку в нем искусство показывает образец для поведения человека в жизни.
В. И. Ленин говорил: «... величайшая заслуга Чернышевского в том, что он не только показал, что всякий правильно думающий и действительно порядочный человек должен быть революционером, но и другое, еще более важное: каким должен быть революционер, каковы должны быть его правила, как к своей цели он должен идти, какими способами и средствами добиваться ее осуществления»2. Здесь определено то значение,
1 См.: Н. Гей, В. Пискунов, Эстетический идеал советской лите
ратуры, изд. АН СССР, 1962.
2 Сб. «В. И Ленин о литературе и искусстве», М., I960, стр. 651—652.
которое в искусстве имеет образ положительного героя. Один из деятелей русского революционного движения — Мартынов-Пикер так рассказывал о воздействии романа «Что делать'»; «Сильное впечатление на меня произвел... роман Чернышевского «Что делать'». Я помню, что, подражая Рахметову, я медленно тушил папиросы на руке, а один мой школьный приятель шел еще дальше: он прокалывал руку перочинным ножиком»4.
Понятно, что эстетический идеал шире понятия положительного героя, не совпадает с ним. Эстетический идеал присущ творчеству вообще и присутствует и в тех произведениях, которые рисуют отрицательные стороны жизни. Вызываемая ими «тоска по идеалу» и есть в конечном счете утверждение эстетического идеала, к которому стремится писатель В образе положительного героя, однако, значение эстетического идеала обнаруживается с наибольшей действенностью
Если искусство прошлого по тем или иным причинам и не создает такой конкретный образ в том или ииом периоде своего развития, то самой критикой действительности, разоблачением того строя жизни, который не дает возможности возникнуть такому положительному герою, гневным изображением отрицательных сторон жизни — всем этим оно показывает путь к развитию в человеке черт, ведущих к утверждению в жизни такого героя. Но изображение положительного героя, как и вообще человека в искусстве, предполагает изображение его в жизненном процессе в отношениях с другими людьми, его участия в тех или иных событиях, развития его характера в зависимости от окружающих условий.
Сам по себе жизненный процесс всегда диалектичен. В жизненном процессе мы всегда сталкиваемся и со вчерашним, т. е. с тем, что отходит, отмирает в нем, и с сегодняшним, тес тем, что в нем господствует, а также с тем, что в нем рождается — передовым, завтрашним, которое идет на смену сегодняшнему.
Целостное понимание жизненного процесса в единстве всех его элементов, в его диалектическом развитии есть возможность, которая каждый раз по-своему, с самой различной степенью приближения к этой возможности осуществляется в жизни, т е в данном случае в искусстве того или иного исторического периода
Говоря об эстетическом идеале и образе положительного героя как необходимых условиях отражения жизни в искусстве, мы можем сказать, что и отражение диалектичное™ жизни, т е. реального процесса ее развития, хотя бы и в самых неясных формах, является столь же необходимым условием.
ние
1 Энциклопедический словарь института Гранат, т 41, ч 2 Приложе-— «Автобиографии» (деятели СССР и Октябрьской революции), стр 4.
Но основой исторического процесса общественного развития является неустанная борьба народных масс за освобождение, развитие в каждой национальной культуре — по учению Ленина — демократических и социалистических элементов Вопрос о демократичности искусства, об отражении в нем опыта и запросов народа или, наоборот, о его антидемократичности, короче — вопрос о народности искусства неразрывно связан с отражением диалектики жизненного процесса, с раскрытием его завтрашнего дня
Эстетический идеал предполагает его носителя — положительного героя, последний в конечном счете не может быть показан вне жизненного процесса, т. е. борьбы народа за освобождение в данных исторических условиях Вне этих основных моментов не может_ос4ОД££Івдяться образное отражение жизни
Каждая эпоха выдвигает перед человеком новые жизненные проблемы, ставит его в новые отношения к различным сторонам действительности Ставя в центр своего внимания судьбу человека в общественном процессе, именно через изображение человека отражая все многообразие окружающей его действительности, искусство и должно каждый раз найти и показать ту новую систему отношений к важнейшим сторонам действительности, в которую человек вступает на каждом новом этапе ее развития В русской литературе XIX века, например, Пушкин показывает человека прежде всего в той системе отношений, которая характерна для дворянского общества, и лишь нащупывает (в «Дубровском», «Капитанской дочке») его взаимоотношения с народными массами, с крестьянством Именно этот новый круг отношений, связанный с выходом на первый план крестьянства, определяет новый характер изображения человека Львом Толстым во второй половине XIX века Новая система отношений, вытекающая из той роли, которую в конце XIX века приобретает рабочий класс, определяет собой новую творческую систему, которую создает М. Горький
Этот процесс ни в какой мере не следует представлять себе как чисто социологическую схему смены различных социальных характеров Он охватывает всю художественную структуру литературного творчества Человек выступает в определенных сюжетных ситуациях, в связанной с ним речевой атмосфере, в окружающем его природном и вещном мире. Смена характеров в литературном процессе есть смена и сюжетных, языковых особенностей, жанровых форм, портретной и пейзажной живописи и т. д. И вместе с тем самые эти характеры не даны в произведении в плане их бесстрастного описания, хотя бы и художественного. Отношение писателя к жизни не может быть нейтральным. Творческий процесс в своей основе есть прежде всего выражение активного отношения художника к действи-
телъйости, творческий отбор, идейная оценка, утверждение или отрицание, приговор над жизнью — по определению Чернышевского, суд над ней и прежде всего над собой — по словам Ибсена: «Творить. Это суд суровый, суд над самим собой». Герои литературного произведения либо являются носителями идеала писа« теля, либо подвергаются осуждению в свете этого же идеала.
Проблема положительного героя, при всем ее исторически
обусловленном многообразии, как это показывает история ми
ровой литературы, всегда стоит в центре внимания писателя
(обусловливает и круг создаваемых им отрицательных обра
зов). И воплощение этого образа положительного героя связано
со всеми сторонами художественной структуры, вплоть до тон-
-, f € чайших языковых оттенков. Общие свойства образного отраже-
|! I ния жизни получают, таким образом, в каждом конкретном про-
изведении писателя свое индивидуальное воплощение, вплоть до самых частных деталей повествования.
В каждом произведении искусства мы найдем пример проявления общих особенностей образного отражения действительности: те или иные картины человеческой жизни, индивидуализированной и вместе с тем обобщенной, наличие вымысла, определенную эстетическую окраску. Эти особенности образного отражения действительности связаны (в зависимости от данной исторической обстановки) с конкретным кругом подсказанных этой обстановкой эстетических идеалов и положительных героев, с определенным пониманием исторического процесса и роли народа как движущей силы этого процесса. Эти основные конкретно-исторические творческие тенденции осуществляются во всех деталях художественной структуры произведения искусства. Общие принципы образного отражения действительности находят бесконечно разнообразные исторические формы своего осуществления в конкретных художественных произведениях — от сложнейших многотомных эпопей до предельно лаконичных лирических стихотворений.
Рассмотрим с этой точки зрения стихотворение Некрасова:
Вчерашний день, часу в шестом, Зашел я на Сенную, Там били женщину кнутом, Крестьянку молодую
Ни звука из ее груди, Лишь бич свистал, играя . И Музр я сказал «Гляди! Сестра твоя родная!»
С одной стороны, мы видим здесь общие свойства образного отражения действительности: конкретную картину человеческой жизни и стоящее за ней обобщение, эстетический идеал, который выражен здесь путем изображения трагических сторон
жизни, противоречащих этому идеалу. Эти общие черты проявились в конкретных исторических формах: Некрасов говорит о страданиях народа, о крепостном праве в России, о поэзии, которая должна отдать себя борьбе за интересы народа. В те же годы Фетом было написано стихотворение совсем другого рода;
Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья, Серебро и колыханье
Сонного ручья, Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца, Ряд волшебных изменений
Милого лица, В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..
Фет, как известно, представитель совсем иной социальной среды, чем Некрасов, чуждый и враждебный взглядам Некрасова на действительность Он проходит поэтому мимо напряженной общественной борьбы своей эпохи, отстраняется от драматических картин насилия и гнета в крепостной России, ограничивается миром интимных, личных переживаний. Общие черты образного отражения действительности связаны у него с иными идеалами, с иным представлением о человеке, с иным отношением к народу, а это определяет то, что он отбирает, сравнительно с Некрасовым, совсем иные жизненные явления и совсем другие художественные средства для их изображения. Общие особенности образного отражения жизни в зависимости от исторической среды могут получать, следовательно, полярные по своему различию формы художественного осуществления Отчетливо представляя себе общие свойства образности, мы лишь в конкретном художественном произведении можем понять и определить, как, в каких формах и в силу каких исторических причин нашли они свое индивидуальное художественное воплощение. Очевидно, однако, что сходство исторической обстановки, социальной среды и т д. будет сказываться и на сходстве осуществления общих особенностей образного отражения жизни в ряде литературных произведений
ЗНАЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ПРОШЛОГО
Может, однако, возникнуть мысль, что общественное значение имеет только литература современная, которая говорит с читателем, так сказать, на его языке, т. е. ставит вопросы, его интересующие, борется за идеалы, ему непосредственно близкие. А литература, созданная писателями прошлого, естественно, не
-j'l
і
имеет связи с читателями современности: вопросы, их волновавшие, чужды нам, идеалы, за которые боролись писатели прошлого, устарели, не могут нас затронуть, наконец, сами эти писатели, связанные каждый со своим классом и его идеологией, далеки ог нас, а зачастую и враждебны нам по своим взглядам. Следовательно, представление об эстетическом и воспитательном значении литературы справедливо лишь в применении к литературе сегодняшнего дня — в широком, конечно, смысле этого слова; как только литература отходит в прошлое, она должна потерять свое значение.
Этот вопрос в свое время занимал еще Пушкина. Однако он дал на него ответ совершенно иной. «Если век может идти себе вперед,— писал он,— науки, философия и гражданственность могут усовершенствоваться и изменяться, то поэзия (художественная литература.— Л. Т.) остается на одном месте, не стареет и не изменяется. Цель ее одна, средства те же. И между тем как понятия, труды, открытия великих представителей старинной астрономии, физики, медицины и философии состаре-лись и каждый раз заменяются другими — произведения истинных поэтов остаются свежи и вечно юны» Ч
И в самом деле, наш непосредственный читательский опыт говорит нам, что произведения, созданные даже в далеком 'Прошлом, живы и для нас, связаны с нашими интересами, хотя, поскольку умерло то общество, в котором они возникли, казалось бы, должны были бы умереть и они.
«.. .Возможен ли Ахиллес в эпоху пороха и свинца? — говорил по этому поводу Маркс.— Или вообще «Илиада» наряду с печатным станком и вообще типографской машиной? И разве не исчезают неизбежно сказания, песни и музы, а тем самым и необходимые предпосылки эпической поэзии, с появлением печатного станка?
Однако трудность заключается не в том, чтобы понять, что греческое искусство и эпос связаны с известными формами общественного развития. Трудность состоит в понимании того, что они еще продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном смысле сохраняют значение нормы и недосягаемого образца»2.
Можно было бы указать на то, что литература прошлого имеет для нас безусловное познавательное значение. В ярких, конкретных формах, в непосредственных характерах и жизненных событиях она показывает нам жизнь прошлого и помогает определить свое отношение к нему. Но литература прошлого ценна для нас не только этим общепознавательным значением.
'А С Пушкин, Полное собрание сочинений, т 6, изд. АН СССР, 1937, стр 540-541.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 12, стр. 737. ;
74 -
Лучшие произведения литературы прошлого важны для нас не только тем, что мы находим в них богатые и в меру возможностей данного писателя верные картины из жизни прошлого, а также — как своеобразные документы эпохи — взгляды самого писателя.
Легко заметить, что лучшие произведения литературы прошлого интересуют нас не только чисто исторически. Судьбы и переживания героев вызывают в нас непосредственное жизненное к ним отношение и волнение, зачастую большее, чем при чтении некоторых произведений современной литературы. Легко убедиться в том, что эти произведения не вышли и сейчас из нашего обихода.
МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЯ
Выше мы уже говорили, что всякое литературное произведение в основе своей является отражением жизни, данным с точки зрения писателя. Оно прежде всего выражает чувства -и мысли писателя, является событиеж, его внутренней жизни, только в том случае, если писатель выразил в своем произведении то, что его волновало, оно будет задевать и чувства читателя, волновать его. В этом смысле всякое произведение является выражением мировоззрения писателя, который высказывает в кем свое отношение к миру, дает ему свою оценку.
Мировоззрение художника прежде всею сказьгва.еіся-~в_вьі-боре того, о чем он говорит в своем произведении.
Из всего многообразия окружающих его жизненных явлений и всего многообразия свойств каждого из них художник выбирает лишь некоторые. «Проследите иной, даже и вовсе не такой яркий на первый взгляд факт действительной жизни,— и если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира... Никогда нам не исчерпать всего явления, не добраться до конца и начала его»1, — говорил Достоевский.
Этот выбор определяется тем, что писатель считает данные явления более интересными, более важными, более существенными, чем другие.
Таким образом, творческий процесс начинается с выбора тех явлений, которые писатель выделяет из ряда остальных жизненных явлений. Этот выбор есть результат оценки им этих фактов, выражает его отношение к ним. Л эта оценка является выражением идеологии писателя, его классовых взглядов, его политических, партийных позиций.
1 Ф. Достоевский, Дневник писателя. Собрание произведений, т, XI, 1927, стр. 423,
I
III
%
ü ;f
Следовательно, начальный творческий момент неразрывно связан с мировоззрением писателя: это выбор явлений, о которых он говорит. Но явления находятся друг с другом в очень сложной связи, в самых разнообразных переплетениях, из которых писатель опять-таки должен сделать выбор. В зависимости от того, в какой связи мы изображаем явление, оно приобретает каждый раз особый характер, так как, вступая в связи с различными явлениями, оно обнаруживает особые свойства. Ленин говорил, что даже простейшее явление нельзя понять, не зная, в какой связи оно находится с другими: «Стакан есть тяжелый предмет, который может быть инструментом для бросания. Стакан может служить как пресс-папье, как помещение для пойманной бабочки, стакан может иметь ценность, как предмет с художественной резьбой или рисунком, совершенно независимо от того, годен ли он для питья... Чтобы действительно знать -предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все связи и «опосредствования» '.
Выделяя различные связи, в которых явление находится с другими явлениями, мы тем самым дадим и различную характеристику и сам-ого этого явления. Художник и выделяет те связи, которые он считает наиболее важными и характерными. «Рассказать все,— писал Мопассан,— было бы невозможно, потому что тогда потребовалось бы не менее тома на каждый день для перечисления множества незначительных эпизодов, заполняющих наше существование. Таким образом, отбор делается неизбежным»2.
Как выбор явлений, так и изображение тех связей, в которые они вступают с другими явлениями, зависят, следовательно, от той же оценки их художником, т. е. опять-таки определяются его мировоззрением. .
Выбрав явления в определенной их связи, художник не может не высказать к ним отношения, не дать им своей оценки. Мы всегда чувствуем, как он относится к своим героям, как оценивает то, о чем он нам рассказывает.
Художник выбирает для изображения ту или иную сторону жизни и связанные с ней человеческие характеры. Он заставляет их действовать так, чтобы в них выступили черты, представляющиеся ему наиболее существенными и важными, в его языке рассеяны всякого рода определения и характеристики людей и событий, подсказывающие нам отношение к ним. Короче, все произведение пронизано авторскими оценками изображенного в нем жизненного материала.
1 В. И. Л е н и н, Поли. собр. соч., т. 42, стр. 282—290. 3 Г и де Мопассан, Предисловие к роману «Пьер и Жан». «Литературные манифесты французских реалистов», 1935, стр. 133.
Характерно- замечание Гёте: «В любом произведении искусства, великом или малом, все до последних мелочей зависит от замысла»1.
Тайш образом, выбор явлений, изображение связи их-друг сдругом и оценка их — все это представляет собой непосредственное осуществление в творчестве мировоззрения художника. С этой точки зрения нет ни одного элемента в произведении, в котором мы не могли бы установить связи с мировоззрением художника, с его идейными позициями, B-широком смысле слова с его партийностью. Но к этому вопросу мы вернемся, говоря о социалистическом реализме.
Но есть еще одна сторона в произведении, о которой мы не говорили, — это сами явления жизни, которые художник отбирает, связывает и оценивает в зависимости от своего мировоззрения. Они-то не зависят от него: изменить тот факт, что они в жизни существуют, он не может, как бы он к ним ни относился.
Марксизм исходит, говорил Ленин, из признания объективной, «т. е. не зависящей от человека и от человечества, истины»2. Как бы ни относился художник к тем или иным сторонам жизни, он не может пройти мимо них. Это общий закон человеческого сознания. Ленин говорил, что нельзя верить буржуазным философам и экономистам ни в едином слове, когда они делают общие выводы из своих материалов, т. е. дают им оценку, но в то же время без их работ нельзя и обойтись, нельзя сделать ни шагу, поскольку в них собраны весьма ценные факты, которым следует лишь дать иную оценку, сделать из них иные выводы, отмечая, как Маркс использовал то, что было до него сделано человеческой мыслью, Ленин указывал, что Маркс «сделал те выводы, которых ограниченные буржуазными рамками или связанные буржуазными предрассудками люди сделать не могли»3.
Тем более насыщены реальными жизненными фактами художественные произведения. Это потому, что художник стремится в них показать человека во всей сложности его жизненной обстановки и, следовательно, в особенности стремится насытить свое произведение всякого рода конкретными деталями и подробностями, сохраняющими свое значение, как бы сам художник к ним ни относился.
Следовательно, мы можем в литературном произведении найти весьма большое количество материала для размышлений о той стороне жизни, которую рисует художник, причем, поскольку он дает нам факты, характеризующие эту жизнь, мы
1 Гёте, Статьи и мысли об искусстве, изд. «Искусство» М.—Л., 1936,
стр. 328.
2 В. И. Ленин, Поли. собр. соч., т. 18, стр. 134.
3 В. И. Л е н и и, Поли, собр соч., т. 41, стр. 304.
вправе прийти к иным выводам сравнительно с теми, к которым пришел он сам. Оценка художника не исключает возможности нашей оценки, которая может далеко разойтись с его оценкой.
Вот почему мы можем найти у художников целый ряд замечаний, в которых они настаивают на том, что в их произведениях выступает сама жизнь
«Точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни есть высочайшее счастье для литератора,— говорил Тургенев,— даже если эта истина не совпадает с его собственными симпатиями» *.
Уже приводившиеся слова М. Горького, что «образ почти всегда шире идеи», особенно легко иллюстрировать ссылкой на работу воображения художника. Мы видели, что писатель основывает свой вымысел не на своем произволе, а на том, что должны делать его герои в самой жизни.
Вот почему произведение, со всей силой выражая мировоззрение писателя, в то же время несет в себе и материал, который может расходиться с этим мировоззрением
Энгельс писал о том, что произведение может иметь большое значение, «даже независимо от взглядов автора», и приводил в качестве примера Бальзака. «Бальзак,— писал он,— по своим политическим взглядам был легитимистом. Его великое произведение — непрерывная элегия по поводу непоправимого разложения высшего общества; его симпатии на стороне класса, осужденного на вымирание. Но при всем этом его сатира никогда не была более острой, его ирония более горькой, чем тогда, когда он заставлял действовать именно тех людей, кото-рым он больше всего симпатизировал,— аристократов и аристократок. Единственные люди, о которых он всегда говорит с нескрываемым восхищением, эго его самые ярые противники — республиканцы .. Я считаю одной из величайших побед реализма, одной из наиболее ценных черт старика Бальзака то, что он принужден был идти против своих собственных классовых симпатии и политических предрассудков, то, что он видел неизбежность падения своих излюбленных аристократов и описывал их как людей, не заслуживающих лучшей участи, и то, что он видел настоящих людей будущего там, где их единственно и можно было найти»2.
Как видим, здесь Энгельс с предельной отчетливостью подчеркнул, что произведение дает нам реальное изображение жиз-ленного процесса, даже если этот процесс не отвечает тем требованиям, которые предъявляет ему писатель.
1 И С Тургенев, Собрание сочинений в 12 томах, т. 10, Гослитиздат,
1956, стр. 349
2 К Маркс и Ф. Энгельс, Избранные письма, Гослитиздат, М.,
1953, стр. 405-406.
Таким образом, творчество писателя шире его мировоззрения, т. е. его системы взглядов на общество и природу, хоія мировоззрение и лежит в основе творчества. Поэтому-то жизненный материал, изображенный писателями прошлого, далекими от нас по своему мировоззрению, в том случае, если они обладали широким опытом, знанием жизни и были в достаточной мере правдивы в его отражении, сохраняет для нас свое значение. Мы можем по-своему истолковать его, придать ему новое освещение, исходя уже из своего мировоззрения. А можем мы это сделать потому, что факты в изображении писателя сохраняют свои свойства даже в том случае, если писатель ис-* толковывает их неправильно.
Наиболее ярким примером в этом отношении является живопись. В искусстве, отражающем все стороны жизни применительно к человеку, задача индивидуализации изображаемых явлений выступает с исключительной остротой, потому что человек может быть показан лишь как индивидуальность и в столь же реально воспроизведенной жизненной обстановке, в которой он действует
Сохранение форм самой жизни в изображении ее обеспечивает художнику возможность наиболее полного и убедительного всестороннего ее раскрытия.
Эта сторона искусства с особенной наглядностью и обнаруживается в живопиги. В ней даже религиозно-мистическое осмысление действительности не может быть выражено иначе, как в реальных формах, воспроизводящих человека в его телесной конкретности, в живой обстановке окружающего его предметного и природного мира.
Мадонна Рафаэля, например, окутана покрывалом, опоясана перевязью, держит в руках книгу, показана на фоне сельского пейзажа, и, если бы не нимбы, окружающие головы ее и ее божественного младенца, мы восприняли бы ее просто как портрет женщины, правда, соотнесенной с высшим ее идеалом — полной одухотворенности, кротости, смирения и жертвенности, но все же воспроизводящей в своем облике живые и реальные черты и подробности своего времени
Сикстинской мадонне придано неземное свойство — она парит на облаке, но в остальном ее изображение опять-таки насыщено всеми чертами конкретности. Даже попытки изображения неземного мира, как такового, не могут преодолеть этого тяготения живописца к телесности. Ангелы, парящие на картине Корреджо «Святая ночь» или поклоняющиеся святому младенцу на картине Филиппино Липпи, обладают крыльями и подняты лад землей. Но это и все, чем смогла фантазия художника выразить неземной характер в остальном вполне реальных человеческих фигур, изображенных на картине в качестве ангелов.
./у/..,
Чрезвычайно характерна в этом отношении картина Тинто-ретто «Битва архангела Михаила с сатаной», которую ведут крепкотелые ангелы, располагающие боевой техникой своего времени — копьями и мечами. Силы сатаны представлены фигурами фантастическими, но по сути дела варьирующими, однако, черты различных животных и птиц. К ним вполне можно применить характеристику, данную искусствоведом Максом Дворжаком демоническим образам картины Шонгауэра-«Искушение святого Антония»: «Любопытно отметить, — пишет он,— какой ограниченной оказывается человеческая фантазия, когда задача состоит в том, чтобы при помощи фантастических образов выйти за пределы реальных форм... Звери с отдельными •частями человеческой фигуры, действующие, как люди,— не настоящие звери, а выдуманные и при том все же не абстрактные .символы, а существа, наделенные убедительною реальностью, которая базируется на том, что в основе этих о&разов лежат •представления, связанные с наблюдением реального органического животного мира. Все, что в области движений, функций и выразительности характерно для рыбы, ящерицы, для лягушачьего тела, птичьих ног, собачьей морды, крыльев летучих мышей, головы хищной птицы и ее когтей,— все это перерабатывается в новые образы... Эти фантастика и сказочность обусловлены не только религиозными учениями и человечьими поступками, но и в не меньшей степени наблюдениями над жизнью природы»J.
В свою очередь неземные существа положительного характера в живописи представляют собой, по выражению того же Дворжака, «синтетическое изображение человека в образах богов»2.
Могут заметить, что итальянские художники XV—XVI веков прорывались к воспроизведению всего реального богатства окружающей действительности, как бы преодолевая уже ветшавшие религиозные представления.
Однако тот же закономерный процесс сохранения реальных черт самой жизни, несмотря на сугубо религиозное ее восприятие, мы можем наблюдать на примере такой насыщенной религиозным пафосом живописи, какой являлась катакомбная живопись раннего христианства II—III веков. «Ей надо было,— говорит тот же исследователь,— не изображать совершенные по форме тела героических людей, замечательные в земном отношении действия и положения, а призывать к молитве и поднимать души над всем земным... Местом изображения видений и знаков ставится уже не обусловленная и ограниченная земная
1 Макс Дворжак, Очерки по искусству средневековья, М., 1934,
стр. 190—193.
2 Т а м же, стр. 45,
'обстановка, а идеальное свободное пространство, в котором все ощутимое, измеримое, механически связанное потеряло всякую власть и значение. Пространство уводит глаз в неограниченные глубины, и в этом движении вглубь организуются фигуры, которые далеки от всякого подражания действительности, которые стал« беспредметными, как сон» *.
И все же, помимо того, что черты реальной обстановки тогдашнего времени упорно просачиваются и в это «свободное пространство» (как это убедительно показано в послесловии А. А. Сидорова к книге М. Дворжака), сами человеческие фигуры «орантов» (молящихся),изображенные христианскими художниками, сохраняют ощутимый реальный облик, дают нам
ВОЗМОЖНОСТЬ СУДИТЬ И О ЛЮДЯХ И О ЖИЗНеННОЙ Обстановке ТОГО
От фидиевского Зевса до врубелевского Демона стремление создать облик неземного существа не выходило, да и не могло выйти за пределы видоизмененных,… Эта сила познавательного, воспроизводящего начала искусства, отражающего… Поэтому, изучая произведение искусства, мы всегда видим в нем и его объективную сторону, то, что обусловлено в немРбшенаРОГЩПГП дняцрнцд^ЛРн'цнпрНи.п и Jl І
Понятно, однако, что, поставив общенародную пдобдему. художник может разрешить ее, если он исходит из реакционного мировоззрения, в таком плане,… Сб. «Ленин о литературе», Гослитиздат, М., 1960, стр. 660.Л. И. Тимофеев
Сложность общественных отношений отражается и в сложном комплексе характеров произведения. Но в результате связей и взаимодействия их возникает… Всякий характер есть в той или иной мере обобщение, в него вложена идея… всей системе характеров, называют основной идеей произведения.КОНКреТНУЮ СИСТеМУ СОбЫТИИ В ІШиИзВеДеНИИ. КОТОрая ряркпынярт
'М Горький, Собрание сочинений в 30 томах, т. 27, Гослитиздат, М-1953, стр. 215, произведении всегда видно,— заметил Белинский,— как взаимные отношения… На пересечении этих двух тенденций (в событии проявляется характер, в событии обобщаются характерные для жизни…Л. И. Тимофеев
Стоя под парами,— пишет M Горький,— тяжелые гиганты пароходы свистят, шипят, глубоко вздыхают, и в каждом звуке, рожденном ими, чудится… Эта широкая перспектива, данная в начале рассказа, помогает читателю более… ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЮЖЕТА6* 163
Точно так же может иметь самые различные формы и законченность сюжета, о которой говорилось. Понятно, что законченность эта относительна. Писатель не может, конечно, дать законченного развития жизненного процесса вообще, так как он находится в непрерывном развитии. Речь идет об изображении относительно законченных этапов этого процесса, об изображении тех или иных конкретных жизненных столкновений в их относительной завершенности. Поэтому писатель может показать всего один эпизод из жизни человека. Показателем законченности сюжета является то, что дальнейшее развитие изображенных в нем событий привело бы к возникновению новых столкновений, уже не вытекающих из тех, которые развернулись в данном сюжете. В «Челкаше», например, конфликт Челкаша и Гаврилы закончился так, что дальнейшее изображение судьбы каждого из них потребовало бы новых конфликтов и событий, т. е. нового сюжета. Превращение Ниловны в романе «Мать» из забитой женщины в активную участницу революционного движения завершается ее арестом. Дальнейшее изображение ее жизни было бы уже изображением нового этапа ее жизни, показом новых противоречий, потребовало бы уже иных событий, т. е. нового сюжета.
С точки зрения возникновения, развития и завершения жиз-нейного конфликта, изображенного в произведении, т. е., другими словами, развития данного характера, можно говорить об основных элементах сюжетного построения, представляющих собой главные моменты в развитии изображаемого в нем жизненного конфликта.
Как всякий относительно законченный момент жизненного процесса, конфликт, лежащий в основе сюжета, имеет начало, .развитие и конец.
Для того чтобы знать причины его возникновения, мы должны знать ту жизненную среду, в которой он возник, те силы, столкновение которых вызвало его к жизни. Для того чтобы понять его значение, мы должны знать результаты, к которым он привел. Отсюда вытекают те основные разделы, которые мы устанавливаем в сюжете.
Обрисовка среды, в которой возник конфликт, условий, которые вызвали его к жизни, представляет исходный пункт сюжетной организации. Это так называемая я к f П п_^иДЛ я
В романе «Мать» М. Горького первая глава представляет собой экспозицию: она рисует жизнь рабочей слободки и те условия, в которых складываются характеры изображаемых в романе людей.
Следующим важным моментом в организации сюжета яв-гля£тся завязкд действия.
Завязтож является cuUUl'HÜ, с которого начинается действие и благодаря которому возникают последующие события.
J64 ^~—-
Экспозиция не определяет действия—она создает только фон для него; завязка же определяет действие, благодаря ей события получают уже определенное, конкретное развитие. Экспозиция романа «Мать» не дает еще представления о том, какие события будут развертываться в романе, но момент вступления Павла в революционный кружок уже определяет дальнейшее развитие и, следовательно, является их завязкой. Превращение Павла в революционера является основой всех дальнейших событий; оно как бы завязывает узел событий, который в дальнейшем будет перед читателем распутываться. Павел становится революционером, вступает в борьбу с существующим социальным строем; отсюда вытекает неизбежность столкновения с этим строем, т. е. определяется характер дальнейших событий. Точно так же в «Капитанской дочке» Пушкина экспозиция (жизнь Гринева дома) еще не определяет дальнейшего хода действия. Но решение отца отправить его на военную службу является завязкой; благодаря ему получают возможность произойти все дальнейшие события.
От завязки действия мы переходим к развитию деист-в и я. Писатель показывает тот ход сооытии, то их" [ШУИТгТТП'Г" которое вытекает из основного «толчка», из завязки. У Горького я романе «Мать» мы наблюдаем развитие действия в ор--ганизации Павлом подпольного печатания листовок, в организации им рабочей молодежи, в том авторитете, которым пользуется он среди рабочих, в преследованиях, которым он подвергается. С другой стороны, действие включает переживания матери Павла и ее постепенную перестройку и борьбу в Павле личного и общественного (его отношения с Сашей), деятельность второстепенных персонажей (Рыбин, Весовщиков и другие). Но все эти различные линии действия связаны именно с революционной деятельностью Павла, из нее вытекают.
—• Развитие действия приводит, наконец, к наибольшему напряжению, к решающему столкновению борющихся сил, к так называемой кульминации, к вершинному пункту борьбы. В романе «МатІЛ Таким решающим моментом можно считать демонстрацию; она является осуществлением той задачи, которую стремился выполнить Павел, в ней с наибольшей силой сталкиваются борющиеся стороны, в ней определяется решающий перелом в развитии сознания матери.
После кульминации наступает развязка, т. е. показ автором того положения, которое создалось в результате развития всего действия. В романе развязкой является временное по^_ ражение революционеров, аресты, ссылка?
Практически все эти основные элементы сюжетного построения— экспозиция, завязка, нарастание действия, кульминация, развязка — могут быть да-ны в самых разнообразных формах,
и иногда отдельные звенья этой сюжетной цепи могут быть пропущены. Для нас в определении этих основных узлов сюжета важно не простое описание, наименование, определение той или иной части повествования как экспозиции или завязки. Для нас важно прежде всего их конкретное содержание, т. е. определение того, какое событие, какая форма общественных отношений выдвигаются писателем в качестве завязки, в качестве кульминации. Так, не случайно, конечно, что у Горького кульминацией является демонстрация: определяющий момент в истории характера Ниловны совпадает (точнее — определяется) с напряженнейшим моментом общественной борьбы. Наоборот, у Пушкина в «Капитанской дочке» кульминация дается лишь применительно к личной судьбе Гринева: кульминацией с точки зрения окончательного определения судьбы Гринева в «Капитанской дочке» является встреча Маши Мироновой с Екатериной, после чего только выясняется судьба Гринева. Следует вообще предостеречь от ошибки считать кульминацией наиболее яркое событие произведения. Поскольку сюжет есть история характера, постольку все узловые пункты сюжета определяются именно в связи с их значением для развития характера. Кульминация, вершинный пункт,— это момент, имеющий определяющее значение для судьбы данного характера. События, следующие после кульминации, только развивают уже определившийся ход действия, тогда как до кульминации действие может принять самое неожиданное развитие. Судьба Гринева во всех происходящих с ним событиях (при взятии Бело-горской крепости, при поездке в Бердскую слободу к Пугачеву, при аресте) еще неясна, и только встреча Маши с Екатериной доводит положение до высшего напряжения и разрешает его в определенном направлении.
Таким образом, в анализе сюжета для нас важно не чисто логическое определение его узловых пунктов, но анализ их реального содержания для лучшего понимания обрисовываемого при их помощи характера, а в большом эпическом произведении — характеров. Этот анализ чрезвычайно поучителен и с точки зрения изображения писателем связи событий между собой, т. е. с точки зрения последовательности изложения им причин и следствий, которые управляют данными событиями.
Писатель может и не давать экспозиции вначале, а дать ее после завязки в качестве объяснения последней («задержанная экспозиция»), он может поставить ее в конце («обратная экспозиция») и т. п.— все это зависит от того, как он понимает жизнь в ее развитии и как хочет ее изобразить.
Одним из видов экспозиции является введение в повествование сведений о действующих лицах вне непосредственной связи с изображаемыми событиями: сведений о том, что было
до начала изображаемых событий (форгешихте)', между этими событиями (цвишенгешихте) и, наконец, после них (нахге-шихте). Все эти особенности построения сюжета (не в смысле номенклатурного, описательного определения их, а в связи с изображаемыми в произведении характерами, т. е. осмысленные как средства их раскрытия, дополнительной их характеристики) могут давать при изучении произведения существенный материал для понимания и идейной его сущности, и изображенных в нем характеров.
Так, легко заметить, что в «Мертвых душах» Гоголя мы имеем дело с очень задержанной экспозицией и с форгешихте Чичикова, поставленными почти в самый конец «Мертвых душ». Только в самом конце мы узнаем, как формировался характер Чичикова и в чем состояла сущность его деятельности. Более того, «Мертвые души» не имеют даже завязки; мы с самого начала сталкиваемся с уже определившейся деятельностью Чичикова: он приезжает в город, заводит знакомства, начинает скупать «мертвые души», но зачем ему это нужно, что толкнуло его на эти поступки, из какого, так сказать, зерна выросли все эти события, нам неизвестно, и только в самом конце становится понятен весь ход действия. Для чего это было нужно Гоголю, чем помогает изображению характера Чичикова, его художественной убедительности это перенесение экспозиции и завязки в конец романа?
Ответив на вопрос, почему экспозиция и завязка «Мертвых душ» даны в конце первой части, в XI главе, мы тем самым глубже подойдем к пониманию этого характера. Понятно, что сама по себе такая перестановка элементов сюжета ни о чем не говорит. Нам важно понять ее в связи с самими характерами и тем жизненным процессом, который стоит за ними.
Конфликт, лежащий в основе «Мертвых душ», состоит прежде всего в столкновении двух противостоящих друг другу сил: с одной стороны, перед нами дворянство, ведущее тихую и мирную жизнь, с другой — Чичиков-«приобретатель», как его называет Гоголь, хищник, пользующийся некультурностью и косностью дворянства для наживы. В этом конфликте, в этой борьбе противоположных характеров Гоголь отразил то основное противоречие общественной жизни, которое уже определялось в конце 30-х — начале 40-х годов в России и которое состояло во все более обострявшейся борьбе феодально-крепостнического общества с развивающимися элементами капитализма.
В характере Чичикова Гоголь и показывал новую силу, вторгшуюся в тихое, косное, патриархальное дворянское поместье и разрушавшую его, вносившую в него растерянность, сумятицу, подрывавшую привычные устои жизни.
І-т-
i't
Ü
ї
f s
! L
i
'1
Чичиков — фигура, непонятная дворянской среде и инородная ей. Это одно из основных свойств этого характера. Не случайно, что Гоголь так дорожил в «Мертвых душах» повестью о капитане Копейкине, в которой непонятность Чичикова для этой среды, взбудораженной его появлением и его деятельностью, выступает с такой отчетливостью.
Чичиков сразу появляется в «Мертвых душах» как вполне определенная фигура, в то же время чрезвычайно неясная в своей определенности:
В ворота гостиницы губернского города въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка .. В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, не слишком толст, нельзя сказать, чтобы стар, однако и не так, чтобы слишком молод.
Смисл деятельности Чичикова, точно так же как и условия образования и развития его характера, не известен читателю; перестановка экспозиции и завязки в данном случае представляет собой сюжетное средство изображения характера, определенной его трактовки — в этом ее содержательность. Определив реальное содержание экспозиции и аавязки (т. е. тот жизненный материал, который в них вложен) и поняв смысл их соотношения с другими элементами сюжета, мы ближе подходим к пониманию характера, его жизненного содержания и идейного освещения его автором. Само по себе определение экспозиции, завязки и других узловых пунктов сюжета, отнесение к ним определенных разделов данного произведения не имеют значения, не приближают нас к пониманию произведения. Только поставив их в связь с содержанием, поняв их связь с характерами и через/них связав их с жизнью, мы их осмыслим и сделаем необходимым звено целостного анализа литературного произведения.
Важно помнить, что построение сюжета выражает собой авторское понимание жизненного процесса. Анализ своеобразного построения сюжета у данного автора натолкнет нас на те или иные вопросы, освещающие его мировоззрение, его жизненный опыт. Поэтому-то сюжеты больших художников всегда своеобразны, индивидуальны.
Говоря о том, что в основе композиции и сюжета лежит отражение жизненных противоречий, конфликтов, характерных для того или иного исторического периода, мы вместе с тем не должны представлять это отражение как непосредственное воспроизведение этих жизненных конфликтов в их непосредственной форме. Художественный конфликт (лежащий в основе сюжета), за развертыванием которого мы .следим в произведении, един, но не тождествен с конфликтом жизненным. В ли-
Іературяом произведения мы чаще всего находим как бы изображение следствий тех основных конфликтов, которые развертываются в жизни. В рассказе Чехова «Спать хочется» непо-». редственный художественный конфликт — трагическая судьба девочки, попавшей к бесчеловечным людям, но, вдумываясь в него, мы находим причину, т. е. то общественное противоречие, которое ставит людей в такое положение.
Достоинство художественного произведения не только в том, что писатель отразил тот или иной важный жизненный общественный конфликт, айв том, в какой конкретный художественный конфликт он его перевел, в каких реальных человеческих поступках, мыслях, переживаниях сумел раскрыть его значение для людей как причины, рождающей самые разнообразные следствия в судьбах людей
«Война и мир» занимает свое место в нашем сознании не только потому, что Лев Толстой говорит в этом романе о событиях огромной важности, но и потому, что он показал с необычайной глубиной, как эти события выразились в индивидуальной судьбе его героев, в тех частных художественных конфликтах, которые возникли как следствие основного общественного конфликта — Отечественной войны Точно так же и в «Тихом Доне» Шолохова именно полнота раскрытия частных конфликтов, определяющих жизнь его героев, приводит нас к пониманию величественного смысла основных событий эпохи. И если писатель не сумел произвести такой переплавки своего материала в живые и конкретные судьбы своих героев, то его произведение не проникнет глубоко в сердце и ум читателя.
ИСТОРИЧНОСТЬ СЮЖЕТА
Композиция и сюжет определяются не только связью их с изображаемыми характерами, но и их реальным содержанием, т. е. тем, какой жизненный материал положен писателем в их основу, следствием каких причин они являются Всякий характер является в той или иной мере представителем определенной среды, которую мы понимаем в широком смысле — как всю общественную обстановку, окружающую человека. Этой среде присущи определенные отношения между людьми, находящие свое выражение в тех или иных событиях, конфликтах и т. д., для нее типичных, т. е. таких, в которых обнаруживаются характерные для данной среды человеческие отношения. Так, например, запуск спутника является типическим для нашей страны событием — в нем обнаружились основные черты людей нашей общественной среды и отношение к человеку вообще. Мы можем, следовательно, говорить о типических для
данной среды событиях, конфликтах и т. п. и, наоборот, б нетипических, случайных и т. п. Как мы помним, типическое не равнотначпо наиболее частому — событие может быть типическим, несмотря на свою единичность.
Раскрывая через события черты изображаемых характеров, писатель, естественно, стремится к тому, чтобы подобрать такие события, в которых обнаружатся типические черты этих характеров, а это может произойти лишь в том случае, если он сумеет найти события, которые действительно типичны для данной общественной среды, действительно требуют проявления существенных черт характера.
Перед писателем, таким образом, встает задача отбора типических для изображаемой им общественной среды событий. В сюжете отражаются существенные для данной среды жизненные конфликты, действительно характерные для нее события и поступки людей. В этом прежде всего содержательность сюжета. Мы должны оценивать сюжет не только с точки зрения его мотивированности характером, но в конечном счете и с точки зрения его мотивированности жизнью. Точно так же и в анализе узловых моментов сюжета нам важно их реальное содержание, т. е. какие именно события положил в основу их писатель, в какой мере они типичны.
Таким образом, и в композиционно-сюжетной структуре произведения мы можем наблюдать основные черты образного изображения жизни вообще: ее индивидуализирующее значение, ее связь с характерами, с человеческой практикой.
Наряду с типизмом событий, выбранных писателем, чрезвычайно существенно также разобраться в связях этих событий друг с другом; правильно подметив характерность тех или иных событий, писатель должен еще причинно их обосновать, т. е. показать их закономерные связи. Чем полнее обнаружены эти связи, тем глубже, типичнее, следовательно, раскрыто и данное событие, и наоборот. Здесь идет речь о содержательности композиции сюжета, о том, что в их основе лежит сама жизнь.
В этом смысле и композиция, и сюжет не представляют собой по существу продукта произвола писателя, они обусловлены теми конкретно-историческими условиями, в которых писатель находится. Но в пределах этой обусловленности писатель располагает в достаточной мере широкими возможностями для активной разработки сюжета, ведущей к определенной оценке характера. Однако от тех классовых позиций, на которых он стоит, от уровня его культуры, от знания жизни зависит, конечно, то, какие жизненные факты сумеет он отобрать и обобщить, на что будет направлено его внимание, в какой мере сумеет он установить закономерные связи между событиями, между событиями и характерами и т. д.
Анализ композиции и сюжета приводит нас к необходимости оценки их с точки зрения самой жизни, т. е. с точки зрения их содержательности, их типизма, закономерности их связей, Jipn-чинной их обусловленности, соответствия их характерам и действительности, за ними стоящей.
Это бесспорное положение об исторической обусловленности сюжета сталкивается, однако, с точно таким же бесспорным фактом повторяемости сходных сюжетов у различных авторов, в различные эпохи, в различных произведениях.
Так, например, в эпосе различных народов мы можем встретить сюжет, основанный на бое отца с неузнанным сыном; в античном эпосе — бой Одиссея с Телегоном (сыном Одиссея и Кирки, родившимся в его отсутствие, поехавшим на розыски отца и вступившим с ним в бой), в германском — Гильдебранда с Гадубрандом, в иранском — бой Рустема с Сохрабом (Зора-Гом), в русском — бой Ильи Муромца с Сокольником и т. д. Рассказ о царе, который превратился в нищего и после долгих испытаний стал опять царем, мы находим в сборнике индийских рассказов «Панчатантра» (I—III вв. н. э.), в римских сказаниях, в украинской и русской сказке, в рассказе Гаршика «Сказание о гордом Аггее»
Сюжет «Фауста» переходил от автора к автору, начиная с «Народной книги» о докторе Фаусте, вышедшей в Германии в 1587 году, через английского драматурга Кристофера Марло к немецким писателям (Лессингу, Мюллеру, Гёте), затем к русским (Пушкину), вплоть до наших дней (драма Луначарского «Фауст и город»). Столь же сложна история сюжета «Дон-Жуана». Часто встречаются сходные сюжеты у разных авторов и без такой сложной истории сюжета; так, очень сходны сюжеты рассказа Конан-Дойля «Шесть Наполеонов» и «12 стульев» Ильфа и Петрова и т. д.
Такого рода случаи столь многочисленны, что приводят к мысли о какой-то особой устойчивости сюжетов, позволяющей им переходить из страны в страну, от автора к автору и т. п. Существует даже термин — «странствующие», или «бродячие», сюжеты, который и указывает на эту присущую сюжету живучесть. Этот факт как будто разрушает наш вывод о том, что сюжет вытекает из данных характеров и тем самым историчен. Наоборот, оказывается, что он приходит к писателю из другой исторической среды и тем самым самостоятелен, не зависит от характеров. Следовательно, ставится под сомнение и положение о единстве формы и содержания.
Было предложено много объяснений этому явлению. Мифологическая теория (Гримм, Макс Мюллер и другие) говорила, что сходство сюжетов объясняется тем, что они возникли из первоначальных мифов, которые представляли собой, так сказать, «прасюжеты». Однако сходство сюжетов у народностей,
которые не имели общей мифологии, опровергает это объяснение. Распространена была и теория заимствований (Коскен, Келлер), считавшая связь сюжетов результатом той или иной исторической и культурной связи народов и прослеживавшая те пути, которыми данный сюжет мог переходить из одной страны в другую. Но и эта теория опровергалась указанием на сходство сюжетов у народностей, не имевших никаких связей (сюжет «Мальчика с пальчик» имеется и в русской сказке, н в сказке племени зулу).
При этом сюжет понимался как наиболее общая схема произведения, что приводило к отрыву его от характеров, к тому, что он превращался в условное обозначение, лишенное конкретного исторического содержания.
Между тем для понимания этого противоречия (сюжет связан с характером, раскрывает его и в то же время существует до создания характера) нужно учесть то, что в человеческой жизни существует ряд общих сторон, вызывающих сходные жизненные конфликты и ситуации в различной исторической обстановке Выше мы видели, что образы оказываются устойчивее своей исторической обстановки, потому что в них могут быть уловлены общие человеческие свойства, поэтому они могуг сохранять свое значение и для других эпох. В них мы наблюдаем единство общего и исторического. Это же единство мы наблюдаем и в области сюжета. Сюжет обобщал устойчивую жизненную ситуацию. Такая же ситуация в другой среде рождала сходный сюжет. В те времена, когда в семье главенство4 принадлежало женщине (матриархат), встреча отца с сыном, которого он не узнает, могла привести к рождению сюжета такого типа, независимо от того, что сходный сюжет уже был найден в другой стране. Известная психологическая ситуация (нелюбимый муж, верность долгу, отвергнутая любовь и т. п.) может встретиться и в очень различных условиях и привести (в случае типичности своей для данной жизненной обстановки)" к возникновению параллельных сюжетов у разных авторов, так же как неоднократно делались параллельно различные открытия и изобретения В этом смысле каждый сюжет, при .всем его сходстве с другим, как бы рождается заново, вытекает из данных исторических, социальных, этнографических, психологических условий
Таким образом, мы можем говорить о самозарождении сюжетов безотносительно к «прасюжету» или к обязательному заимствованию его
Возможны, однако, случаи, когда художник, решая свою творческую задачу, находит у своих предшественников примеры, сходные с тем, что его интересует, ситуации, в которых и его характеры могут выказать свои черты с достаточной полнотой. В этом случае он может усвоить себе тот или иной сюжет, corn
ианный в прошлом, поскольку этот сюжет является родствен-Іьім в данной жизненной обстановке, мог бы родиться и в ней. И здесь перед нами остается в силе вопрос: какие черты характера данный сюжет раскрывает, какие стороны жизни, стоящей за характерами, обобщает?
Поэтому и прямое заимствование сюжета, если неред нами подлинно художественное произведение, не разрушает единства формы и содержания, историчности формы, соотношения основных элементов произведения в той их последовательности, о которой мы вначале говорили. В принципе каждый сюжет рождается наново, в своей исторической обстановке, независимо ог предшествующих ему сюжетов. Он есть форма данного исторического содержания, необходимо из нее вытекающий и в нее переходящий. Но практически он может возникать в результате переноса его данным автором на свой исторический ма-тер'иал, поскольку он не противоречит ему, с ним органически сливается.
Это единство общего и исторического в сюжете есть частный случай проявления характерной вообще для искусства закономерности- многое в нем не создается каждый раз заново, а как бы применяется все к новым и новым задачам, не столько рождается, сколько возрождается, не теряя от этого своей неразрывной связи каждый раз именно с данной исторической обстановкой.
Именно поэтому мы всегда должны стремиться к тому, чтобы осмыслить даже при условии повторения и заимствования (конечно, если перед нами серьезное творчество) данную языковую и композиционно-сюжетную структуру произведения в их единстве с характерами, т е в их художественной мотивиро ванности, в силу чего мы можем уже определить и типичность языка и сюжета, и их индивидуализирующее значение. Анализ идеи и темы переход и т, следовательно, в а на л и з характеров, вне которых они представляют собой абстрактные, лишенные художественной специфики формулы. Анализ характеров переходит в анализ языка, сюжета, композиции, вне которых характеры не существуют В свою очередь анализ языка и композиции переходит в анализ характеров точно так же, как характеры переходят в тему и идею произведения в целом
Перед нами, следовательно, то единство формы и содержания, те переходы содержания в форму и формы в содержание, о которых мы говорили в начале нашей книги. Анализ произведения, следовательно, представляет собой единый анализ содержания и формы, причем он осуществим именно тогда, когда мы подходим к произведению как к целому. Попытки рассмотреть сюжет или язык изолированно бесполезны именно потому, что мы
будем изучать их вне их содержательности, не учитывая их художественной мотивированности. И анализ характеров будет недостаточен, если мы не поймем их связи с событиями, через которые они обнаруживают свои свойства, не покажем, что в их языке проявляются их существенные черты. Наконец, соотнесение характеров с жизнью и проверка ею того идейного комплекса, который писатель стремился вложить в свое произведение,— все это может быть осуществлено именно тогда, когда мы подходим к конкретному произведению как к целому, поскольку оно является простейшей единицей литературного процесса.
Поэтому четкое представление о структуре литературного произведения и о принципах и формах его анализа, вытекающее из понимания сущности и задач литературного творчества, является необходимым условием и критической, и историко-литературной работы.
Глава четвертач
ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
D художественно-литературном произведении основным сред-СІВОМ, при помощи которого художник достигает индивидуализации изображения жизни, наряду с композицией и сюжетом является язык. Язык, естественно, присущ не только художественно-литературному творчеству. Он представляет собой форму общественного сознания, охватывающего все стороны окружающей человека действительности. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы, не занимаясь общей характеристикой языка как такового (что не входит в область нашей науки), определить те специфические особенности языка, когда он выступает как средство художественно-литературного отражения действительности, как «первоэлемент литературы» — по определению Горького, как явление стиля писателя.
Язык художественной литературы при всем его своеобразии подчиняется общим законам, управляющим развитием языка ьообще. Язык, по определению Маркса, «возникает лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми» Ч Эта основная функция языка, являющегося средством общения людей между собой, остается, естественно, обязательной для художественной литературы, так же как и для всех других форм идеологической надстройки.
Эту свою функцию общения язык осуществляет благодаря тому, что он неразрывно связан с сознанием, мышлением.
Функция познания и функция общения — две основные, неразрывно связанные между собой стороны языка как особой формы общественного сознания.
1 К Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т 3, стр 29
В процессе своего исторического развития слово может изменять первоначальное значение, оно может забываться, но тем не менее, прослеживая, как оно возникло, мы найдем в нем следы живой связи с явлением, что и привело именно к такому, а не иному наименованию этого явления, выделило в нем определенное его свойство в результате непосредственного взаимодействия с ним человека в данный период.
Мы сейчас уже не воспринимаем конкретного содержания таких слов, как, например, изба, сутки, чернила, чан, ошеломить, окно, портной и т. д., в такой мере, что образуем от этих слов уже новые слова (избач, избяной, подоконник и т. д.). Между тем мы в этих словах первоначально имели дело с выявлением определенных признаков тех явлений, которые ими обозначены. Так, изба первоначально — помещение, которое можно отапливать (истопить, отсюда — истопка) ; постепенно слово в звуковом отношении настолько изменилось1, что для нас изба скорее связана с представлением о жилом деревянном строении. Сутки — период времени в 24 часа, тогда как слово происходит от ткать, им обозначалось нечто сотканное вместе, соединение двух кусков ткани, шов; позже сутками вообще стали называть всякого рода стыки, например угол в избе, затем сумерки — стык дня и ночи и, наконец, самые день и ночь вместе.
Первоначальный признак некоторых слов уже настолько стерся, что мы употребляем их в значениях, им противоречащих, говоря, например, о красных чернилах (черный, делать черным), об отрезанном ломте (отламывать) и т. д. Мы уже не видим связи слова чан со словом доска, от которого оно произошло (ср. досчаник), мы не скажем, откуда название города Брянск, в котором выпали начальные две буквы (Дебрянск, от дебри, т. е. город среди лесов), так же как в слове инок (монах) мы уже не воспринимаем его первоначального значения (от один, одинокий и т. д.).
Точно так же мы уже «е чувствуем связи между многими словами, близкими по своему первоначальному значению; так, ряд слов типа скопляться, купец, покупать, копна, скупщина (сербск. собрание) осознается нами изолированно, несмотря на их генетическую связь.
Все эти примеры важны для нас тем, что они показывают, как возникновение слова связано с выделением в явлении какого-нибудь признака, который почему-нибудь представился основным, с которым чаще всего сталкивались, которым были заинтересованы.
1 Изменение шло примерно следующим образом, истопка — истба — изба.
По этой причине одно и то же явление может быть на разных языках обозначено различно вследствие выделения в нем различных признаков как основных. Так, портной в русском языке происходит от слова порт — кусок ткани, тогда как французское tailleur, немецкое Schneider происходит от tailler, schneiden, т. е. кроить, резать. Чернила по-французски (encre), по-английски (ink), по-итальянски (inchiostro) восходят к латинскому encanstum, отмечавшему прежде всего тот признак, что чернила варились, подогревались, а немецкое (Tinte) и испанское (tinta) (от лат. tinguo — красить) исходят из другого признака, отмечают их красящие свойства.
В русском языке название цветка подснежник имеет в виду прежде всего раннее время его появления, то, что он появляется еще из-под снега, тогда как в немецком языке на первый план выделены цвет и форма колокольчика (Schneeglöckhen), а в английском языке — только цвет (snowdrop).
Эти примеры говорят о том, что слово связывает представление человека с каким-нибудь характерным, основным признаком явления, не выделяя другие его свойства, которые могут быть весьма различны и обнаруживаются в процессе взаимодействия этого явления с другими. Позднее эта непосредственная связь слова с конкретной стороной данного явления стирается, заменяется более общим и менее определенным содержанием в связи с изменением его функции.
Так, говоря о чернилах, мы имеем в виду уже не конкретный их признак — цвет, а более общие их свойства, обозначающие и красные, и зеленые, и прочие чернила. Чернила для нас уже не то, чем чернят, а то, чем пишут.
Все эти примеры в конечном счете подводят нас к выводу о том, что слово в момент своего возникновения есть не что иное, как определенное суждение человека о данном явлении, выделяющее в нем наиболее существенные для человека в данный момент свойства и качества. Создание слова — это* познание человеком явления, осмысление его; слово и мысль неразрывны, язык — непосредственная действительность мысли. Как и всякое суждение, слово несет в себе и отражение данного явления, и известное отношение к нему, оценку, сказывающуюся, как мы помним, прежде всего в самом процессе отбора, в выделении именно этого, а не какого-либо иного признака в явлении и т. д. Поэтому-то явление оказывается богаче слова, т. е. мы видим в нем и такие его свойства, которые не вошли в суждение о нем, когда создавалось данное слово, да и не могли войти, ибо их в сущности нельзя и предусмотреть.
Достаточно нам задуматься над историей того или иного слова или выражения, как оно приведет нас к определенному ходу мысли, связанному с тем или иным явлением. Из слова
будут выступать обычаи и события, иногда тысячелетней давности, отложившиеся в языке.
Язык — это своеобразная память народа, закрепившая его прошлое и сохраняющая настоящее для будущего. *
Если мы возьмем названия московских улиц (в ряде случаев измененных), они восстановят старинный облик Москвы. Мы ощутим ее границы, так как ряд улиц обозначит еще не застроенные пространства: Воронцово поле, Девичье поле, Полянка, Моховая, Болото, Остоженка (здесь были луга и стояли стога); дороги: Тверская, Калужская, Серпуховская, Дмитровка (в Дмитров), Ордынка (по ней ездили в Орду — к татарам, на юго-восток) ; места укреплений, прорезанные воротами: Ильинские, Покровские, Никитские ворота; пригороды: Арбат (по-арабски — пригород); заставы под городом, где взимали пошлину (мыт) за въезд в Москву: Мытная, Мытищи; другие улицы укажут нам на социальное лицо города — ремесленные поселения: Кожевники, Сыромятники, Гончарная, Хамовники (хаман — инд —полотно), Басманная (басма — тиснение по золоту и серебру); места, где жили царские слуги: Поварская, Столовый, Хлебный, Чашников, Калашный и другие переулки; ряд улиц скажет о том, с какими народностями была связана старая Москва: Армянский переулок, Татарская улица, Немецкая слобода; в Толмачевском переулке жили в годы господства Орды толмачи — переводчики. За каждым названием улицы скрывается сложное содержание, определенный ход мысли.
Точно так же в Англии, например, названия городов, в которые входит окончание кестл (Ньюкестл и др.), говорят о том, что они возникли на месте, где был лагерь римских войск (каст-рум), а в Скандинавии окончания страна (берег), зунд (пролив), вик (залив), хольм (остров) обозначают города, расположенные по линии морского берега, хотя местами море уже отступило и они стоят на суше.
Многие слова хранят в себе память о тех или иных обычаях и событиях. Известно выражение дамоклов меч. Оно возникло еще в IV веке до н. э., когда сиракузский тиран Дионис повесил над головой своего придворного Дамокла меч на конском волосе. Мы поймем выражение работать спустя рукава только тогда, когда мы представим старинную русскую одежду, у которой рукава были длинней руки. Работать поэтому можно было только подняв рукава Странное словечко подкузьмить станет понятно, если мы будем знать, что в день святого Кузьмы (1 ноября) в России повсеместно происходил расчет помещиков с работавшими у них сельскохозяйственными рабочими, причем, естественно, происходил массовый обсчет неграмотных батраков, получавших гораздо меньше, чем им полагалось.
Непонятное обозначение неудачи выражением остаться с носом (в чем как будто нет ничего плохого) объяснится, если мы
узнаем, что нос в старину обозначал приношение, подарок (носить), с которым ходили в приказ к подьячим с просьбами Если дело было безнадежно или нос был мал и подьячий его не брал, то проситель действительно оставался с носом, и это говорило о том, что он потерпел неудачу
Есть слова, которые несут в себе имена людей, которым обязаны своим происхождением данные явления (шрапнель изобретена Шрапнелей, макинтош — Макинтошем, браунинг —Браунингом, пулемет Максим — Максимом; Жан Нико в 1560 году завез во Францию табак, и появилось слово никотин; в IV веке до н. э. воздвигли надгробный памятник на могиле галикар-насского властителя Мавзола, и с тех пор существует слово мавзолей и т. д), или городов и стран, где они появились (пистолет изобретен в Пистойе, байонет — штык — введен в армии маршалом Вобаном при осаде Байонны в XVII веке, муслин делали в Моссуле, нанку — в Нанкине, фаянс — в Фа-энце, ландо — в Ландау; вспомним многочисленные названия вин, связанные с городами: бордо, малага, мадера и др.). Даже ошибки живут в слове. Капитан Кук, высадившись в Австралии в 1770 году, спросил у туземца, как называют удивившее его своим видом животное, и получил ответ: «Кенгуру» («Я тебя не понимаю»). Так это животное и стало называться кенгуру.
Но и в том случае, если у нас нет предметной связи слова с тем или иным явлением, мы легко восстановим стоявший за словом ход мысли, если вдумаемся в него, уловим его связь с другими словами. Обозначения меры длины (англ, фут —нога, персидск. аршин — локоть), цвета (голубой — от голубь, фиолетовый— от фиалка, оранжевый — от апельсина, франц. orange), животных (медведь — едящий мед, поедатель меда), птиц (петух — поющий), пищи (ветчина — от ветхое, ветщина — сохраняющееся впрок или от вечьца — свинья, вечьчина — ветчина, свинина) и т. д. — все это показывает суждения, лежащие в основе слова, превращающиеся в определенную мысль по поводу того или иного явления жизни
Мы уловим эту мысль даже в остатках слов, уже отмирающих в языке. Известная нам по произведениям XIX века частица с, прибавлявшаяся для почтительности (да-с, нет-с), сохранилась от старых времен и была когда-то целым словом — государь. Потом оно сократилось в сударь, потом в скорой речи превратилось в су, затем лишилось и у. Таких остатков слов в языке можно найти порядочно: мы встречаем де, мол, бишь, вишь — это все значившие когда-то слова (де — от деяти — говорить, мол — от молвить, бишь — от баишь, вишь — от видишь). Даже отдельные звуки связаны в нашем сознании с теми или иными смыслами; суффикс -к- дает слову ласкательную
«фаску (ручка), -шико — презрительную (домишко), -ина — увеличительную (домина} и т. д.
С тем же явлением мы сталкиваемся и в области синтаксиса; части речи связаны в нашем созналии с отражением определенных явлений жизни; существительное говорит о предметах, прилагательное — о качествах, свойствах, глагол — о действиях, состояниях, предлоги и союзы — об отношениях и сочетаниях предметов и т д. Каждый элемент языка, так сказать, пронизан смыслом.
Очень поучительна для понимания смысловой работы слова так называемая народная этимология, осмысление иностранных слов (слов, в которых как раз не ощущается живой ход мысли для того, кто не знает языка) в связи со словами родного языка. Происходит это потому, что говорящий хочет осмыслить незнакомое слово, найти в нем какую-то смысловую опору. Так переиначиваются иностранные фамилии- Паскевич — в Башкевич, Востром — в Быстрое, Гаррах — в Горохов, Кос фон Дален — в К,озодавлев, Каллаш — в Калашов, а потом в Калачев, Гамильтон становится последовательно Гамантовым, Гаматовым и наконец Хомутовым Точно так же фитиль переделывается в светиль, циркуль — в чиркуль, букет —в пукет (пук), коклюш — в кашлюк, дилижанс — в лежанец, название корабля— рейзешив — превращается в расшивуі. Известно переосмысление иностранных слов у Лескова («Левша»): ажитация — ожидация, барометр — буреметр, таблица умножения — долбица умножения, фельетон — клеветой, микроскоп — мелко-скоп и др. Характерен эпизод в «Войне и мире» Л. Толстого, где солдаты переделывают имя французского мальчика Вин-цент и зовут его Висеня и Весенний. Когда русские солдаты были во Франции в 1812 году, непонятные названия французских городов они переделали на свой лад: Валансьен стал Во-лосень, Като — Коты, Овен — Овин. Подобным образом китайская бухта Да-Лянь-ван стала Дальний.
Судьба некоторых из таких переделок позволяет уловить и бытовые причины, которые их подсказали. Странно, например, на первый взгляд, что переделки некоторых церковных слов получили отнюдь не церковный оттенок; например, слово куролесить произошло от кириелейсон (восклицание в церкви, означающее «господи, помилуй»), а смысл его явно далек от его происхождения Аналогично слово катавасия с явно недвусмысленным значением, происшедшее от церковного термина кага-басиа (нисхождение, пение двух клиросов вместе). Может по-
1 t;
! Г
1 Еще Тредиаковский приводил такие примеры' роздых от нем Rast-tag, чудодело от итал. Читаделла Многочисленные примеры таких словообразований — в книге Е. Кариовича «Родовые прозвания и титулы в России и слия-йие иноземцев с русскими» (Спб, 1886, стр. 41—67 и др.).
казаться, что здесь перед нами, наоборот, пример бессмысленной переделки. На этот вопрос отвечает, однако, справка из истории русской церкви. В XVI—XVII веках необычное развитие богослужений привело к тому, что церковные службы получили очень упрощенный характер, развилось многогласие, т. е, одновременное богослужение нескольких священников в одной церкви, что приводило к шуму и путанице; служили так скоро, что особенно ценились те, кто мог произвести молитву в кратчайший срок. В «Житии Григория Неронова» говорится про «шум 9 козлогласование» в церкви, так как там «церковное со-вершаху пение... гласы в два, три и шесть», почему «невозможно бяще слушающему разумети поемого и чтомого»1. С многогласием и другими явлениями, создававшими «козлогласование», велась долгая борьба, пока было установлено единогласие, устранено совершенно искажавшее язык путем произвольных вставок в слова лишних слогов так называемое хомовое пение, делавшее непонятными молитвы, и т. д. Вот в этой очень своеобразной обстановке и возникли (как видим, не £ез основания) слова куролесить и катавасия
Работа мысли в языке сказывается и в чрезвычайно отчетливой детализации явления, если оно требует подробного осмысления, Это выражается в развитии синонимов, т е близких по смыслу — созначащих — слов, позволяющих уловить в явлении нужный нюанс. В известном словаре русского языка Даля дается, например, такой ряд синонимов для слова серьезный: чинный, степенный, дельный, деловой, внимательный, озабоченный, занятой, думный, вдумчивый, важный, величавый, сгрогий, настойчивый, решительный, резкий, сухой, суровый, пасмурный, сумрачный, угрюмый, насупистый, нешуточный, и можно, говорит он, насчитать еще с десяток слов У него же находим синонимы к слову кокетничать: заискивать, угодничать, любезничать, прельщать, умничать, жеманничать, миловзорить, рисоваться, красоваться, хорошиться, пичужить и т. д.
Перед нами в языке, таким образом, чрезвычайно развитая работа мысли, вглядывающейся в детальнейшие особенности данного явления, улавливающей его оттенки Очевидно, что для писателя эти свойства языка в особенности важны, так как помогают ему нарисовать конкретную картину жизни Любой перелив мысли вызывает к жизни и перелисы слова вплоть до мельчайших оттенков интонации, темпа и звукового строя речи.
Общее для языка свойство многозначности слова, игра всякого рода оттенков, стоящих за уловленным в слове главным признаком явления, для писателя приобретает особенно важное значение.
1 Т. Ливанова, Очерки и материалы по истории русской музыкальной культуры, 1938, стр. 56.
Укажем прежде всего на то, что слово получает дополнительную смысловую окраску от окружающих его слов.
Возьмем пример, приводимый известным адмиралом Шишковым (автором манифестов, обращенных к народу во время Отечественной войны 1812 года): «Несомый быстрыми конями, рыцарь внезапно низвергся с колесницы, и расквасил себе рожу». Пример этот вызывает смех, поскольку последняя часть фразы контрастирует с началом ее. Фраза эта смешна потому, что мы совместили слова разной эмоциональной окраски, поставили их в неестественном контексте
Таким образом, не меняя слова, а лишь совместив их необычным образом, писатель может придать им индивидуальный оттенок, выразив благодаря ему свое индивидуальное отношение к явлению.
Наоборот, подбирая слова одной эмоциональной, социальной или какой-либо иной окраски, художник может усилить их именно благодаря их единству, близости друг к другу. Так, Блок, определяя в записной книжке, как он будет работать над образом Гаэтана (в пьесе «Роза и крест»), записывает для себя. «Не* глаза, а очи, не волосы, а кудри, не рот, а уста». Здесь очевидна опять-таки роль контекста У Блока возвышенность образа Гаэтана подчеркивается тем необычным, торжественным словарем, который автор избирает, говоря о нем. Разрушив контекст, мы разрушим и единство текста, т. е. то впечатление, которое оно на нас производит. Пушкин в стихотворении «Пророк» для создания возвышенного образа пророка избирает старославянские слова, придающие его языку приподнятость и торжественность: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли». Стоит нам заменить эти слова равносильными им по смыслу русскими: «Встань, пророк, гляди и слушай», — как мы, нарушив контекст, нарушим и художественное единство текста.
Ярким примером своеобразного оттенка, который приобретает слово благодаря контексту, является также прозаизм.
Термин «проза» имеет два значения — общее и частное. В частном смысле он употребляется как понятие, соотносительное со стихом; литературные произведения делятся на две группы — стихотворные, т. е. написанные ритмически организованной речью, и прозаические, т. е. написанные речью, не использующей ритмической организации.
В общем смысле прозой называют литературу нехудожественную (всякого рода научные и тому подобные произведения) и отличие от литературы художественной — поэзии '.
Прозаизм связан с этим общим наименованием прозы. Им называют включение в язык литературно-художественного про-
1 Поэзией иногда называют только стихи, но иногда художественную литературу в целом,
изведения слов и оборотов из научного, газетного и тому подобных языков; так, например, у Пушкина в фразе: «.. .таков мой организм... извольте мне простить ненужный прозаизм» — слови организм ощущалось Пушкиным как прозаическое, т. е. не входящее в состав языка художественной литературы.
Как видим, прозаизм является понятием, в основе которого лежит представление о противопоставлении языка поэтического и языка прозаического. Это противопоставление не совсем верно. Язык художественной литературы не какой-то особый язык, в нем мы имеем дело лишь со своеобразным проявлением свойств языка в связи со своеобразием художественной литературы. Между тем в литературном произведении может быть отражена любая область жизни, а следовательно, и характерные для данной области жизни языковые особенности. Дело не в том, что в поэтический язык заносятся чуждые ему особенности какого-то иного языка (прозаизмы), а в том, что в группу более или менее однородных по их смысловой и эмоциональной окраске слоз попадает слово иного типа, которое ощущается как инородное в этой системе и выпадает в известной мере из общего строя, создавая впечатление известного нарушения установившегося тона речи. Вот это ощущение несовпадения слов, выпадения какого-нибудь слова из системы и лежит в основе понятия прозаизм. Понятно в связи с этим и происхождение термина. Говоря о синтетичности литературы в области языка, мы вовсе не имеем в виду, что эта синтетичность наблюдается всегда и неизменно. В тех или иных исторически обусловленных случаях мы будем встречаться и с отрывом литературного языка от общепринятого языка, и с его известной условностью, замкнутостью и т. п. Это будет связано, например, с нежеланием писателя отразить ту или иную область жизни, в силу чего и связанные с ней языковые особенности не будут входить в его языковую систему, а, появляясь в ней, создадут впечатление инородности. Так, в первой половине XVIII века для дворянской литературы характерно было крайнее пренебрежение к крестьянству, в силу чего и язык крестьянства был чужд дворянской литературе. Когда Тредиаковскому в его «Мнении о начале поэзии» понадобилось привести в пример народное стихотворение, он писал: «Прошу читателей не зазрить меня и извинить, что сообщаю здесь несколько отрывченков от наших подлых, но коренных стихов, делаю я сие токмо в показание примера».
Для литературы прошлого весьма часто была характерна известная ограниченность ее кругозора, выключение за пределы литературного изображения тех или иных областей жизни и т д.
Появление в произведении слов, связанных с этими областями, создавало опять-таки аналогичное впечатление нарушения языковой однородности произведения, занесения в поэзию особенностей прозы, т. е. языка не литературно-художественного.
| ) |
* .1
Таким образом, прозаизм есть лишь частный случай расхождения слова с контекстом, о чем и говорилось выше.
Теснейшая связь языка и мышления неправильно истолковывалась вульгарными социологами в языкознании (школа Марра), приходившими к неверному выводу о классовости языка, о том, что каждый класс создает свой особый язык. Эти теории весьма вредно сказывались и на художественно-литературной практике. Еще в годы гражданской войны теоретики так называемого Пролеткульта ', которые были подвергнуты резкой критике ЦК РКП (б) и сошли со сцены в конце 1920 года, выдвигали идею, что пролетариат должен создать свой особый язык, который был бы непонятен буржуазии. Позднее; в 1934 году (см. «Литературную газету», № 48), М. Шагинян писала: «Почему же мы должны думать, что после величайшей в мире революции... идя к бесклассовому обществу, мы еще многие десятки лет будем говорить на дворянско-помещичьем языке пушкинского этапа русской литературы?»
Огромную роль в исправлении этих ошибок сыграли выступления Горького о языке в 1934—1935 годах, в которых он подверг критике ошибки ряда писателей (Панферова, Ильенкова и других) в области языка, имевшие по сути дела вульгарно-социологический и натуралистический характер.
( Общенародный словарный фонд чрезвычайно устойчив, не изменяется в течение сотен лет2. Язык Пушкина понятен современным поколениям русских людей и мало чем по своей структуре от него отличается. Это не значит, однако, что язык не развивается. Если язык людей эпохи Пушкина понятен нашим современникам, то язык наших современников был бы уже не совсем понятен для людей эпохи Пушкина. Если основной общенародный словарный корневой фонд является исторически устойчивым явлением, переходящим из одного исторического периода в другой, то словарный состав находится в состоянии почти непрерывного изменения. Он отражает все те новые явления, которые возникают в самых различных сферах деятельности человека в процессе общественного развития, в большинстве случаев отправляясь от корневого запаса основного словарного фонда. Какие же основные особенности характеризуют язык писателя? Работа над языком есть прежде всего работа по отбору тех или иных нужных писателю в данный момент речевых средств из общего языкового словарного и грамматического запаса. Достаточно сказать, что количество слов, входящих в словарь русского языка, составленный Далем, около 200 тысяч.
1 П рол етку л ьт —сокращенно от «пролетарские культурно-просвети
тельные организации»; отстаивал глубоко неверные взгляды на пролетарскую
культуру.
2 См.: Морис Сводеш, Лексико-статистическое датирование доистори
ческих контактов (сб. «Новое в лингвистике», вып. 1, ІЛ., 1960, стр. 33).
Сокращенный словарь современного русского языка Ушакова, который включает в себя только слова, находящиеся в современном употреблении, содержит около 90 тысяч слов. Этот общий языковый запас составляется из огромного количества слов, применяющихся только в определенной и относительно узкой специальности, встречающихся в тех или иных отдельных областях, и т. д. Язык образованного человека, в частности писателя, включает в себя в основном несколько тысяч слов. ІІо даже и в пределах этого более узкого словарного запаса задача отбора тех или иных речевых средств представляется в достаточной мере сложной.
Отбор этот подчиняется той или иной художественней мотивировке. Работа по созданию художественного образа и мотивирует обращение писателя к тем или иным художественным средствам. Стало быть, язык писателя представляет собой своеобразное явление в общенародной языковой культуре: этот язык художественно мотивирован.
Эта работа писателя над языком, отбор писателем речевых средств отличается от работы над языком во всех других сферах человеческой деятельности. Язык художественной литера-.уры— это язык, подчиненный задачам художественной мотивировки. Язык в литературе выступает как явление стиля писателя, и только в связи с особенностями стиля писателя он и может быть понят.
Вопрос об изучении языка художественно-литературного произведения предполагает прежде всего определение принципов отбора писателем речевых средств. Этот отбор мотивируется теми специфическими задачами, которые решает художественная литература, как особая форма общественного сознания.
Ритм, звуковые повторы, рифма, строфы и т. д. придают, например, стихотворной речи совершенно особый характер, хотя вместе с тем в стихе нет ни одной особенности, которая в конечном счете не восходила бы к общим нормам языка. Все дело в своеобразии тех специфических художественных задач, которые определяют мотивировку и отбор языковых средств.
Язык художественно-литературного произведения может быть понят лишь в связи с той образной системой, которая лежит в основе произведения. Она определяет мотивировку и отбор лексических, интонационно-синтаксических, звуковых средств, при помощи которых создается тот или иной образ. В этом смысле язык есть форма по отношению к образу, как образ есть форма по отношению к идейному содержанию произведения. Но форма эта глубоко содержательна. Упростив ее, мы упростим, ослабим содержание, раскрывающееся лишь через нее.
Анализ языковых особенностей произведения без учета образной системы, в конечном счете его мотивирующей, не может привести к целостному пониманию языка в его художественной
IGi
целенаправленности, т. е. как явления художественно-литературного стиля Понятно вместе с тем, что без знания и понимания стилистики общенародного языка нельзя точно определить индивидуальную специфику языка каждого художественно-литературного произведения
В «Живом трупе» Льва Толстого Федя говорит: «Моя жена идеальная женщина была... Но что тебе сказать? Не было изюминки. Знаешь, в квасе изюминка — не было игры в нашей жизни». Это выражение «не было изюминки» представляет собой речевую характеристику образа Феди. Оно может быть понято, как его собственные слова и тем самым дать известное направление для оценки и его речи, и характера, проявляющегося через эту речь. Но положение изменится, если мы соотнесем это выражение Феди с народной пословицей: «Не дорог квас — дорога изюминка в квасу». В этом случае слова Феди включаются уже в новую систему отношений, свидетельствуют о близости языка Феди к народному просторечию, это позволяет идти уже в другом направлении в анализе речи этого персонажа и ее истоков. Без соотнесения этого выражения со стилистикой общенародного языка наши наблюдения над языком Феди были бы неверны.
Очевидно, что понимание специфики языка художественно-_литературного произведения немыслимо без учета словарных, фразеологических, грамматических свойств общенародного языка. Но вместе с тем в языке художественного произведения необходимо показать мотивированность его образной системой в целом, т. е. поставить его в связь с явлениями сюжетного, жанрового, стилевого плана.
Рисуя человека как личность, как индивидуальность, писатель не может пройти мимо такой существенной черты его характера, как его речь, с чрезвычайной гибкостью воспроизводящая культуру, профессию, психологический склад, душевное со- j стояние человека. Нет двух людей, говорящих одинаково. «Из 4 уст человека, — справедливо говорил Щедрин, — не выходит ни ; одной фразы, которую нельзя было бы проследить до той обета- ^ новки, из которой она вышла... в жизни... Нет поступков, нет фраз, которые не имели бы за собой истории»1.
А. Толстой в своей требовательности к полной индивидуали- ' зированности речи персонажа в произведении говорил о необ- , ходимости для писателя видеть жест персонажа, сопровождающий его речь, чтобы правильно построить каждую его фразу в соответствии с тем, что он чувствует и делает в данную минуту.
Полнота передачи всех красок и оттенков живой индивидуальной речи, воспроизводящей самые различные стороны чело- ;
'M E Салтыков-Щедрин, Полное собрание сочинений в 20 томах, т. VIII, Гослитиздат, М,, стр. 387—388.
І еческого характера, закрепляющей реальный жизненный процесс речевого общения, — существеннейшая черта языка именно художественной литературы.
Подобно тому как персонаж произведения не простая копия
t того или иного человека, а обобщение свойств и качеств лю-
Ісй определенного типа, так и речь его — это речь обобщенная,
характерная, своего рода цитата из языка той области жизни,
которую рисует писатель.
В этом — важнейшая черта языка художественной литературы. Писатель отбирает, отслаивает наиболее характерное в языке, обобщает общественный речевой процесс. Значение критики, которой подверг в свое время Горький ряд советских писателей, в том и состояло, что он боролся с языковым натурализмом, тес воспроизведением частного и случайного в языке. Пьеса самого Горького «На дне» — пример оі ромного художественного такта, с которым Горький отбросил внешне эффектные черты жаргонного языка, людей «дна», чтобы показать и в их речи основное, подлинное человеческое содержание
Речь персонажа — это характерная, обобщенная речь, передающая основные, существенные черты его характера В случае ошибки писателя она, становясь нехарактерной, сказьіваеіся на художественной неполноценности произведения в целом
Существеннейшая черта языка художественной литературы состоит в том, что, сохраняя все богатство форм живой индивидуальной речи, он вместе с тем выступает не только как форма обобщения речевой практики, как отбор ее наиболее существенных и характерных особенностей, но одновременно и как средство изображения характеров.
Рисуя определенный тип человека, писатель обобщает, выделяет наиболее существенные черты в его речи для наиболее полного раскрытия характера своего героя. Язык художественно-литературного произведения типизирован и по отношению к тому или иному герою, существенные черты характера которого обобщаются художником в его речи, и по отношению к самому языку, в котором он, по выражению Горького, «откидывает из речевой стихии все случайное, временное и непрочное, капризное, фонетически искаженное, не совпадающее по различным причинам с основным «духом», т. е. строем общеплеменного языка» '.
В речи героев литературного произведения перед нами не только индивидуальное проявление общенародного языка и не только типическое в этом языке, но и активное отношение самого писателя к действительности, стремление выделить в речи Іероя то главное, основное, что художник утверждает (или отрицает) в этом герое. Поэтому-то даже в драматургическом произведении, в котором отсутствует сама по себе авторская
M Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т 27, M, 1953, стр 213.
{хечь, мы всегда должны искать то, что можно назвать авторекой j
окраской речи героя, ту точку зрения автора на героя, которая 1
определяет характер типизации его речи. J
Пример такой оценки дает в «Ревизоре» Гоголь, показывая ^
настоящий язык городничего, которым он говорит «про себя», к .J
притворный — вслух. Не вмешиваясь в речь персонажа, Гоголь 1
дает ей совершенно ясную оценку: -Ê
Л
Городничий (в сторону). Славно завязал узелок! Врет-врет и нигде л
не оборвется! А ведь какой невзрачный, низенький. Кажется, ногтем бы при- _J„
давил его. Ну да постой, ты у меня проговоришься. Я тебя уж заставлю по- "^
больше рассказать. (Вслух.) Справедливо изволили заметить. Что можно еде- -Î
дать в глуши? Ведь вот хоть бы здесь: ночь не спишь, стараешься для отече- ;
ства, не жалеешь ничего, а награда, неизвестно еще, когда будет.
Столкновение этих двух различных речевых построений позволяет автору, не вводя авторской речи, раскрыть фальшь и лицемерие персонажа только благодаря контрасту избранных им речевых средств. Поэтому-то художник вправе вводить в речевую характеристику своего героя те или иные нарушения языковых норм в том случае, если эти отступления служат задаче обобщения. Горький писал по этому поводу:
«.. .речевой язык остается в речах изображаемых литератором людей, но остается в количестве незначительном, потребном только для более пластической, выпуклой характеристики изображаемого лица, для большего оживления его. Например, в «Плодах просвещения» у Толстого мужик говорит: «Двисти-тельно». Пользуясь этим словом, Толстой как бы показывает нам, что мужику едва ли ясен смысл слова, ибо крайне узкая житейская практика крестьянина не позволяет ему понимать действительность как результат многовековых сознательных действий воли и разума людей» 1.
Не случайно Горький, характеризуя то или иное действующее лицо, никогда не забывает отметить, как оно говорит. «Ва-равка говорил немного и словами крупными, точно на вывесках»; «Самгин выработал манеру говорить без интонаций, говорил, как бы цитируя серьезную книгу»; в Лютове все «было искусственно, во всем обнажалась деланность, особенно обличала это вычурная речь» и т. д.
С этой обобщающей функцией языка художественной литературы, с тем, что она отбирает в языке характерное, связана и другая существеннейшая особенность: воспитательно-эстетическая направленность языка художественной литературы. Эстетическую функцию языка трактуют обычно как функцию худо-
1 М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 27, М., 1953, стр. 213.
жественяо-изобразительную, т. е. как подчиненность языка той или иной стилистической задаче и т. д. Но эстетическая функция языка должна пониматься значительно шире. Художественный образ всегда эстетически целенаправлен и несет в себе определенную оценку стоящих за ним явлений действительности, соотносит их с той эстетической нормой, исходя из которой художник оценивает -действительность. Такого рода норма существует и в области стилистики общенародного языка.
Чрезвычайно поучительны те требования, которые предъявляют к языку классики марксизма. Литературный стиль Маркса Энгельс характеризовал следующими словами: «Сила, сочность и жизнь» '. Ленин отмечал, что Маркс писал «замечательно популярно, сжато и ясно»2.
Эти оценки говорят о том, что ясность, краткость, сжатость, страстность языка ощущаются как высшая форма языковой культуры.
Очевидно, что в основе этих оценок лежит прежде всего требование общенародной доступности языка. Энгельс говорил и свое время, что для него работа в газете — «наслаждение. Воочию видишь действие каждого слова, видишь, как статьи буквально бьют подобно гранатам и как разрывается выпущенный снаряд»3.
Народность языка и определяет его красоту, подобно тому как служение народу определяет красоту человеческого характера. Значение языка художественной литературы состоит, таким образом, и в том, что в нем речевая народная культура получает свое эстетическое отражение, что в нем дается не только г-сестороннее отражение языка общества, не только индивидуальное и обобщенное его отражение, но и отражение наиболее ценных для народной культуры форм речевого общения. Язык художественной литературы в силу этого имеет именно воспи-т-ательно-эстетическое значение. Подлинно художественный образ немыслим без оценки тех явлений жизни, которые в нем обобщены, он всегда соотнесен с представлением об идеале, о прекрасном как мере жизненной ценности, он эстетически целеустремлен. Либо он воплощает прекрасное, либо разоблачает в жизни то, что ему мешает, ему противостоит.
Это эстетическое начало переходит и на язык художествен-лой литературы. Люди, в которых мы видим носителей прекрасного, определяют наше отношение и к их языку как к речевой норме, как к образцу языка. Значительность, благородство, высота культуры человека не могут не выразиться и в его речи, передающей, выражающей его характер.
'К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 33, стр. 82.
" В. И. Ленин, Поли. собр. соч., т. 26, стр. 70.
3К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 22, стр. 82.
n 189
 ill
ill
ІИ
II
Язык художественной литературы учит говорить, заставляет ощутить красоту языка и воспитывает ее в народе.
Точное, сжатое, страстное, понятное народу слово — огромная общественная сила.
С эстетической функцией языка художественной литературы и связано ее Непитательное, нормативное общественное значе- ^' ниє. В языке художественной литературы и обобщаются, и по- -лучают свою эстетическую оценку все явления живой речи. ; В этом смысле художественная литература представляет собой _,. школу языка, является одной из важнейших форм языкового воспитания, создания и развития подлинно высокой речевой" культуры. Это тем более существенно, что, как выше уже говорилось, художник сохраняет все богатство живых форм индивидуальной речи, т. е. перекликается с непосредственным, живым речевым опытом каждого читателя. А эта индивидуализация в свою очередь связана с тем, что в языке художественной литературы особенно полно отражается все многообразие общественной речевой практики.
Язык художественно-литературного произведения вместе с тем подчиняется частным художественным мотивировкам, определяющим выбор писателем тех или иных нужных ему языковых средств. Не случайно именно в художественной литературе мы наблюдаем прежде всего четкую жанровую дифференциа-' цию языковых особенностей.
ТИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЯЗЫКА *'. БОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Строго говоря, формулировка «язык художественно-литературного произведения» не вполне точна. На деле мы наблюдаем три основных типа организации языка художественно-литературного произведения: произведения прозаического, произвело- '-ыия драматургического и произведения стихотворного. Легко ; заметить, что каждое из них дает и определенные видовые от- , ветвления. В романе и рассказе-новелле, в лирическом стихотворении и поэме, в комедии и трагедии перед писателем возникают своеобразные стилистические задачи, которые не могут не сказаться и на характере его работы над языком. Очевидно, различие в самом подходе к языку писателя-реалиста и писателя-романтика; мы вправе говорить о натурализме в языке и т. д. Все это с достаточной ясностью говорит о том, что особенности языка художественно-литературного произведения могуг быть изучены и понятны только в свете той стилистической цели, ; которой они подчинены.
Из отмеченных трех основных типов художественно-литературного языка: стихотворного, прозаического и драматургиче- "
ского — ближе всех к нормам обычной речи стоит язык драматургический (не говоря, конечно, о стихотворной драме). Здесь речь непосредственно связана с характерами действующих лиц и мотивирована той сюжетной ситуацией, которая определяет их развитие. Вместе с тем эти характеры в драматургическом произведении выступают в своей наибольшей концентрированно-сти и сосредоточенности, являются носителями резко подчеркнутых свойств и качеств. Поэтому и речь каждого из действующих лиц пьесы отличается предельной характерностью и вместе с тем обобщенностью передачи наиболее существенных для драматурга особенностей человеческой речи данного типа.
«.. .Необходимо, — писал Горький, — чтобы речь каждой фи-' гуры была строго своеобразна, предельно выразительна... / огромное и даже решающее значение для пьесы имеет речевой язык»1. Ту же мысль высказал Г. Ибсен: «Манера выражения должна характеризовать каждое лицо в пьесе, ведь люди никогда не говорят одинаково»2.
Говоря об особенностях мастерства драматурга, Горький подчеркивал, что он имеет право, взяв любое из человеческих качеств, «углубить, расширить его, придав ему остроту и яркость, сделать главным и определенным характер той или иной фигуры пьесы», и именно отсюда выводил своеобразие работы драматурга йад языком, тщательным отбором наиболее «крепких, точных слов»3. Поэтому-то Горький и настаивал на том, что «в комедии и драме слово имеет гораздо более высокое и Енушительное значение, чем в романе, в повести». Драматург, говорил он, «работает голым словом».
Характерно, что в пьесах Горького сами его герои часто характеризуют особенности своей и чужой речи. Таковы, например, замечания о языке в пьесах «Васса Железнова», «Дости-». Іаев и другие», «Сомов и другие» и т. д. Слово героев пьес Горького весомо и зримо, оно ощутимо передает основные черты характера говорящего. На слова Рашели: «Я мать!» — Васса Железнова отвечает: «А я бабушка, свекровь тебе. Знаешь, что Іакое свекровь? Это всех кровь, родоначальница. Дети мне — руки мои, внучата —• пальцы мои. Поняла?» В резкой, грубой, самобытной речи обнаруживается и сила характера Вассы, и то, что это сила злая и темная. Б. В. Нейман в работе «Язык пьесы Горького «Василий Достигаев» отмечает, что характер Калмыковой в пьесе обрисован Горьким чрезвычайно лаконично. Всего Калмыкова произносит в пьесе 156 слов. Но в этих 156 словах полностью проявляются типические черты Калмыковой
1 М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 26, M, 1953, стр. 411—412.
2 Г. Ибсен, Собрание сочинений, т. IV, 1958, стр. 718.
3 М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 26, М., 1953, стр. 416.
как твердого, волевого революционера с широким жизненным опытом и высокой культурой.
Горький, говоря о героях наших классических пьес, подчеркивал: «...каждая из этих фигур создана небольшим количеством слов, и каждая из них дает совершенно точное представление о своем классе, о своей эпохе. Афоризмы этих характеров вошли в нашу обыденную речь именно потому, что в каждом афоризме с предельной точностью выражено нечто неоспоримое, тшшческое» '.
Эти свойства речи драматургического произведения, в частности афористичность, т. е. подчеркнутая типичность, передающая важнейшие, выделенные на передний план черты данного характера, в соединении с особенностями сценического исполнения, благодаря которому речь персонажа доходит до слушателя как непосредственно звучащая речь, определяют наибольшую ее действенность, ее значение для воспитания общественной речевой культуры Именно со сцены к слушателю обращена речь, в наибольшей степени подчеркивающая основные особенности языка определенного типа, воплощающая их в сценической форме, доносящая эту речь во всей ее живой полноте до восприятия слушателей.
Драматургическое произведение играет важнейшую роль в воспитании и развитии речевой культуры, в особенности там, где речь связана с образом положительного героя. Отсюда вытекает и та ответственность, которая лежит на драматурге, работающем над словом. Слово в художественно-литературном • произведении всегда нормативно окрашено, связано с той общей] эмоциональной оценкой, которая создается у нас по отношению к тому или иному образу в целом В драматургическом произведении речь в этом отношении в наибольшей степени представляет собой образец речи для слушателя — либо положительный, либо отрицательный.
Исследователь языка драматургического произведения дол-і жен не только понять речь данного персонажа как форму pac-j крытия его характера, он должен раскрыть типические особен-] ности речи персонажа, определить их эстетическую речевую"' значимость. Тогда он окажется в состоянии увидеть в речи персонажа не только его индивидуальную речь, но и ту авторскую точку зрения на героя и на его речь (как это мы видели выше на примере из «Ревизора»), которая определяет идейное содержание данного персонажа, превращает его, несмотря на его кажущуюся самостоятельность, в носителя идейной концепции художника. И наоборот, если драматург не сумел достичь' такой выразительности речевого языка своих персонажей, то и хар-актеры этих персонажей не будут в достаточной степени;
1 M Горький, Собр соч в тридцати томах, т 26, M, 1953, стр 412
ясными и убедиїельньши, их действия будут вытекать не из подлинной логики их развития, а из произвольно навязанных им драматургом побуждений.
Существеннейшей особенностью языка драматургического произведения является и то, что в нем речь каждого персонажа не представляет собой самостоятельного целого. Она входит в единую диалогическую систему (не говоря, конечно, об отдельных монологических построениях) и только в ней может быть правильно интонирована и понята '.
Все эти примеры своеобразия построения речи в драматургическом произведении отчетливо свидетельствуют о том, что мы вправе выделить ее как самостоятельный, обладающий своими своеобразными закономерностями вид организации художественно литературной речи.
В уже цитированной статье Горького «О пьесах» он дает четкую характеристику тех особенностей, которые отличают от драматургической речи речь повествовательную, прозаическую. «В романе,— говорит Горький, — в повести люди, изображаемые автором, действуют при его помощи, он все время с ними, он подсказывает читателю, как нужно их понимать, объясняет ему тайные мысли, скрытые мотивы действий изображаемых фигур, оттеняет их настроения описаниями природы, обстановки и вообще все время держит их на ниточках своих целей, свободно и часто — незаметно для читателя — очень ловко, но произвольно управляет их действиями, словами, делами, взаимоотношениями. ..» 2.
Эти особенности накладывают существенный отпечаток на всю языковую структуру прозаического произведения. В нем речь персонажа, сохраняя всю полноту своей индивидуализации, осуществляя те же типизирующие задачи, сохраняя эстетическую окраску, строится вместе с тем во многих отношениях иначе, чем речь персонажей в произведении драматургическом. Наряду с диалогической структурой равноправное место занимает и монологическая структура — от тончайших форм внутренней речи до' развернутых выступлений ораторского типа (например, речь Павла на суде в романе Горького «Мать»). Вместе с тем, расширяясь в своих возможностях (внутренняя речь, монолог, диалог, ораторское выступление и т. д.), речь персонажа в известной мере теряет свою самостоятельность, поскольку она
1 Например, у Пушкина: «Рыцари. Быть так. . Клотильда Однако ..
Ротенфельд. Сударыня, я дал честное слово». («Сцены из рыцарских времен»). Каждая из этих реплик лишь часть сложного целого, образованного переплетением реплик
аМ Горький, Собр соч в тридцати томах, т, 26, М., Ш53, стр. 411.
Л. И. Тимофеев 193
включается в систему авторской речи. Авторская речь вбирает в себя речь персонажа, комментирует ее, усиливает или ослабляет, поддерживает или… Если бы Левин был теперь один с братом Николаем, он бы с ужасом смотрел на… Мало того, он не знал, что говорить, как смотреть, как ходить. Говорить о постороннем ему казалось оскорбительным,…СЛОВа В прронпрцрм.. аняирни^, т, Є. ВЬІДЄЛЄНИЄ JBTOpHHHblX ЄГО
Троп есть сочетание слов, образующее новое значение благодаря перенесению одного из вторичных признаков слова на t5- •і«233.
'T.
І ' r
Так, например, в ^«Пророке» Пушкина читаем:
Восстань, пророк, и виждь, и внемли. Исполнись волею моей И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей
Подчеркнутые слова йвлялись и для Пушкина устаревшими. Столь же устаревшие слова встречаются и в другом примере:
. Проклятый рек. и, злобою горя,
Наморщив лоб, скосясь, кусая губы,
Архангела ударил прямо в зубы
Раздался крик, шатнулся Гавриил
И левое колено преклонил,
Но вдруг восстаг, исполнен новым жаром .
(Пушкин, Гавриилиада)
Сопоставление этих двух примеров позволяет нам, кроме того, подчеркнуть положение, имеющее большое значение для понимания работы писателя над словом вообще. Легко заметить, что архаизмы у Пушкина использованы каждый раз совершенно различно, имеют совсем иное значение, иную функцию в зависимости от контекста, от идейной направленности. В первом случае они усиливают общий возвышенный, религиозный характер «Пророка», во втором — являются средством усиления иронии. В «Трагедийной ночи» Безыменского эти же архаизмы (отрывок, написанный былинным стихом «Ах ты, гой еси...») реализуют контрастное столкновение старого и нового; в «Петре I» А. Толстого, «Степане Разине» Чапыгина они являются одной из форм индивидуализации, оживления писателем прошлого, как оно ему представляется. Короче — архаизм, являясь введением в текст слов устаревших, не входящих в обычную языковую систему, на практике опять-таки многозначен: лишь в конкретном произведении он приобретает своеобразное, зависящее от него содержание.
Поэтому одни и те же языковые особенности в различных произведениях могут иметь различное значение. Сам по себе архаизм приобретает значение лишь в речи повествователя или персонажа, и оценка его может быть дана лишь в связи с целым, только тогда, когда мы покажем, помогло ли яркости обрисовки данного характера употребление архаизмов или, наоборот, явилось неуместным, затрудняющим восприятие Мы найдем архаизмы у самых различных писателей и только в каждом данном случае сможем разобраться в значении их, обнаружив их художественную мотивировку, поняв их как целое.
Весьма большое место в языке художественной литературы занимают диалектизмы. В широком смысле слова — это местные слова, т. е. слова, имеющие распространение d какой-нибудь ограниченной области. Это новый источник слова
для писател5^е)то могут быть слова из местных диалектов, говоров, характерных для той или иной местности, в которой в силу непреодоленной еще некультурности, слабой связи с культур« ньгми центрами и т. п. сохранились свои особые слова для обозначения явлений в общераспространенном, так называемом литературном (а не литературно-художественном) языке, имеющих иное обозначение. Например, у Вс. Иванова:
«У пришиби ' яра2 бомы3 прервали дорогу, и к утесу был
приделан висячий балконом плетеный мост. Матера 4 рвалась на
бом, а ниже, в камнях, билась, как в падучей, белая пена
стрежи потока». «
Сюда относятся слова, имеющие ограниченное распространение, существующие в различных профессиях (профессионализмы), в тех или иных социальных группах и т. д. Введение их в язык литературного произведения должно быть мотивировано той или иной художественной задачей, разрешаемой при их помощи, и прежде всего обрисовкой характера, обнару' живающего себя и в языке.
Рассматривая диалектизмы как общее понятие, обозначающее введение в язык местных (т. е. употребляющихся в какой-нибудь ограниченной области) слов, мы можем вслед ча тем наметить различные категории диалектизмов для более точного определения области, из которой заимствуется данное слово.
Провинциализмами мы будем называть местные слова, передающие особенности какого-нибудь областного го* вора или по содержанию, или по особенностям произношения. Смысл их в том, что они характеризуют говорящего, индиви-дуализируют его речь, обнаруживают его культурный уровень и т. д.: употребление слова эфтот вместо этот дополнительно характеризует говорящего Если в узком, обычном смысле провинциализм является имитацией особенностей того или иного местного говора [например, еще в «Щепетильнике» Лукина (1765) появляются крепостные, которые пришли из Галича Костромской губернии и говорят ц вместо ч (вецер, церез, луцына) и, наоборот, ц вместо т (брацень), употребляют местные слова (сарынь, голиться, голчить) и т п 5], то этот говор являлся и говором социальным: имитация говора крестьян была одной из форм их социальной характеристики, т. е. их типизацией.
1 Пришибь — скалистый берег.
2 Яр — круча
3 Бомы — камни
4 Матера — наиболее сильная струя потока.
'Василий «.и когда сюда ни зайдет, то ницаво не купит, а весь вецер пробаит с нашим шалбером Да нутка, брат Мироха, станем разбирать кузовенку-та. Вить хозяин до сабя из нея велел все выбрать» Мирон: « берись же моднее... я из саней ее церез моготу сюда притаранил. ..» и т. д.
При несомненном значении, которое имеют пЦвршциализмы для усиления индивидуальной характеристики персонажа при помощи характерных для него выражений, в употреблении их, как и в оценке, необходим большой такт. Провинциализм сам по себе в основном характерен для малокультурной речи. В этом разрезе он и может быть использован для обрисовки того или иного персонажа как форма обобщения, типизации определен^ ных, ему присущих особенностей. Перегрузка речи персонажа провинциализмами может создать неправильное представление о нем, односторонне выдвинув только эти особенности. В дискуссии о языке советской литературы Горький показал на примере произведений Ф. Панферова такую односторонность в изображении перегруженного провинциализмами языка колхозников.
Между тем для языка колхозника типической, подлинно его характеризующей особенностью являются не местные слова — продукт отсталости крестьянства в дооктябрьскую эпоху, а, наоборот, обогащение этого языка новыми оборотами, освобождение от провинциализмов, являющееся результатом культурного роста. Употребление провинциализмов может быть оправдано лишь тогда, когда оно художественно мотивировано и действи« тельно помогает обнаружению определенной стороны данного характера.
• Еще более строго следует относиться к введению провинциализмов в речь повествователя. Если в речи персонажа провин-циализмы локализованы, т. е. даны в связи с конкретным характером и через него.получают определенную оценку, то в речи повествователя, которая, как мы помним, играет особенно важную воспитательную роль в области развития языковой культуры, они получают как бы утверждение, одобрение со стороны автора и могут быть легко усвоены читателем, засорив его речь ненужными, некультурными словами и оборотами. Наконец, затрудняя чтение, диалектизмы ослабляют художественное впе* чатление (как, например, в приведенном выше отрывке Вс. Иванова); являясь иногда необходимым средством художественного изображения, провинциализмы требуют весьма тщательного осмысления и оценки.
Близко к провинциализмам стоят жаргонизмы, или профессионализмы. Жаргонизмы — слова жаргона (или арго, отсюда — арготизм), т. е. условного языка, употребляющегося в какой-нибудь области жизни. Таков, например, жаргон преступников (блат, блатная музыка), вырабатывающих условный, непонятный для других язык, а также круг условных выражений какой-нибудь профессии, имеющей очень ограниченное применение. Неуместное, немотивированное употребление их может снизить художественные достоинства текста. Таково, напри« мер, употребление их у Каверина («Конец хазы»):
Пустыри хазы, ночлежные дома города, двести лет летящего черт знает куда своими проспектами, иногда поднимаются на стременах. Наступает время работы для фартовых мазов, у которых руки соскучились по хорошей пушке. Шпана, до сих пор мирно щелкавшая с подругами семечки на проспектах Петроградской стороны и Васильевского острова, катавшаяся на американских горах в саду Народного дома, проводившая вечера в пивных с гармонистами или в кино... теперь оставляет своим падругам беспечную жизнь. Зато в гопах в такие дни закипает работа; в закоулочных каморках, отделенных одна от другой дощатыми перегородками, барыги скупают наты-ренный сдам, наводчики торгуют клеем, домушники, городушники, фармазон-щики раздербанивают свою добычу. Гопа гудит до самого рассвета ..
Отрывок этот совершенно непонятен, его нужно переводить на литературный язык: хаза — притон, пушка — револьвер, фартовый маз — первоклассный налетчик, шпана — воры-подростки, гопа— ночлежка, барыга — скупщик краденого, натырить — накрасть, слам — добыча (вора), клей — указание места, где можно устроить налет, домушник — квартирный вор, городуш-ник — вор магазинный, фармаэонщик — продавец фальшивых драгоценностей, раздербанивать — делить накраденное и т. д.
Употребление жаргонизмов здесь тем более не оправдано и неверно, что они включены в речь повествователя, который как будто санкционирует переход воровской речи во всеобщее пользование. Но и в языке персонажей при неуместном употреблении жаргонизмов они могут оказаться художественно неудачными. Б. Ларин приводит наглядный пример того, как в том же произведении Каверина один из эпизодов совершенно пропадает для читателя из-за неумеренного введения жаргонизмов, которые, будучи непонятными читателю, теряют свое индивидуализирующее значение, т. е. свой художественный смысл.
— А как вы, тоже торговлей занимаетесь? — спросил Сергей Старший чуть-чуть повел глазами, постучал пальцем по столу и отвечал:
— М-да. Торгуем. Мебельщики.
— Знаем мы, какие вы мебельщики,— подумал Сергей.
— Как теперь торговля идет? Теперь многие возвращаются обратно»
в Питер, должно быть, снова обзаводятся мебелью?
Старший пососал трубку и ответил спокойно'
— М-да. Ничего. Не горим. Хотя покамест больше покупаем
Младший чуть-чуть не захлебнулся пивом, поставил стакан на стол и
взял в рот немного соленого гороха
Двусмысленность этого разговора Сергея с ворами основана на арготических значениях слов нормального литературного языка: торгуем — значит воруем, мебельщики — помощники шулера, гореть — попадать в руки угрозыска, покупать — воровать. Читатель должен так же, как и «младший», понимать этот разговор сразу в двух планах: обычном и воровском, открытом и тайном, чтобы «захлебываться от смеха». Но большинство читателей, не понимая этого, скучает. Вся эта обдуманная сложность письма оказывается пустой тратой сил.
Однако при действительно умелом обращении с жаргонизмами они могут дать и художественный эффект,
і ї
Так, в «Капитанской дочке» изображается разговор Пугачева с хозяином постоялого двора, в котором остановился Гринев.
— Да что наши! — отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор — Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит, поп в гостях, черти на погосте.— «Молчи, дядя, — возразил мой бродяга, — будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит. Ваше благородие, за ваше здоровье1» . . Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора; но после уже догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в го время только что усмиренного. . . Савельич слушал с видом большого неудовольствия. Он посматривал с подозрением то на хозяина, то на вожатого.
Здесь непонятность языка использована для характеристики говорящих, для обрисовки состояния Гринева и Савельича. Таким образом, она художественно оправдана и мотивирована.
Использование особенностей научно-медицинской терминологии (т. е. медицинских профессионализмов) дает Чехов («Роман доктора») :
Если ты достиг возмужалости и кончил науки, то recipe feminam unam ' и приданого quantum satis 2. Я так и сделал: взял feminam unam (двух брать не дозволяется) и приданое. Я прописал себе лошадей, бельэтаж, стал пить vinum gallicum rubrum3 и купил себе шубу за 700 рублей. Ее habitus4 не плох. Рост средний. Окраска накожных покровов и слизистых оболочек нормальна, подкожноклетчатый слой развит удовлетворительно. Грудь правильна, хрипов нет. . .
В развернутом виде такое отражение языковых особенностей той или иной среды приводит к стилизации — к тому, что писатель выдерживает все произведение в определенной языковой манере, которой он характеризует того или иного персонажа. Примером такой стилизации является рассказ немца-гувернера у Л. Толстого:
...и мы вместе пошли бросить Loos6, кому быть Soldat и кому не быть Soldat lohann вытащил дурной нумеро — он должен быть Soldat, я вытащил Хороший нумеро — я не должен быть Soldat. . . Или и я бегал Я пригнул и вода, влезал на другой сторона и пустил. . . И моё милы маменька выходит из задня дверью. Я сейчас узнал его. . .
Стилизацию под украинскую речь дают Гладков в «Цементе», Серафимович в «Железном потоке» и др.
Стилизация переходит иногда в сказ — в развернутое повествование в форме рассказа от имени самого действующего лица, сохраняющего свои речевые особенности. Это дает в руки писателя новое средство обрисовки характера, является одной из форм индивидуализированного показа действительности. Пи-
1 Прими' одну жену.
2 Сколько нужно.
3 Красное французское вино.
4 Сложение, вид,
Жребий.
На фронте я слепцом ходил. Должность такая была у меня Попал я на нее, можно сказать, ни с того ни с сего. Вышибли мы на станции белых, а к ним… Примерами такого сказа могут служить «Вечера на хуторе. ..» Гоголя, «Кола… Еще одним источником слов для писателя, помогающим ему в тех или иных случаях индивидуализировать описание или речь…Л, ИІ Тимофееп
Литературное произведение есть органическое целое, воздействующее на читателя во взаимосвязи всех своих элементов, и анализ его только тогда будет… Один и тот же архаизм, как мы видели выше, может иметь самое различное… ситуациями и характерами эти же средства будут иметь друї ой художественный смысл. Метафоры представляют собой явление…Far r
Каждому размеру отвечает лишь ему одному присущая конфигурация основных ударений, которая обязательно проступает, как бы ни была она осложнена пропусками ударения или вставными ударениями.
Ямб: ударения падают преимущ на слоги: 2—4—6—8 и т. д,
Хорей: » » » » 1—3—5—7 и т. д,
Дактилв: » » » » 1—4—7—10 и т. д,
Амфибрахий. » » » » 2—5—8—11 и т. д«
Анапест: » » » » 3—6—9—12 и т. д.
В каждом размере при любых его вариациях сохраняется какое-либо сочетание из тех, что входит в систему его основных ударений. При этом ни один размер не повторяет сочетаний другого, за исключением очень редких совпадений. Так, сочетание ударений на 2-м и 8-м слогах с пропуском промежуточных ударений может встретиться и в ямбе, и в анапесте, а сочетание уд-ареаий на 1-м и 7-м слогах — в хорее и дактиле Но в таких случаях рядом стоящие строки помогают определить размер стихотворения.
Определяя размер, мы, следовательно, должны определить места ударении, установить, на какие по счету слоги они падают, и найти, с каким известным нам сочетанием они совпадают '. Обычны две ошибки, которые делаются при определении размера: или определяют его по началу строки (но в начале строки чаще всего бывают лишние или пропущенные ударения), или определяют стопу по слову (но стопы существуют лишь в строке в целом, а не в отдельных словах, в нее входящих, так как они условное понятие). Например, строку Выхожу один я на дорогу по слову выхожу (о о—) можно отнести к анапесту, тогда как она на самом деле хореична (3—5—9). Строка Швед, русский — колет, рубит, режет по началу будет походить на хорей (ударение на первом слоге). Строка Мысль изреченная есть ложь (1—4—8) начинается сверхсхемным ударением, далее идет пропуск ударения, но сочетание 4—8 ясно говорит, что перед нами ямб. Сверхсхемное же ударение на седьмом слоге (есть) ослаблено, так как примыкает к идущему вслед за ним. Слово, которое теряет ударение, передавая его последующему слову, обозначается термином проклитика; слово, которое передает ударение предшествующему слову, — термином э н • клитика; в стихе такие явления особенно часты.
Приведенные примеры показывают, что силлабо-тонические размеры, в особенности двухсложные, выступают перед нами
1 Помогает определению ритма и так называемая скандовка — произнесение стиха с подчеркиванием его ритмического строя, благодаря чему выделяются слоги, которые фактически ударения не несут, но могли бы нести по характеру данного размера, например адмиралтейская игла. Этот прием позволяет быстрее ориентироваться в определении размера стиха.
в очень разнообразных формах Благодаря своей симметричности в числе слогов, в месте расположения ударений (только в пределах определенной инерции) <и т. п. они при малейшем изменении в соотношении слогов, расположении ударений, размещении пауз и т д дают уже весьма различно звучащие вариации Эти вариации очень многочисленны для каждого размера (например, в четырехстопном ямбе теоретически возможны благодаря различным пропускам возможных ударений и размещению сверхсхемных—127 видов строк). Эти вариации являются следствием использования в данной строке того или иного элемента речи, отличающегося от использованного в других строках. Не меняя характера строки по существу, такая вариация придает ей индивидуальный характер, определяет еесвоеобразие Эти элементы речи представляют собой ритмические определители сил л а бо-тон ики'.
РИТМИЧЕСКИЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛИ СИЛЛАБО-ТОНИЧЕСКОГО СТИХА
Различное число^дарений, размещаемых в пределах строки, не лишая ее основного ритмического характера, в то же время придает ей индивидуальное своеобразие. В связи с этим и смысловое наполнение ее получает дополнительную окраску, она как-то выделяется среди других строк, произносится с особенным выражением Насыщенность стиха ритмическими определителями позволяет ярче и полнее выступить его смысловому содержанию. При этом «адо иметь щ виду, что сами по себе те или иные ритмические явления не имеют самостоятельного значения, Нельзя установить связи между тем или иным размером и той или иной тематикой (иначе пришлось бы, в частности, установить, что «меются пять основных тем, соответствующих пяти основным размерам силлабо-тоники). Тем более нельзя искать постоянных смысловых показателей для частных вариаций этих размеров. Значение стиха в целом в том, что он создает общую эмоциональную окраску речи, повышенное сравнительно с обычным ее восприятие, а реальное содержание этой эмоциональной окраски дается уже переживанием, словами, его выражающими, интонацией, отвечающей словам, и т. д Поэтому как одна и та же метафора может иметь различную функцию в силу различной ее мотивировки содержанием, характером и т. д, так и все ритмические определители, о которых в дальнейшем будет идти
1 Некоторые авторы различают еще два вида силлабо-тонического стиха: говорной и напевный Но это крайне условное и натянутое деление, и мы не включаем его в рассмотрение,
речь, «е следует рассматривать как явления, имеющие устойчивое смысловое значение: оно переменно, т. е. определяется лишь всей системой выразительных средств произведения в целом. Смена размеров или их вариаций не свидетельствует о смене какого-либо одного конкретного переживания другим конкретным переживанием, содержание которого мы можем по этому размеру, так сказать, арифметически выразить. Она свидетельствует вообще о смене переживаний, так сказать, алгебраически, переводит нас в иную эмоциональную атмосферу, конкретное содержание которой зависит от условий, лежащих вне ритма.
Имея в виду эту необходимую общую оговорку, мы можем перейти к характеристике ритмических определителей. В качестве примера мы остановимся на четырехстопном ямбе. Это наиболее распространенный размер в русском стихе и наиболее богатый ритмическими определителями. Выводы, полученные на этом материале, мы можем с достаточными основаниями распространить и на другие размеры.
В пределах строки четырехстопного ямба мы можем разместить различное число ударений. В зависимости от этого строки его будут иметь весьма различное звучание. В основном насчитывают шесть видов такого размещения:

|
•1 —Пора, пора, рога трубят
2 — Береговой ее гранит
3 — Почуя роковой огонь
4 — Богат и славен Кочубей
5 —Адмиралтейская игла
6 — Возлюбленная тишина
Очевидно, что все эти строки имеют каждая индивидуальное звучание, оставаясь в то же время в пределах единого ритма — четырехстопного ямба.
Накапливая подряд строки одинакового строения, или, наоборот, сочетая контрастные строки (4 ударения я 2 ударения), или после строк одного типа, идущих подряд, давая строку нового звучания и т. п., поэт добивается все новых и новых оттенков выразительности. Сравним, например, два отрывка:
Сюда по новым им волнам 1 Все флаги в гости будут
к нам. И запируем на просторе.
Осада! Приступ' Злые водны, 2 Как звери, лезут в окна.
Челны С разбега стекла бьют кормой.
В первом случае четырехударные строки завершены двух-ударной строкой, во втором они даны подряд. И звучат эти два отрывка весьма различно. Вариации эти могут иметь самый разнообразный характер и подчеркивать различные смены смыслового и интонационного движения стиха.
В тех случаях, когда стопа ямба не имеет ударения, она графически может быть изображена следующим образом: ^^, что, как мы помним, обозначает два безударных слога. В античной метрике имелась вспомогательная стопа — пиррихий, состоявшая из двух кратких слогов: w^. По аналогии стопу ямба без ударения приравнивают к пиррихию и строку ямба с пропуском ударений называют пиррихированной, указывая, на какой стопе находится пиррихий (Адмиралтейская игла — пиррихии на 1-ий 3-й стопах). Это же относится и к хорею>Лщь^ рихирование — очень частая особенность обоих этих размеров.
Иной характер получает строка ямба, если в ней появляется
лишнее ударение. В строке Он весь, как божия гроза на первом
слоге лежит дополнительное ударение. Стопа ямба получает та
кой вид:------- . По аналогии с античной стопой -^с:_прн д£е м.
состоящей из двух долгих слогов, в таких случаях говорят, что на данной стопе находится спондей. Может быть иной случай, когда стопа ямба, получив ударение на первом слоге, теряет его на втором (Бой барабанный, клики, скрежет). В этом случае она уподобляется хорею. Появление спондеев и хореев (при этом они могут совмещаться с пиррихиями на других стопах Он весь, как божия гроза — дает спондей, ямб, пиррихий и снова ямб) придает строке опять-таки своеобразный характер. Различные сочетания ямбов, пиррихиев, спондеев, хореев и дают 127 различных вариаций четырехстопного ямба, а различные сочетания между собой строк различного типа образуют уже бесконечные ритмические комбинации.
Не во всех случаях ударения в стихе звучат с одинаковой силой. Некоторые из них могут быть сильнее, некоторые — слабее. Обычно сильнее ударения на последней стопе (константное ударение) и вслед за тем через стопу от него, т. е. для четырехстопного ямба 2-е и 4-е ударения. А ударения на 1-й и 3-й стопах в некоторых случаях, но далеко не всегда имеют как бы подчиненное значение. В таких случаях 1-я и 2-я стопы как бы объединяются одним сильным ударением, а 3-я и 4-я стопы — другим сильным ударением. В таких случаях говорят о дипо-дическом ритме, называя диподией как бы двойную ямбическую (или хореическую) стопу. Такова, например, строка Ретив и смирен верный конь. Легко заметить, что каждое нечетное ударение в ней подчинено четному (Ретив и смирен верный конь). Поскольку в ямбе очень частой является форма v^—ч_/—wv^ ^—, где третье ударение вообще пропускается, и встречается форма, где пропущены ударения и 1-е, и 3-е (Адмиралтейская игла), постольку такое диподическое строение его еще усиливается. По аналогии с античной метрикой в таких случаях, когда ямб тяготеет к диподичности, говорят о том, что ямб сочетается с пеоном вторым и четвертым, а хорей — с пеоном первым и
третьим, что они пеонизированы В отличие от строк ямба дяпо-дического строения строки, где каждое ударение самостоятельно, называют моноподическими Строка Стоял Он, дум великих поли, где каждое ударение самостоятельно, дает пример моно-подического ритма '^Сочетание моноподических и диподичееких строк опять-таки создает новые оттенки выразительности. Так, очень интересно они попользованы в стихотворении Лермонтова «Парус».
Говоря об использовании тех или иных вариаций ямба и других размеров, мы отнюдь не имеем в виду того, что писатель сознательно обдумывает заранее, какие вариации он применит в своем произведении Они выбираются им среди других вариаций как лучшие в данном случае, без какого бы то ни было теоретического осмысления, но понять их выбор мы можем, исходя из понимания того взаимодействия формы и содержания, которое управляет строением произведения в целом
В стихотворении «Парус» два плана внешний (пейзаж моря и далекого паруса на нем, картина природы) и внутренний (со-состояние человеческой души). В каждом четверостишии первые две строчки дают первый план и каждые две вторые строки — второй И вот легко заметить, что Лермонтов строит первые две строки каждого четверостишия диподически ', а две вторые— моноподически, т е без ослабления нечетных ударений, «поддерживая тем самым смысловое и эмоциональное противопоставление и самим ритмическим своеобразием строк, что еще более усиливает выразительность конкретной речевой ткани, передающей это переживание:
Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом!., л,
Что ищет он в стране далекой? . -- w — w — w —
Что кинул он в краю родном?.^ -- w — w — w —
| •www—j _j о w—w wo— |
Играют волны — ветер свищет, wwv^-И мачта гнется и скрипит.. S ' Увы,— он счастия не ищет & И не от счастия бежит £
Под ним струя светлей лазури, Над ним — луч солнца
ЗОЛОТОЙ . . А ОН, МЯТеЖНЫЙ, ПРОСИТ бури,
Как будто в бурях есть покой!
'
-J —
j —
Обозначаем ослабленное ударение знаком '.
І і
ЗІ&
В обычной речи мы произносим слова подряд, делая паузы лишь между группами слов, имеющими относительную смысловую самостоятельность и законченность (чтовыговорите, какая* хорошая погода и т. п ). Этим, между прочим, объясняется, что,* плохо зная иностранный язык, мы не понимаем его в живой речи, тогда как в книге сумеем разобрать те же формы, смысл которых не уловили в произнесении Читаем мы каждое слово раз* дельно, а в живой речи они произносятся слитно, и мы не успеваем отделить их одно от другого и понять их В эмоциональной же речи, тяготеющей к фразовости слова, слова произносятся отчетливее В стихе они произносятся с наибольшей отчетливостью В сущности почти каждое слово в стихе мы произносим, отделяя его от другого небольшой паузой и уж, во всяком случае, избегая какой-либо скороговорки. Мы не прочтем Богати-славенкочубей, Егополянеобозримы, а обязательно сделаем остановки между словами. Именно поэтому Маяковский печатал свои стихи вразбивку, заставляя читателя тем самым произносить каждое слово в особенности отчетливо и напряженно
В зависимости от расстановки междусловесных пауз строка опять-таки дает ряд новых оттенков При одинаковом числе и месте ударений мы ощутим своеобразие двух строк, если в них различные паузы, т е. слова, различные по количеству слогов, что и перемещает паузы Строки Осенний ветер, мелкий снег и Пора, пора, рога трубят звучат различно, хотя по расположению ударных и безударных слогов одинаковы Точно так же различны строки И отвечает Агафон и Адмиралтейская игла при равенстве в ударениях, так как паузы приходятся в различных местах.
Особый вид междусловесной паузы представляет^ц^з.у p.a., Эта пауза, имеющая ритмическое значение благодаря тому, что она располагается таким образом, что делит строку на два полустишия и постоянно повторяется в стихотворении, например?
Наперснику богов/безвестны бури злые, Над ним их промысел./безмолвною порой Его баюкают/Камены молодые И с перстом на устах/хранят певца покой
(Пушкин)
Знаком / мы отметили постоянные междусловесные паузы, которые в отличие от обычных встречаются на одном и том же месте во всех строках и этим подчеркивают соизмеримость единиц ритма и тем, что единицы эти имеют двухчастный характер, разделяются на две половины, и тем, что в каждой из них на определенном месте мы находим паузу. И то и другое усиливает соизмеримость единиц, т. е. подчеркивает их рит* мичность
Иногда цезурой называют, всякий словораздел (междуслсь весную паузу), в таких случаях различают малую цезуру и
большую, или постоянную, цезуру, имея в виду уже охарактеризованные выше особенности паузы, имеющей ритмическое значение. Проще, однако, чтобы избежать путаницы в терминологии, употреблять этот термин лишь в одном, разъясненном выше смысле.
Цезура встречается в таких размерах, которые состоят из сравнительно большого количества стоп или слогов вообще. Так, в ямбе она наблюдается в пятистопной и шестистопной его форме, а в коротких строках, которые не могут быть разбиты на' два полустишия, ее нет.
Еще более существенную роль играет пауза на конце строки. Выше мы говорили, что она крайне важна, так как на нее опирается константа. Паузу в конце строки мы, обычно ощущаем как наиболее сильную. Но могут быть случаи, когда строка по смыслу не закончена и мы стремимся произнести ее, не отделяя ее от следующей строки, а конечная пауза строки как бы рвет эту смысловую связь, заставляет нас остановиться там, где пауза эта подсказана по смыслу:
Никто мне не скажет: куда ты Поехал, куда загадал?
Такое столкновение ритмического и смыслового движения со-' здает необычное звучание речи. При этом пауза, благодаря которой возникает неожиданное членение речи, придает ей тем самым новую смысловую окраску. В живой речи мы очень часто можем наблюдать такого рода неожиданные паузы, причем они всегда обоснованы каким-то дополнительным смыслом^ который как бы прорывается через предполагаемый обычный смысл, который не требовал бы паузы. Человек хотел сказать резкость и сдержался, чуть было не проговорился, но спохватился и заговорил о другом; волнуясь, оборвал речь и перешел к новой теме; говоря, не может найти слова и останавливается и т. п. Таких ситуаций можно встретить весьма много, все такие случаи будут характеризоваться на первый взгляд неожиданными, но внутренне обоснованными паузами, придающими речи новый, обостренный смысл (комический или трагический, со всеми возможными переходами между этими крайностями, в зависимости от конкретной ситуации) '. Такой резкой паузой, придающей речи новый, неожиданный, эмоционально окрашенный смысл, является перенос, т. е. пауза, обусловленная не синтаксисом, а ритмом Когда Сальери кричит Моцарту:
«Постой,
Постой, постой!., ты выпил!.. без меня?» —
1 В стихах, не имеющих полновесного художественного звучания, те определители, о которых мы говорим, могут и не найти себе мотивировки, появиться без ясной художественной цели,
то мы понимаем, что весь основной смысл речи Сальери раскрыт именно в паузах: здесь и ужас, и попытка остановить Моцарта, пьющего яд, почти признание, и, наконец, стремление скрыть волнение и объяснить его внешним предлогом (выпил без меня), В известном послании Пушкина к декабристам («Во глубине сибирских руд») перед нами непрерывное нарастание интонации, передающей уверенность поэта в грядущем избавлении заточенных в темницу декабристов. И на слове свобода, завершающем это нарастание, как раз и стоит перенос, который и подчеркивает с особенной силой весь смысл стихотворения:
Оковы тяжкие падут, Темницы рухнут, и свобода Вас примет радостно у входа .
Вот такого рода паузы, внешне, казалось бы, нарушающие смысл речи, а на самом деле вкладывающие неожиданный, новый смысл в нее, и возникают благодаря тому своеобразию, которое вносят в стих переносы. Авторская оценка, психология персонажа, конкретизируясь в речи, могут проявить себя в этой выразительной особенности стиха. В «Медном всаднике», например, Пушкин, говоря о Петре, почти не пользуется переносами, а говоря о Евгении, все время их применяет. Эти два образа несут в себе совершенно различные идеи; естественно, что и авторский язык меняется, когда автор переходит от одного к другому. Если выше мы видели на примере романа Горького «Мать», что могут меняться тропы в зависимости от отношения автора к образу, то теперь мы можем сказать то же самое об изменении тех или иных особенностей стиха в зависимости от общей смысловой и эмоциональной окраски образа. Поэтому выразительные оттенки переноса практически неисчерпаемы, он на фоне яркой, эмоциональной речи может давать и снижение ее — разговорную интонацию и т. п.
Стихотворная строка как основная единица стихотворного ритма характеризуется тем, что ее отделяет от последующих строк пауза, совпадающая с конечным ударением и образующая константу. Но конечное ударение не всегда совпадает с последним слогом строки. После него могут быть еще расположены безударные слоги. Они не меняют основного ритмического строя строки, но придают ей своеобразную окраску. Конечное ударение и безударные слоги, следующие после конечного ударения, представляют собой стиховое окончание, иначе —
^
ґ Если строка кончается ударным слогом, она имеет муж-} ское окончание; если безударным — женское оконча- / н и е; если двумя безударными — дактилическое окон- / ч а н и е; если тремя и более безударными — гипердактили- / ческое окончание. В том случае, если клаузула соединяется і
V/ 319
со звуковым повтором, возникает рифма, на которую сятся те же определения (мужская, женская, дактилическая и т. д ). Термины мужская рифма и женская рифма связаны с тем, что когда-то в старофранцузском языке они совпадали с окончаниями мужского и женского рода. Тогда еще звучало во французском языке немое е и слова, на него окавчв-равщиеся, имели ударение на предпоследнем слоге и грамматически принадлежали к женскому роду. Затем эти термины получили распространение и в других языках.
Различные клаузулы (и рифмы) придают строкам одного-ритмического строя новые особенности. Сравним несколько стихотворений, написанных одним и тем же четырехстопным ямбом, но с различными клаузулами:
Я мало жил и жил в плену, Таких две жизни за одну, Но только полную тревог, Я променял бы, если б мог
(Лермонтов)
Мой дядя самых честных правил, Когда не в шутку занемог, Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог
(Пушкин)
J
j
і
l
По вечерам над ресторанами Горячий воздух дик и глух, И правит окликами пьяными Весенний и тлетворный дух
(Блок)
Плыла над морем даль опаловая, Вечерний воздух полон ласки К моей груди цветок прикалывая, Ты улыбалась, словно в сказке.
(Брюсов)
Очевидно резкое различие этих строк, в основе его лежит
различие клаузул (в первом — только мужские клаузулы, во
втором — чередуются женские и мужские, в третьем — дакти
лические и мужские, в четвертом — гипердактилические и жен
ские). '
Объединение строк, имеющих различные клаузулы, создает новые ритмические вариации. Выше мы говорили, что сочетания строк с различно расположенными ударениями создают своеобразный ритм, точно так же сочетания строк с различным чередованием клаузул дают в руки поэта новое выразительное средство.
лх Л. і
Веда îpayipaua АІдеш* авудшвых повторов (рифм), то стих такого тина называют белым стихом. Но белый стих как/ бы подразумевает возможность появления рифм, восприни-м«е*ся н» фойе рифмоващзррго стиха. Поэтому античный и руе-еЩ01 народный стих, Вообаде те знающий рифмы, к белому стяху сят. Белым стяхом называют беар«фменный стих только времени. В шФйенкостя широко его применяет стихо-ная драм« 4*Е«рис Годунов» Пушкина. Ï этой драме, /% ^эстностй, межно вай[ти лржмерм перехода от белого стиха
к рифмованному).
зависимости от расположения рифм различают рифми или парные (в рядом стоящих строках: аа), троимые перекрестные (абаб — через строку), опоясанные, коль* <1цв0ые, или охватные (рифмуются между собой крайние строки f Сданной строфы: абба), тернарные (через две строки на третью: J^ *WM6) я т. д.
| |t , |
% • * Рифма, образованная повторением одинаковых звуков (за-tûs — не мое), называется тачной, повторением сходных глас-звуков (докеры — оперы) — неточной, ассонансом. Редао консонанс (где рифмуют одинаковые согласные, гласные различны, например: кедр — кадр). Встречается, особенности в новейшее время, составная рифма (Гароль-— со льдом). Если составная рифма подобна тому слову, о котором она рифмует, ее называют каламбурной (Даже К финским скалам бурым обращаюсь с каламбуром). Количество слогов в рифме может соблюдаться неточно, в таких случаях она называется неравносложной (К.овно — нашинковано). количеству звуков, образующих повтор, различают рифму (глубокую) и бедную (остер — костер и костер — хор). » $>оль рцфмы в стихе чрезвычайно велика, О ритмообразую-» Щем vee значении говорилось выше. Следует отметить ее смысЛо-Вое tfинтонационное значение. Слово, стоящее в рифме, опирается на паузу и на звуковой повтор, поэтому оно особенно отчетливо произносится, привлекает к себе внимание. Поэтому в рифму чаще всего попадает наиболее значимое слово. В то же время рифма связывает между собой стихотворные строки, образуя из них более сложные ритмические построения. Все ритмические определители, которые мы выше охарактеризовали, получают еще большее разнообразие благодаря тому, что в сочетаниях строк они образуют все более и оолее сложные переплетения и переходы.
| ну«)^ ч „'' j£uT оТПц е. |
Определенное расположение рифм (реже — расположение
клаузул без звуковых повторов), связывая в определенной по
следовательности стихотворные строки, образует более слож-
)^ чем строка, ритмическую единицу — строфу. .
T fi ° Ф а- — эт° сочетание строк, скрепленн ых, ц е.1Г рифмовкой и .интонацией, обычно повторяч»*
Л, И. Тимофеев

|
| 9sS*Tf^ f 1*^<^*р*№Є -tô^.,«, j,t *K**i»Mf* s |
| &' |
 в стихотворении. В оелом стихе (без рифмы) строфа общим расположением клаузул и интонаций.
в стихотворении. В оелом стихе (без рифмы) строфа общим расположением клаузул и интонаций.
Строфа по существу представляет собой известный тип построения фразы, закрепленной в стихе при помощи сочетания нескольких строк, связанных рифмами (или клаузулами), расположенными в известном порядке Она образует интонационно-ритмическое целое, отвечающее своим выразительным строем той речи, в которой поэт конкретизирует переживания, рассказ о событиях и людях и т п Так, например, характерно, что для больших поэм со сложным сюжетом избираются обычно большие строфы, дающие развернутую и разнообразную фразу или несколько их (например, у Душкина «Домик в Коломне», «Евгений Онегин»), Такая строфа вбирает в себя речь персонажей, позволяет давать развернутые описания (кабинет Онегина, его библиотека и пр.).
Изучение стиха ни в каком случае не должно ограничиваться определением ритмического строя отдельной строки. Строка представляет собой часть более сложного ритмического целого — строфы Б. Томашевский справедливо замечает, что «стихотворная речь есть речь, конструктивно распадающаяся на единство разных степеней... Комбинация стихов может создавать более крупные единицы, из которых каждая распадается на ряд стихов» '.
Вряд ли, однако, можно согласиться с его соображениями относительно того, что двустишие и четверостишие не относятся к числу строф. Это чисто условное ограничение. Двустишие представляет собой уже сочетание строк, т. е. простейшее строфическое образование.
 Для понимания связи стихотворных строк в строфе характерно наблюдение В. Яхонтова: «Углубляясь,в работу, я уже начал понимать различие между первой и второй строчками, и как первая относится ко второй, и как первая перекликается со второй и третьей В дальнейшем я понял, что можно работать над соотношением первого слова в строке к третьему, как между ними будет звучать второе и с каким результатом я приду к кошу строчки, а затем перейду на следующую» г. _ Легко можно заметить, что в основе своей строфы истори-Д*дажи очень устойчивы, так Же как и стихотворные размеры, оайр ' переходят от поэта к Поэту из века в век. В. Брюсов справедливо писал, говоря о строфах, дошедших к нам от поэзии преЖ" нихвеков: «Построение их столь удачно, из бессчетного числа* возможных комбинаций избраны столь несомненно соверщец-
Для понимания связи стихотворных строк в строфе характерно наблюдение В. Яхонтова: «Углубляясь,в работу, я уже начал понимать различие между первой и второй строчками, и как первая относится ко второй, и как первая перекликается со второй и третьей В дальнейшем я понял, что можно работать над соотношением первого слова в строке к третьему, как между ними будет звучать второе и с каким результатом я приду к кошу строчки, а затем перейду на следующую» г. _ Легко можно заметить, что в основе своей строфы истори-Д*дажи очень устойчивы, так Же как и стихотворные размеры, оайр ' переходят от поэта к Поэту из века в век. В. Брюсов справедливо писал, говоря о строфах, дошедших к нам от поэзии преЖ" нихвеков: «Построение их столь удачно, из бессчетного числа* возможных комбинаций избраны столь несомненно соверщец-
І
"Б В Томашевский, Строфика Пушкина В кн «Пушкин Исследования и материалы», т II, изд АН СССР, M —Л , 1958, стр 50—51
2В Яхонтов, Театр одного актера, изд. «Искусство», M, 1958, стр 347—348.
нейшие, что r этим строфам поэты всегда будут обращаться вновь ft- вновь. Пока будет существовать поэзия, не перестанут, вероятно, пользоваться и дистихом из гекзаметра и пентаметра, и терцинами Данте, и октавами Тассо, и сапфической строфой, и Спенсеровой, и строфой «Ворона» Эдгара По» '.
Однако как стихотворные размеры благодаря наличию ритмических определителей, о которых мы выше говорили, всегда звучат своеобразно и отвечают в силу этого тем индивидуальным выразительным особенностям, которые присущи именно данному стихотворению, так и стихотворные строфы обладают различными индивидуальными оттенками. Эти оттенки связаны прежде всего с интонационно-синтаксической структурой строфы, определяющей индивидуальный характер связи строк, составляющих строфу Сравним несколько четверостиший Пушкина:
В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит — один во всей вселенной
Здесь перед нами все четыре строки образуют единую фразу. Обратимся к другому примеру
Где цвел' Когда' Какой весною' И долго ль цвел' И сорван кем, Чужой, знакомой ли рукою, И положен сюда зачем?
Здесь перед нами строфа совершенно другого строя, поскольку она состоит из ряда вопросительных оборотов, придающих каждой строке самостоятельный характер и даже членящих на части отдельные строки.
Обратимся к третьему примеру.
И недоверчиво, и жадно Горжуся им — но и робею
Смотрю я на твои цветы Твой недосказанный упрек
Кто, строгий стоик, примет хладно Я разгадать вполне не смею
Привет харит и красоты' Твой гнев ужели я навлек'
Перед нами строфы нового строения Первая строфа состоит из двух фраз, в каждую из которых входят по две строки, а вторая — из трех фраз, причем последняя фраза образует со> бой замкнутую четвертую строку. Каждая из этих строк имей1', тгіким образом, особое интонационное построение и тем самым своеобразное индивидуальное звучание. Анализ строфического строения стиха поэтому не должен иметь опять-таки номенклатурного характера. Разбор строфического построения стихотво* рения должен опять-таки показать его индивидуальный характер, привести к пониманию того, как сочетания строк в строфе,
1 В Брюсов, Опыты, 1918, стр 36 В этой книге даны примеры различных строф
11* 323
t
л
ИХ интонационно-синтаксическое своеобразие помогает поэту аоссоздать живую словесную форму рисуемых им переживаний. Расположение рифм в строфе, переход от одной строфы к строфе другого типа и т. д.— все это представляет собой систему ритмических определителей строфы, придающих ей индивидуальный характер. В «Полтаве», например, после двух четверостиший Пушкин, говоря о Марии, обращается к следующему пятистишию:
Зачем с не женскою д^шою Она любила конный строй, И бранный звон литаво, и клики Пред бунчуком и булавой Малороссийского владыки .
как бы вводя в четверостишие еще одну новую строку, и этим с особенной выразительностью завершает характеристику Марии. Отметим попутно, что в этой же строфе перед нами яркий пример сочетания интонационного и ритмического завершения строфы. В первой строке пятистишия три ударения, во второй — четыре, в третьей — четыре, а четвертая и пятая строки несут всего по два ударения. Этот ритмический переход приходится как раз на конец фразы и вместе с необычно звучащей строфой подчеркивает завершение той части поэмы, которая посвящена характеристике Марии.
Анализ строфы, таким образом, неразрывно связан с анализом всех остальных сторон стихотворной речи.
Короткие лирические стихотворения чаще всего ограничиваются четверостишиями, дающими более сжатое, но и более эмоционально напряженное строение фраз.
В зависимости от числа строк и порядка рифм строфы известным образом классифицируются. Простейшая строфа — двустишие. В зависимости от системы стихосложения, от размера и т д. двустишие имеет различные формы. В античной поэзии был распространен элегический дистих. Он состоял из двух строк: первая — гекзаметр (шестистопный дактиль с жен-ским окончанием), вторая — пентаметр (тоже шестистопный дактиль, но с пропуском двух кратких слогов третьей стопы и с мужским окончанием), например:
Бьет в гекзаметре вверх водяная колонна фонтана, Чтобы в пентаметре вновь мерно певуче упасть
В силлабическом стихосложении пример двустишия дает тринадцатисложник с постоянной парной женской рифмой. Двустишием во французской поэзии был каплет, позднее превратившийся в четверостишие Двустишие — александрийский стих французской поэзии (возник в поэме об Александре Македонском в XII веке — отсюда его название), использованный затем в русской поэзии. Во Франции это двенадцатисложный
"Ч.
і'/Ч
стих с цезурой после третьей стопы. В трагедии он имеет парную рифму (героический александрийский стих). В лирике он дает перекрестную рифму (абаб) и образует четверостишие (элегический александрийский стих).
В русской поэзии александрийский стих — шестисложный ямб с теми же особенностями.
Следует оговориться, что и силлабический тринадцатислож-ник, и александрийский стих (двустишие) далеко не всегда образуют строфу и очень часто представляют собой астрофиче-ский стих (например, александрийский стих в трагедиях, посланиях и пр.). Происходит это в тех случаях, когда двустишие интонационно не заканчивается в пределах двух строк и фраза включает в себя ряд строк. В этом случае очень ясно видно', что строфу образует не только рифма, но и интонационная законченность. Несмотря на наличие последовательно проводимой через стихотворение парной рифмовки, отсутствие этой интонационной законченности мешает возникновению строфы; в этих случаях и силлабический тринадцатисложник, и александрийский стих образуют астрофический стих.
I* «J Трехстишие дает несколько форм, в зависимости от рас-I положения рифм. Рифмы обозначаем буквами, повторяющиеся І буквы указывают порядок рифм в строфе. Трехстишие (терцет) I может иметь вид ааа, т. е давать три строки на одну рифму, I может давать иное их расположение. Наиболее распространен- ной его формой является терцина, примененная, в частности, Данте в «Божественной комедии». В терцине рифмуют крайние строки, а средняя строка рифмует с крайними следующей строфы (аба бвб вгв и т. д.). Таким образом, каждая строфа вводит одну незарифмованную в ней строку, которая вызывает рифмы следующей терцины, образуя своеобразную цепь из строф, переходящих одна в другую (цепная строфа). Заканчивается ряд терцин одной строкой, рифмующейся со средней строкой последней терцины и как бы погашающей непрерывный поток терцин
Наиболее распространенной строфой является четверостишие (катрен). Основные его виды: перекрестная рифма (абаб) и опоясанная (абба), реже встречаются иные виды
Далее следуют пяти-, шести-, семистишия, дающие весьма разнообразные по расположению рифмующих строк построения Распространена секстина (шестистишие); особый вид — сложная секстина: стихотворение, состоящее из шести секстин. Слова, образующие рифмы первой секстины, составляют рифмы и остальных пяти, повторяясь в различных вариациях
Из восьмистиший распространена октава1 строфа из восьми строк, первые шесть дают перекрестную рифмовку,
k
k »*
С *
две' последние — парную. Схема октавы: абабабвв, пример — *Д<йайк в Коломне» Пушкина. Восьмистишие применяется '^.-балладе французских лириков XIV—XV веков. Схема ее: абабавав. Баллада состоит из трех восьмистиший и «посылки» — четверостишия. Кроме того, последняя строка первой строфы повторяется как «припев» (рефрен) во всех остальных строфах.
На повторении строк (помимо определенно'й системы риф- • мовки) основаны и другие строфы средневековой поэзии (так . называемые формы рондо). Такого типа восьмистишием является триолет, в котором рифмы идут в следующем порядке: абааабаб, причем первая строка повторяется, как четвертая и седьмая, а вторая — как восьмая. Пример триолета:
Осенний ветер, а сердце весеннее,
Когда же придешь ты, моя зима?
День все короче, вино все пеннее.
Осенний ветер, а сердце весеннее,
Душа все чище, душа нетленнее,
И я не знаю, есть ли в мире тьма.
Осенний ветер, а сердце весеннее,
Когда же придешь ты, моя зима? *
(И. Рукавишников)
•Д ев я тистишие (нона) дает различные виды расположения рифм, среди которых известна Спенсерова строфа (абаббабаа, пример — «Чайльд Гарольд» Байрона).
Десятистишие (децима) опять-таки дает различные типы рифмовки, среди них следует отметить сицилиану (абабабабаб) и строфу, которая обычно применялась в одах (абаб ввг ддг).
Более сложные строфы встречаются редко: из тринадцати строк состоит рондель; из пятнадцати — рондо.
Особый вид сложной строфы представляет собой с о н е t: это стихотворение из 14 строк, состоящее из двух катренов и двух терцетов (схема катренов: абаб абаб или абба абба, при этом рифмы в обоих катренах одинаковые; терцеты строятся различно, но имеют три рифмы, пример — сонет Пушкина «Суровый Дант не презирал сонета»).
В русской поэзии пример сложной строфы дает 14-строчная строфа «Евгения Онегина» Пушкина, объединяющая последовательно — перекрестное четверостишие, две парные рифмы, опоясанное четверостишие и снова парную рифму (схема: абаб вв гг деед жж). Эта строфа дает необычайно гибкую и разнообразную интонационную структуру, которая позволяет Пушкину совершенно свободно передавать самые различные оттенки речи в произведении такого широкого жизненного охвата, каким является «Евиений Онегин».
I
Мы до сих-пор говорили о строфах, основанных на чередовании строи одинакового ритмического строения (изометрические строфы). Могут быть, однако, строфы, в которых сочетаются строки различного строения (г ете p о м етриче-ские строфы), например:
У приказных ворот собирался народ
Густо. Говорил в простоте, что в его животе
Пусто.
(А. Толстой)
Это дает новые разнообразные интонационно-ритмические вариации.
Сочетание разностопных ямбов образует вольный (басенный) стих:
Проказница Мартышка, Осел, Козел
Да косолапый Мишка Затеяли сыграть квартет.
(И. К p ы л о в )
В том случае, если стих не обнаруживает отчетливого строфического строения, его называют астрофическим (пример— «Медный всадник» Пушкина).
Рифмы и строфы характеризуют не только силлабо-тоническое стихосложение, но и другие системы. Выводы, нами полученные, а также терминология распространяются и на них. Точно так же по аналогии можно заключить, что в каждой из систем стихосложения большую роль играют различные ритмические определители. Обращаясь к стиху, как к общему типу .эмоционально окрашенной речи, поэт в то же время, используя различные ритмические определители, придает своему стиху своеобразный, индивидуальный характер, в стихе объединяется общее и индивидуальное. Вот почему многие размеры, на первый взгляд уже весьма старые, звучат по-новому и в наши дни. Это происходит потому, что в связи с новым содержанием стих как форма общей эмоциональной окраски речи всегда получает особое индивидуальное звучание в связи с данным содержанием. Стих, как и слово, многозначен и, взаимодействуя с новыми выразительными средствами, сам звучит по-новому.
дольник и тонический стих
Выше мы охарактеризовали трехсложные размеры силлабо-тоники. Наряду с тяготением к сверхсхемным ударениям, играющим роль ритмических определителей, в них иногда пропускаются отдельные безударные слоги. Например, в строке Что ты заводишь песню воєнну — перед нами дактиль. Однако
•-827
__ _*fj
йо второй стопе его пропущен слог (—v
„ Этот пропуск уже нарушает строгое чередование слогов, харак-
~ ^ терное для силлабо-тОники, расшатывает ее изосиллабизм (рав-
| несложность). В том случае если эти пропуски становятся ча-
стыми, ритм стиха приобретает своеобразный характер. С од-
| ной стороны, продолжает ощущаться его трехсложная основа,
с другой — она в ряде случаев нарушается и тем самым пони
жается роль безударных слогов как элемента соизмеримости
строк и повышается роль ударений, одинаковое число которых
в строке и определяет соизмеримость строк между собой.
( Строка как бы начинает распадаться на обособленные друг
от друга доли, связанные с ударениями, например:
І Все чаще в темных костелах,
* В углу, без сил рклонена,
І Сидит, в мечтах невеселых,
І Мать, сестра иль жена
|| (В Брюсов)
l ^
( " Здесь в первых трех строках пропущено по одному слогу,
а в последней строке — два слога. Возьмем еще более резкий пример:
ï Белые бивни бьют ют
В шумную пену бушприт врыт,
'' Кто говорит шторм — вздор,
Если утес — в упор!
(Н. Асеев)
, Мы ощущаем здесь трехсложную основу, но чувствуем, что
она уже настолько изменилась, что ритм стиха имеет новый
сравнительно с силлабо-тоникой характер Стих такого типа, в
( котором строка делится на доли, соотношение которых и опреде-
ляет соизмеримость строк, а равносложность строк, сохраняясь в известной мере, уже значительно ослаблена в своей ритмической роли, называется дольником.
Дольник представляет собой переходную форму от силлабо-тоники к тоническому стиху.
Вообще говоря, в основе и силлабического и силлабо-тонического стиха лежит то или иное соотношение ударений в строке (более отчетливое — в силлабо-тонике, менее отчетливое — в силлабике). Но в них оно связано с весьма большой ритмообра-зующей ролью безударных слогов Дольник дает пример стиха, снижающего эту роль безударных слогов и строящего свой ритм главным образом на ударениях.
Еще более отчетливый отказ от учета в строке числа и места
безударных слогов мы наблюдаем в тоническом стихе. Ритм его
І основан на сохранении одинакового в основном числа ударений
|г в строке, а безударные слоги при этом по существу не учиты-
$
1;
ваются. если в основе античного стиха лежит изохронизм (равновременность), а в основе силлабики и силлабо-тоники — изосиллабизм (равносложность), то в основе ритма стиха этого типа лежит изотонизм (равноударность).
Схему тонического стиха можно обозначить формулой: х'—х'—л'—х', где ' — ударение, ах — безударные слоги (любое их количество: от 0 до 5—6 и более), например:
не терплю книг. Откнижек
мало толку — от тех,
которые дни проводят,
взобравшись на полку. Книг
не могу терпеть, которые
пудом-прессом начистят
застежек медь, гордясь
золотым образом, прячут
в страничную тишь бунтующий
времени гул,— таких
крепостей-книжищ я терпеть не могу. Книга —
та, по-моему, которая
худощава с лица. Но вложены
в страницы-обоймы строки
пороха и свинца. Меня ж
печатать прошу летучим
дождем
брошюр
(В Маяковский,
Лучше тоньше, да лучше)
Легко заметить, что безударные слоги в этих строках дают весьма различные вариации. Ударные же слоги здесь строго выдержаны. В каждой строке три ударных слога. Равноудар* пость налицо, равносложное™ пет1.
1 Ряд соображений о тоническом стихе и обзор работ о нем даны в статье В M Жирмунского «Стихосложение Маяковского» («Русская литература», 1964, № 4).
 В зависимости от числа ударений в строке можно говорить О двухударном размере тонического стиха, о трехударном, о четырехударном Свобода в расстановке слогов в строке делает тонический стих значительно более гибким в смысле использования слов различного строения сравнительно со стихом иного типа. Отсюда вытекает и большая синтаксическая гибкость этого стиха, большая его выразительность, что и определяет его распространение, в особенности благодаря поэтической деятельности Маяковского
В зависимости от числа ударений в строке можно говорить О двухударном размере тонического стиха, о трехударном, о четырехударном Свобода в расстановке слогов в строке делает тонический стих значительно более гибким в смысле использования слов различного строения сравнительно со стихом иного типа. Отсюда вытекает и большая синтаксическая гибкость этого стиха, большая его выразительность, что и определяет его распространение, в особенности благодаря поэтической деятельности Маяковского

|
Iff
*%
* А
РИТМИЧЕСКИЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛИ ТОНИЧЕСКОГО СТИХА
Выше мы рассматривали ритмические определители силлабо-тонического стиха Определители эти выступают в силлабо-тоническом стихе с особой наглядностью, поскольку этот стих характеризуется сравнительно с другими системами русского стихосложения наибольшей симметричностью. Строки его, как мы помним, соизмеряются и по числу слогов, и по сравнительно строго соблюдаемому порядку соотношения ударных и безударных слогов. Поэтому любое изменение в соотношении этих элементов уже придает строке индивидуальный оттенок, выделяет ее сравнительно с другими. В тоническом стихе при весьма большой свободе в соотношении ударных и безударных слогов, что, естественно, определяет значительно большую свободу и в расстановке самих ударных слогов, эти соотношения уже малоощутимы сравнительно с силлабо-тоническим стихом и в большинстве случаев не выступают как отчетливые ритмические определители. Однако в тоническом стихе наличествуют другие, но столь же отчетливые ритмические особенности, которые определяют индивидуальный характер строк и тем самым выступают в качестве ритмических определителей. Здесь прежде всего следует указать на уже отмечавшуюся нами характерную черту стиха Маяковского (являющегося ярким примером тонического стихосложения), состоящую в своеобразном сочетании тонического стиха с силлабо-тоническим Эти сочетания мотивируются по большей части тематическим или композиционным членением стиха, как, например, в XVIII главе поэмы «Хорошо1», где Маяковский, ведя воображаемый разговор с тенями почивших революционеров, их вопросы передает тоническим стихом, а свои ответы — силлабо-тоническим:
И чудится мне,
что на красном погосте товарищей
мучит
тревоги отрава,
По пеплам идет,
сочится по кости, выходит
на свет
по цветам
и травам, И травы
с цветами
шуршат в беспокойстве
— Скажите —
вы здесь?
Скажите —
не сдали'
Идут ли вперед'
Не стоят ли' —
Скажите — достроит
коммуну
из света и стали
республики ,
вашей
сегодняшний житель'
— Тише, товарищи, спите .
Ваша
подросток страна с каждой
весной
ослепительней, крепнет,
сильна и стройна — И снова
шорох
в пепельной вазе лепечут
венки
языками лент.
— Ав ихних
черных
Европах и Азиях боязнь,
дремота и цепи'
— Нет! В мире
насилья и денег, тюрем
и петель витья ваши
великие тени ходят,
будя
и ведя
— А вас
не тянет
всевластная тина' Чиновность
в мозгах
паутину
не свила'
А/.
| В зависимое Ін рить о диух |
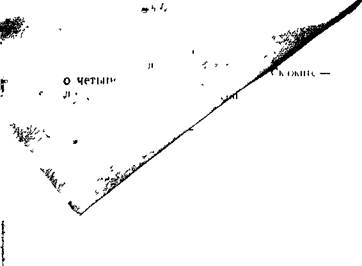 едина?
едина?
к бою
партийная сила? Спите,
товарищи, тише .. Кто
ваш покои огберет> Встанем,
штыки ощетинивши, с первым
приказом
«Вперед1»
Понятно, что сами по себе тонические и силлабо-тонические строки не имеют непосредственного выразительного значения. Но здесь, как и в других случаях, которые мы выше разбирали, выразительное значение имеет самое отношение ритмических порядков- смена их (как в данном случае), нарастание, контрасты и т. п.
Говоря о ритмических определителях тонического стиха, мы, как и в силлабо-тоническом стихосложении, должны опять-таки учитывать, что единство ритмической организации строк не означает их тождества Соизмеримость строк определяется совпадением не максимума, а минимума определяющих соизме-.римость элементов. На этом-то в значительной мере и основано индивидуальное своеобразие строк, дающих самые различные вариации — от минимальной до максимальной симметричности. Мы видели, что в пределах четырехстопного ямба умещаются как соизмеримые и двухударные, и четырехударные строки; точно так же и в тоническом стихе при наличии общего (двухударного, трехударного, четырехударного и т. д.) ритмического движения возможны те или иные отступления в ту или другую сторону от господствующего в стихотворении числа слогов в строке. Так, «Послание пролетарским поэтам» Маяковского строится на четырехударном ритме, но строка
Сделай одолжение,
Л ну, давай!
содержит только три ударения (поскольку «ну, давай» рифмуется со словом «нудовой»). Однако на фоне общего ритмического движения эта строка не выпадает из ритма, а представляет собой лишь его индивидуальную своеобразную форму. Эти оттенки в количестве ударений в тоническом стихе получают значение ритмического определителя, помогающего подчеркивать эмоционально-смысловые оттенки стихотворения. Так, в «Разговоре с фининспектором о поэзии», написанном в четы-
рехударном ритме, последняя, завершающая строка выделена, в частности, и ритмически — в ней три ударения:
| ' И можете
31 писать
сами'
В стихотворении «Стихи о советском паспорте», которое
j строится на чередовании четырех- и трехударных строк, послед-
f ' няя, завершающая строка двухударная. Перед нами опять-таки
своеобразный индивидуальный ритмический определитель, поддерживающий общую эмоционально-смысловую окраску последней строки:
Советского Союза'
'^ Выше мы приводили частые для Маяковского примеры об-
tj" ращения к одноударным строчкам, завершающим строфу или
I* стихотворение в цеЛом. Основой всех этих самых различных
ритмических вариаций стихотворной строки является то обстоя
тельство, что ударения в стихотворной строке, как мы уже
говорили, различны по своей ритмической значимости. Послед-
*jf нее, конечное ударение, поддержанное паузой и клаузулой»
| ' создает ощущение завершенности ритмического ряда, свиде-
^ тельствует о наличии определенной ритмической единицы —
,t строки. Внутренние ударения уже не имеют этой функции, они
определяют лишь степень соизмеримости строк между собой.
"^ 'Поэтому-то наличие строки даже с одним ударением не ломает
1 ритма, поскольку сохраняет наличие ритмической единицы
(тем более что в таких случаях это ударение чаще всего опи-
' , рается еще и на рифму):
d[ Петербургские окна
*•" Сине и темно.
?tC Город
Pound;~ СНОМ
і Но .. * не спит > мадам Кускова.Н И И, В кпшфртнпм_п ррржннянии------------------- _
3!И н д и в и.jTyja лизированность этого переживания, осуществляющаяся^ отвечающем ему стр6ё~~рё~чи (типизирую-"" щей особенности… Говоря о том, что лирика отражает жизнь, рисуя конкретные человеческие… 12 Л. И. Тимофеев • 353ИНТереС, ЖИЗНеННОСТЬ, ВОСПИТатеЛЬНОе И ЭСТеТИЧеСКОе ЗНачеНИе.1
То обстоятельство, что в лирике мы имеем дело с изображен наем самостоятельных изолированных переживаний приводит к тому, что формы лирического… Точной систематизации (как в эпосе) здесь не установлено, да она и не нужна,… , »аписайное по поводу чьей-либо смерти), эпи-(стихотворение на бракосочетание), элегию (стихотворение грустного,…Г 367
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖАНР,
Термин художественно-исторический жанр условен (не общепринят). Мы выдвигаем его для ^того, чтобы выделить произведения, в которых наблюдаем известное своеобразие в построении образа, которое, мы помним, и лежит в основе того, что мы назвали жанром.
Выше мы говорили о том значении, которое имеет в создании образа вымысел. Однако мы встречаем такие произведения, в которых вымысел имеет меньшее значение. Эти образы как бы воспроизводят на самом деле существовавшие факты действительности, и мы оцениваем их, именно соотнося с этими факч тами, и требуем того, чтобы они в максимальной мере точно передавали эти факты.
Примером такого рода образов, в которых вымысел отодвинут, так сказать, на задний план, является очерк.
В очерке писатель ставит своей задачей так отразить какие-либЬ реально существующие или существовавшие в жизни факты — людей, события (например, героев Великой Отечественной войны, их подвиги, имевшие место на самом деле, эпизоды трудового героизма), чтобы читатель мог их представить со всей силой жизненной убедительности как живых индивидуальных людей, как конкретные события и т. п. В задаче достижения такой жизненности изображения, обрисовки людей и событий, чтобы они выступали перед читателем как живые, работа над очерком ничем не отличается от работы над формами эпического жанра. Но автор рассказа или романа не связан жизненным фактом: он может изменить его при помощи своего творческого воображения (вымысла), соединить не-, сколько фактов в один, взять лишь часть того или иного факта и т. д. На основе ряда измененных фактов писатель при помощи вымысла создает новый факт и художественный образ.
Задача же очеркиста состоит в том, чтобы познакомить читателя с действительными жизненными фактами, ввести их в жизненный опыт читателя. Мне, читателю, живущему, скажем, в Москве, важно и полезно увидеть, какие реальные люди работают, какие реальные события совершаются, например, на Дальнем Востоке. Читателю, там работающему, важно и полезно увидеть тех, кто работает в Москве, и ту реальную обстановку, в которой они находятся, те события, которые имели место в жизни Москвы, и т. д.
Читателя наряду с «сгущенными» жизненными явлениями, которые он находит в повести, романе, рассказе, интересуют конкретные жизненные явления, как они есть; он находит их в очерке, жизненно изображающем реальных людей, реальные события»
Мы можем сказать, 'что для писателя-очеркиста «единицей изображения» является факт; он не вправе его изменить: он обязан, если он рисует, скажем председателя колхоза Ивана Петровича Сидорова, изобразить его со всеми ему присущими свойствами и особенностями, каковы бы они ни были. В рассказе же факт не является для писателя такой непроходимой границей — он может Сидорова объединить с Петровым, Федоровым и т. д., показать образ председателя колхоза, который объединяет в себе реально существующих людей, но сам в действительности не существует.
Очеркист и рассказчик работают совершенно однородно в области жизненности изображения, но отношение их к художественному вымыслу различно.
Так как писатель, работая над очерком, имеет несколько
иной материал и несколько иные цели его оформления, чем
в рассказе, то это, естественно, накладывает отпечаток на ха^
рактер его повествования и в языковом, и в композиционном
отношении. у
Жизненный факт — основа для очеркиста. Щ, и в очерке, как и вообще в художественной литературе, мы имеем дело с тем же художественным обобщением — типизацией. Дело только в том, что очеркист приходит к этой типизации по-своему.
Писатель может, изучив десять, двадцать и т. д. явлений, в каждом из которых лишь в очень небольшой мере выступают типичные, характерные свойства, создать образ, в котором эти типичные свойства выделены, усилены, ярко подчеркнуты. Очеркист точно так же должен дать читателю обобщение, однако особенность его работы состоит в том, чтобы суметь в самой жизни найти такое явление, которое в той или иной мере само по себе было бы уже типичным, и показать его читателю' во всей его жизненной яркости, со всей силой жизненности изобра-І жения. Писатель создает образ председателя колхоза. Это значит, что он наблюдал десять, двадцать председателей колхоза и создал на основе этих наблюдений один обобщенный образ председателя. Если очеркист дал очерк о председателе колхоза, то, значит, он изъездил, изучил десять, двадцать колхозов и сумел найти такого председателя колхоза, работа, характер, свойства которого типичны в той или иной мере, позволяют судить о том, каким должен быть председатель колхоза, учат на его примере других. Вот это-то умение в ряду однородных явлений найти наиболее характерное, такое, чтобы на его примере могли учиться другие, и должно быть у очеркиста. Этим путем он добивается художественного обобщения. Выбор фактов и их освещение обнаруживают отношение очеркиста к ним. В очерке мы, следовательно, имеем дело и с жизненностью изображения, и с типичностью изображения и с эстетической оценкой, т. е. с основными признаками художественно-литературного творчества.

If
Вымысел же играет в очерке подчиненную, подсобную, а не коя- _ «яуртавную роль. Понятно, что при обработке материала я Шеркист пользуется вымыслом в.той или иной мере; он может изменять последовательность событий, усложнять сюжет, вводить в повествование дополнительные персонажи и т. п., но все это не может затенять основных и реальных фактов, которым должен быть подчинен вымысел. Специфичность изображения характеров в очерковой литературе — их достоверность — есте-4 ственно и необходимо накладывает отпечаток и на ее композиционные и языковые особенности
Понятно, что мы и в очерках можем проводить такие- же различия, какие мы выше проводили между рассказом, повестью, романом Мы можем иметь дело и с малой, и со средней, и с большой очерковой формой, которую дают, например, очерки Успенского, «Губернские очерки» Щедрина. В советской литературе можно указать, например, на очерки В. Ставского: «Станица», «Разбег», «На гребне». В них В. Сгавский захватывает сложный ряд событий, целый ряд персонажей, показывая последних в развитии, рассказывая о их прошлом и т. д. Перед нами очень сложная форма очерка — типа романа. Ставский использует в нем и элементы художественного вымысла (напри» мер, описание размышлений и переживания есаула Дзюбы), но настолько осторожно, что, как известно, он мог собрать конференцию из героев своих очерков, которые обсуждали, верно ли Ставский их показал, и очень высоко оценили его работу.
Композиция очерка определена в основном характером тех явлений, которые рисует очеркист. Поэтому было бы неверно применять к ней все те требования, о которых мы договорились, анализируя эпическое изображение характеров. Прежде всего очеркист выбирает события, но не может так произвольно ихподбирать, менять и т. п., как это делает автор рассказа, стремясь к наиболее отчетливой обрисовке характеров. Точно так же и самые характеры очеркист не вправе существенно изменять. Поэтому втом случае, если событие, в котором проявил себя данный человек, не закончено или еще не достигло своей наибольшей заостренности (кульминации), то и в очерке мы не будем иметь дела со всеми знакомыми нам элементами сюжета; его сюжет может и не иметь кульминации, развязки и т. п.
Отбор фактов, наблюдений есть вообще первооснова писательского творческого процесса Сдвиги во времени, в пространстве, введение вымышленного персонажа и т. п. — все это перестановки фактов, продиктованные задачами композиции очерка. Автор «стремится выжать из факта его смысл» (М. Горький). Отбирая из всей совокупности фактов, многосторонне связанных с жизнью, лишь одно-два типичных события, писатель вынужден придать их изображению законченный, завершенный характер, додумывая ряд деталей, мотивировок.
Если при stört" asaop не отрывается от документальной основы фактов, его произведение продолжает оставаться художественным очерком.
Автор книги «Заметки писателя о современном очерке1» (М., 1962) В Канторович справедливо говорит: «Я думаю, все решает документальная (в широком смысле) основа произведения, обязательная в очерке. Материал здесь в изобилии черпается из жизни, он не потерял локальных черт, присущих именно данной местности, предприятию, среде Он должен быть непременно подан под углом зрения пытливого публициста, социолога. Вымысел в самых различных его проявлениях не должен — если произведение продолжает сохранять жанровые отличия очерка — настолько деформировать непосредственное наблюдение, чтобы нарисованная автором картина переставала быть и восприниматься читателем как документальная и локальная» (стр 30—31)
Примечательна характеристика, которую Лесков дал своему очерку «Юдоль». «Это все правда,— пишет он,-^ сшивная, как лоскутное одеяло у орловских мещанок за Ильинкой. Время изображено верно, стало быть, и цель художественная выполнена. Лица тут есть и курские, и тамбовские Для моих целей (передать картину нравов) это все равно Назвать все это воспоминаниями было нужно для того, чтобы показать, что это не вымысел. Это и не вымысел, а свод событий одного времени и одной природы в одну повесть»1.
Таким образом, по существу в очерке мы имеем дело со всеми элементами образного отражения жизни; в нем налицо конкретная картина человеческой жизни, налицо обобщение (поскольку очеркист выбирает характерные с его точки зрения явления жизни), он имеет эстетическое значение, так как в нем очеркист подчеркивает или то, что он считает ценным в жизни, или то, что считает противоречащим этим ценностям, т е. рисует жизнь в свете общественных идеалов Но элемент вымысла (хотя он и имеется) ослаблен: в центре очерка стоит действительно существовавшее явление жизни. В нем показано именно то, что было,— в этом смысле очерк историчен, но в то же время то, что было, раскрыто в очерке, как то, что могло быть, как и то, что заслуживает эстетической оценки, так как обнаружило соответствие общественным идеалам,— в этом смысле очерк представляет собой явление художественного порядка. В нем налицо образ, но образ этот отличается именно ему присущим изображением человека, действительно существовавшего в жизни, а не созданного воображением писателя.
1 См. о работе Лескова над очерками, в которых «вымысел стоплен с действительностью» в книге Валентина Гебель, H С. Лесков, изд. «Советский писатель», М., 1945, стр. 94 и ел.
Такого рода изображение человека мы и называем художественно-историческим, отмечая то, что в его основе лежит исто-рйчески существовавшее лицо или событие. Горький очень тонко заметил, что очерк «стоит где-то между исследованием и рассказом».
Поэтому грани очерка в достаточной мере зыбки. В очерках, например, Глеба Успенского зарисовки действительности документального характера настолько спаяны с обширными отступлениями самого автора, с его размышлениями о виденном, что во многом сближаются с художественной публицистикой.
Все же — при всех своеобразных оттенках — достоверность остается основным жанровым признаком очерка. Если в рас-! сказе для читателя относительно безразлична мотивировка передачи автором размышлений героя или участия его в тех или иных интимных сценах, то в очерке рассказ очеркиста о том, что думал его герой, не может не вызвать недоумения: откуда ему это стало известно, и это должно быть точно им разъяснено; если он передает, например, разговор супругов в спальне, то должен озаботиться, скажем, предварительным размещением в шкафу, из которого он действительно может услышать бесе-1 Дующих, если это нужно по ходу дела. В том случае, если очеркист это не разъяснил, его повествование теряет достоверность, он знает то, чего не может знать, стало быть, и весь очерк пере-' стает для читателя иметь документальный характер, т. е. становится повествованием о том, что могло быть, а не о том, что было на самом деле, и очерк переходит в рассказ. Для нас важно, конечно, не то, что он иначе называется, а то, что в нем другой угол зрения на действительность, хотя мы понимаем, что и в рассказе sa действующими лицами могут стоять прототипы., Однако даже перемена одной буквы в фамилии прототипа, как это сделано, например, Б. Полевым в его «Повести о настоящем человеке», обеспечивает писателю свободу творческого жеста, так сказать, не влияя на художественную убедительность образа. Художественная убедительность образа в очерке достигается другими средствами, но это ни в коем случае не превращает его в «младший» жанр, сравнительно с рассказом. Об эстетическом, обобщающем значении, о качестве индивидуализации в очерке мы выше говорили, особый характер вымысла в очерке определяет лишь его своеобразие в ряду других жанровых эпических форм
Очерк — не единственная форма художественно-исторического жанра. К нему можно отнести ряд других форм художественной литературы, в основе которых лежат исторически, реально существовавшие факты. Таковы художественные м е-муары (например, «Былое и думы» Герцена), обобщающие и эстетически окрашивающие реальные факты из жизни мемуариста; сюда же относятся худ ожественно-биогр аф и«
ч е с к и е произведения (например, «Радищев» О. Форш, «Труды и дни Ломоносова» Г, Шторма), где сюжет основан на заранее известных событиях, где задача автора состоит а конкретном их раскрытии и в эстетическом их осмыслении. Все эти и близкие им формы основаны на одном и том же типе изображения человека: на том, что он действительно существовал, ив то же время на том, что он характерен для своего времени, для своей среды в такой мере, что мог существовать, реально осуществил в-своей деятельности то, что автор считает близким своему эстетическому чувству.
ДРАМА
Третьим основным литературным родом считают драму.
Во многих отношениях драма чрезвычайно близка к эпосу.
С чисто литературной точки зрения драма в сущности и есть
эпическое произведение — ром^нА „повесть, в котором есть
только одна своеобразная__особенность: д p аЖ^тгтгпг^тгзг
p е ч и пов еств ов а теля.' " ~~
Ьгсли перед читателем эпического произведения как бы стоит
автор, рассказчик, который показывает людей и события со
своей определенной точки зрения, в своей индивидуальной рече
вой манере, то в драме такого посредника нет В ней персонажи
самостоятельно действуют на сцене, и зритель сам делает те вы
воды, которые вытекают из их переживаний и поступков. Если
при чтении драмы мы имеем еще незначительные «остатки/>
речи повествователя в виде пояснительных замечаний автора
в скобках и перед началом действия (ремарки), которые уже
весьма мало похожи на развернутую речь повествователя в эпи
ческом произведении, то на сцене отпадают и они. /
Таким образом, на первый взгляд драматическое произведе
ние— это то же эпическое произведение, в котором только не г
речи повествователя.__ .
Отсюда все то, что мы говорили об анализе эпических произведений — о развитии сюжета, о связи речи действующих лиц с их характерами и теми сюжетными ситуациями, в которых они находятся и т. д., относится и к драматургическим. Однако, помня положение о единстве содержания и формы, мы вправе спросить, какими же свойствами драмы вызван отказ от речи повествователя, т. е. не говорит ли это своеобразие формы о своеобразии содержания.
Чаще всего своеобразие драмы усматривают в том, что вп£ипве_р_р лржит прйгтвир Так, в работе Д Лоусона «Теория ^"практика создания пьесы и киносценария» (М , 1960) последовательно проводится мысль о том, что действие представляет собой «основу построения» драматургического произведения (стр. 229). Действие как основу драмы рассматривает Н. Воль-

|

|

|
| Яв к |
• ?>JtJä-&.
кеицгмйй в своей книге «Драматургия»- (М., 1961). «Можно Ая виділять именно действие в качестве специфической первсн / основы целого поэтического рода? — спрашивает Е. Горбунова '- е книге «Идеи. Конфликты. Характеры» (М., 1960) и отвечает: 4 — Думается, что, несомненно, возможно, ибо речь идет не о действии вообще, как свойстве всякого литературного произведения, а драматическом действии, суть которого, с одной стороны, состоит в непосредственной наглядности, а с другой—• в его, так сказать, «двуединой»природе, когда действие выступает в драме и как сторона ее содержания
тий внешней или внутренней жизни человекаТто, что Аристотель определил как «подражание действию»), и как форма воплощения содержания («посредством действия, а не рассказа») в движении, в поступках и борьбе» (стр. 24—25).
Легко заметить, однако, что все эти определения не выходят за пределы эпического изображения человека через его поступки И взаимоотношения с другими людьми. Наглядность, с одной стороны, может быть достигнута при помощи инсценировки или экранизации эпического произведения, а с другой стороны — ее и нет, если пьесу не смотрят в театре, а читают, и в этом случае роман не менее нагляден, чем пьеса. Что касается действия как стороны содержания и как формы его воплощения, то оно является необходимым условием развития сюжета любого эпического произведения, и это опять-таки видно из того, что многие эпические произведения переходят на сцену театру ц на экраны кино.
Следует также иметь в виду, что во многих эпических проив-ведениях можно встретить обращение к драматизированной форме повествования, где выдвигается на первый плай диалогическая форма, а речь повествователя отходит на второй план. Так, например, роман «Жан Баруа» Роже Мартена дю Гара почти сплошь состоит из диалогов, очень велика роль диалогической формы и во многих романах Достоевского. И, наоборот, в драматургии Бертольда Брехта мы встречаем примеры обращения к многоплановому эпическому развитию действия, к созданию пьес типа хроники («Матушка Кураж...» ив особенности «Отчаяние и страх в Третьей империи»).
Таким образом, хотя характер развертывания действия в драматургическом произведении, несомненно, существенно отличается от эпического, очевидна все же их внутренняя принципиальная близость, так же как и наличие еще более подчеркивающих их связь промежуточных, переходных форм: драматизированной прозы и эпической драмы.
Белинский говорил о том, что драма является синтетическим жанром, в котором сливаются~исобШНОс'ги и лирики, и эпоса: эпичность действия в целом сочетается в них с односторонностью характеров, в которых господствует какая-либо одна
главенствующая страсть, В атом отношении драма как бы вби* раег. 8- себя и эпические и лирические особенности. Но мы знаем яаанр, в котором действительно сливаются эпическое л лирическое начало; выше мы и говорили о нем, называя его, лиро-эпическим жанром. В драме же характеры, хотя они, несомненно, одностороннее, чем в повести или в романе,_ все же законченны, обнаруживают свои свойства в поступках, включены в сюжет, поэтому говорить об их лиричности нет достаточных оснований.
Но в этих замечаниях имеется в то же время весьма существенное указание на то, что изображение человека в драме отличается от изображения его в эпосе большей напряженностью и сосредоточенностью его основных чувств, мыслей, стремле- . ний. «Драматические герои,— писал Гегель,— большею частью проще в себе, чем эпические образы» '.
В самом деле, в драме мы всегда легко определяем господствующую черту характера, говоря о честолюбце Макбете, .о ревнивце Отелло, о скупце Шейлоке, о лицемере Тартюфе. Дон-Хуан, Сальери, Скупой рыцарь Пушкина являются каждый носителем определенной, именно его сжигающей страсти. Наоборот, несравненно труднее определить господствующую черту Онегина, Вронского, Татьяны, поскольку эти характеры даны, с одной стороны, в -более сложных, а с другой стороны, в менее определенных, менее .отчетливых жизненных отношениях. «.. .драма, — писал Горьки«, — требует... сильных чувств...»2.
Эта определенность характера, то, что мы ясно ощущаем основные, господствующие в нем чувства, и позволяет драматургу отказаться от собственной речи: характер персонажа не требует авторских пояснений; он говорит сам за себя, обнаруживается в собственной речи и тем более в поступках, в действии, которое принимает в особенности сосредоточенные и напряженные формы.
Драматургический образ, следовательно, характеризуется сравнительно с эпическим образом большей определенностью и вытекающей из нее большей самостоятельностью.
Но характер, как мы помним, представляет собой известное обобщение художником той или иной стороны жизни. И большая сосредоточенность характера свидетельствует о том, что художник стремится отразить такие стороны жизни, в которых он видит наиболее острые проявления жизненных противоречий, t наиболее острые общественные и психологические конфликты. В основе сюжета всегда лежит отражение противоречий, борь-'•"бы конфликтов, характерных для жизни. Драматургический образ отражает наиболее острые и определившиеся, назревшие
1 Гегель, Сочинения, т. XII, Соцэкгиз, М., 1938, стр. 243.
3 А. М. Горький, Несобранные литературные критические статьи, Гос
литиздат, М., 1941, стр. 145. '
противоречия жизни, поэтому-то он строится на подчеркивании в характере человека одностороннего пафоса, который обусловлен,этими противоречиями. Для него уже не существенны остальные вопросы жизни, так так он сосредоточен на ограниченном, но в то же время крайне напряженном круге их. Они определяют развитие в нем ограниченных, но в то же время крайне напряженных чувств, которые представляют средоточие его характера и выражаются поэтому в стремительно развивающихся событиях, раскрывающих сущность конфликта. Отсюда — своеобразие драматургического сюжета, который строится на более острых и в то же время более узких (по количеству действующих лиц, периоду времени и т. п ) противоречиях сравнительно с эпосом, не пересекается с другими сюжетными линиями и т п.
Создание драмы поэтому предполагает прежде всего осмысление писателем такого жизненного материала, который по своей природе требовал бы для своего раскрытия драматургических образов, т е. наиболее острых и определенных жизненных противоречий Отсюда уже вытекает создание характеров, охваченных сильными чувствами, продиктованными этими противоречиями, и поэтому как бы оставляющих в тени остальные свои черты. А это требует и сюжета, полного борьбы, напря» женность которой как бы заменяет широту-жизненного охвата, Которая характерна для эпоса. Поэтому-то и бывают малоудачными переделки для сцены эпических произведений- характеры их и более многосторонни, и в то же рремя менее определенны, сосредоточенны, чем драматургические характеры, поэтому на сцене они теряют в своей полноте и не выигрывают в сосредоточенности, нарушая в той или иной мере закон единства формы и содержания 1.
v /То обстоятельство, что драма в особенности связана с наиболее острыми жизненными противоречиями, сказывается в том, что она развивается менее равномерно сравнительно с эпосом и лирикой. В такие периоды, когда общественная жизнь развивается относительно спокойно, драма чаще всего мало распространена Наоборот, в периоды, когда общественные отношения обостряются, драма выдвигается на первый план, начинает развиваться в особенности полно. Так, в России драма зарождается по существу в петровское время, развивается в годы национального подъема России (драматургия Сумарокова), новый подъем ее приходится как раз на годы развития декабристского движения («Горе от ума» Грибоедова, «Борис Годунов» Пушкина);
1 «Драматшация и экранизация в масштабе большой эпической работы невозможна»,— справедливо замечает современный румынскии исследователь Stlvian losifescu — «Zaganienia rodzaj hterackich», 1961, т. 4, № l (6), ст. «Литературные жанры и виды», стр 108.
затем новый период ее развития в творчестве А. Островскою совпадает с общественным движением в период отмены крепост -ного права (50—60-е годы); Горький дает новый толчок развитию русской драмы, отражая вступление на историческую сцену рабочего класса В дни Великой Отечественной войны драма снова приобрела особенное значение. «Фронт» Корнейчука, «Русские люди» Симонова, «Нашествие» Леонова сыграли большую роль в развитии патриотического чувства в дни войны
Перед нами, следовательно, ряд примеров того, что особенно напряженные конфликты общественной жизни подсказывают писателям изображение характеров, чувства которых обострены благодаря этим противоречиям. Эти общественные конфликты подсказывают драматургу и напряженность сюжетов Отсюда и вытекает, что в такие периоды создаются особенно благоприятные условия для развития именно драматургических образов.
Поскольку драматургические сюжеты в особенности связаны с отражением наиболее острых жизненных конфликтов, постольку в них на первый план выступает изображение жизненной борьбы, столкновение стремлений и воли героев, приводящее их к гибели или к победе
/ Соответственное этим еще в античности, выделились две основные формы драматургического жанра — трагедия Jj к_о м е д и я. Происхождение этих терминов, связано с периодом, когда искусство еще не было отделено от религиозных, обрядовых представлений Древнегреческие песни и пляски на празднествах в честь бога Диониса сопровождались принесением ему в жертву козла; во время празднеств исполнялось сказание о Дионисе — трагедия (трагос — козел, одэ — песнь, трагедия — козлиная песнь, песня в честь козла) В процессе своего дальнейшего развития трагедия превратилась в театральное арелище, получила определенное й устойчивое композиционное строение. С обрядовыми представлениями связано было и возникновение комедии (комос — веселая толпа, одэ — песнь), в основе которой лежат хоровые песни, переплетенныё~с"~вёсё::* лыми бытовыми сценками
В своем развитом виде и трагедия, и комедия представляют особые композиционные формы драматургического жанра, определенные своеобразием изображения в них характеров Неразрешимое, непримиримое противоречие отражается в трагических образах. Трагедия и есть такая форма драматургического -жанра, которая характеризуется изображением безвыходного^ противоречия, в результате которого борьба, положенная в ос^_ нову сюжета, кончается гибелью героя * ^
Такое понимаТїие трагедии, установившееся в искусстве прошлого, неприменимо уже к советскому исскуству. В советской
1 О трагедии см Ю Б о p е в, О трагическом, М, 1961«

действительности получило распространение выражение
ЗДргйМйстическая трагедия» (так назвал свою пьесу В. Вишнев-»
'•'•ff ский),совмещающее, казалось бы, несовместимое понятия.Кон-s
'фликт, связанный с неотвратимой гибелью героя, представ
ляется безвыходным в том случае, если мы подходим к нему
с индивидуалистической точки зрения: с гибелью личности кон
фликт действительно представляется уже неразрешимым. Од
нако если человек борется за общее дело, если он понимает, что
'^ его личная гибель ведет к победе этого дела, то, погибая, он
,1= 'к видит свою победу, и это определяет его духовное торжество,
„Lf ) освобождает его от сознания безысходной гибельности и без-
1 • «надежности Героические подвиги советских людей, в дни борьбы
|! с фашизмом грудью закрывавших дула пулеметов, чтобы по-
.г мочь успеху общей атаки, являются ярчайшим примером прео-
тГ деления безвыходности трагического конфликта, связанного
- с гибелью героя: торжество общего дела, за которое он погиб, t ^ разрешает то безвыходное для индивидуалистического отноше-w*f *. ния к жизни положение, которое связано с личной гибелью че-
«&/*' ловека
:Щ " J< о м е д ия. наоборот, в широком смысле давала изображе-
l'i ниє таких конфликтов, которые кончались победным исходом
w борьбы для героя. И термин драма в узком смысле относили
je* к.произведениям, в которых борьба заканчивается примирением
tj борющихся сторон
if Позднее эти термины приобрели несколько иное значение.
Трагедия по-прежнему в искусстве прошлого обозначает изобра
жение неразрешимого противоречия, влекущего к гибели героя.
Драма — изображение конфликтов, острых, но в той или иной
it мере разрешимых, почему судьба героя может иметь в ней раз-
'| ' личные формы. И, наконец, комедия стала подразумевать
і изображение комических «ар'актеров, которые дают неожидан-
ное разоблачение внутренней неполноценности претендующего
на полноценность явления. Эти основные формы драматургиче
ского жанра в сценическом осуществлении дают различные
, вариации, зависящие от характера сценического исполнения
(водевиль—комедия на легкие бытовые темы, первоначально с музыкой, фарс — комедия бытового и в то же время преувеличенно гротескного характера, мелодрама — драма подчеркнуто эмоционального характера, в другом смысле слова — драма с музыкальным сопровождением и пр).
При всем различии сюжетной организации этих драматургических форм строение сюжета в них обнаруживает известное сходство: это драматургический сюжет. Изображение людей в наиболее острых жизненных положениях (трагических или комических), естественно, определяет и более стремительный и в то же время запутанный ход развития действия сравнительно с эпосом. Драматургический сюжет строится на тех же
і - 378
элементах, что и эпический сюжет (завязка, развитие действия, кульминация, развязка), на они обычно даются в более сложном и неожиданном для зрителя развитии (старое название драматургического сюжета — интрига, от латинского слова intrîeare — запутывать -*• послужило основой для житейского понимания интриги как скрытых действий кого-либо, происков и т. д.) Эта напряженность драматургического сюжета, основанная и на отражении наиболее острых жизненных конфликтов, и на необходимости обнаружить господствующие черты характера действующих лиц, все время исторически меняется в зависимости от того, какие конфликты выдвигаются в данный период на передний план, но самая напряженность сюжета_есгь общая черта всех форм драматургического"жанра. Таким обра-зом, драма в своей родовой основе чрезвычайно близка к эпосу, хотя с самого начала своего исторического существования развивается совершенно своеобразным путем Своеобразие это (помимо специфики драматургического характера, о чем уже говорилось) связано с тем, что драма исполняется на сцене.
Драматургический образ осуществляется не только при помощи языковых средств, но и при помощи средств, которые предоставляет драматургу сцена
Для конкретизации своих образов драматург располагает и вещами, и звуками, и светом, и, самое главное, голосом, внешностью, жестами артиста. Если писатель должен тщательно описывать вещи, движения, звуки и т п , при помощи слова заставляя читателя представить себе то, о чем он говорит, то драматург имеет возможность непосредственно показать их на сце-ч не. В рукописях Пушкина мы находим следы его работы над описанием стука в дверь (в «Гробовщике») : в «дверь постучали», «в дверь постучали тремя ударами», «в дверь постучали тремя франкмасонскими ударами», но в пьесе «Каменный гость» Пушкин просто отмечает: «стучат», поскольку на сцене этот стук будет дан совершенно непосредственно.
Драматургический образ строится, следовательно, иначе, чем лирический и эпический, не только с точки зрения его родовых особенностей, т е различного изображения характера, но и с точки зрения различия средств, которые применены для их создания Это различие зависит именно от сценичности, которая определяет своеобразие драматургического образа, необычайно расширяя возможности его конкретизации Ч Но,
1 E H. Горбунова указала в книге «Идеи Характеры Конфликты», что это соображение ведет к выводу драма представляет собой нечто выходящее за пределы театра (стр 32) Здесь явное недоразумение сценичность имеет значение не для определения родовых признаков драмы, а для понимания своеобразных условии работы драматурга над созданием образа, без чего анализ драмы получит узко литературный характер и не затронет специфики мастерства драматурга.
ft"
c другой стороны, сценичность и ограничивает возможности драматургического образа «Сравнительно с образом, который осуществлен только языковыми средствами. Драматургический образ может конкретизировать только то, что можно показать в движениях, вещах, в разговоре людей друг с другом. Но он не может с такой полнотой раскрыть внутреннее содержание человека во всех его тончайших оттенках, как это доступно эпосу и лирике. Точно так же ограничен он и условиями сценической площадки, на которой разыгрывается драма. Она не позволяет драматургу изображать, например, такое большое количество действующих лиц, какие могут быть изображены в романе, не позволяет показывать сложные переплетения действующих лиц, охватывать неограниченно большие периоды их жизни. В этом легко убедиться, сравнивая, например, литературные произведения и их инсценировки. «Анна Каренина» Л. Толстого в инсценировке совершенно освобождена от сюжетной линии Кити и Левина. Для постановки «Войны и мира» предполагалось ставить . пьесу в течение двух вечеров, но и то при условии, что будет показан лишь материал двух последних томов, а первые будут оставлены в стороне. Представить себе все богатство материала этого романа в драматургическом воплощении просто4 невозможно: сцена не в состоянии его вместить. Драматургический о0раз, с одной стороны, конкретнее эпического, но, с другой стороны, и одностороннее, уже его. Понятно, что мы не должны делать отсюда вывод о том, что один из этих образов «лучше», а другой «хуже»: каждый из них осуществляет свои особые художественные цели. Нам важно отметить здесь лишь отличие их друг от друга.
В основе этого различия, следовательно, лежит то, что драматургический образ полное свое воплощение находит именно на сцене. «Драма живет только на сцене,— говорит Гоголь.— Без нее она, как душа без тела».
Чтение не дает читателю полного представления о содержании драмы, она получает свое окончательное воплощение только на сцене. Об этом очень ясно говорил А.Н.Островский: «Только при сценическом исполнении драматический вымысел получает вполне законченную форму... Драматическое искусство, принадлежа литературной своей стороной к искусству словесному, другой стороной — сценической — подходит под определение искусства вообще. Все, что называется в пьесе сценичностью, за$и-сит от особых художественных соображений, не имеющих ничего общего с литературными. Художественные соображения основываются на так называемом знании сцены и внешних эффектов, т. е. на условиях чисто пластических» *.
'А. Н. Островский, Полное собрание сочинений, т. XII, М., 1952,
стр. 43.
Так же подходил к пониманию сценичности К. Станиславский. «Только на подмостках театра можно узнать,— говорил он,—сценнческое произведение во всей его полноте и сущности» 1.
Возможность полного воплощения образа в исполнении артиста настолько важна для драматурга, что его воображение в процессе создания образа зачастую как бы применяет его к облику уже известного ему артиста, который может сыграть именно эту роль. И здесь опять-таки работа драматурга над созданием* образа отличается от творческой работы писателя: у него свои специфические средства, которые подлежат изучению драматургией. Поучительно замечание Гёте:
«Шекспир в своих пьесах едва ли думал о том, что они будут лежать перед читателем... он видел перед собой сцену, когда писал. Он видел в своих пьесах нечто подвижное и живое, что быстро изливается с подмостков перед зрителями»2.
Гоголь говорил о создании «Ревизора»: «Создавая этих двух маленьких человечков (Бобчинского и Добчинского.— Л. Т.), я воображал в их коже Щепкина и Рязанцева».
Точно так же Пушкин в наброске комедии обозначал действующих лиц именами тогдашних известных ему артистов: Валберховой, Сосницкого и других. Островский писал пьесы, рассчитывая на определенных актеров.
В письмах Чехова имеется целый ряд указаний, из которых видно, как он учитывал значение личности артиста при создании роли. Так, узнав о том, что в «Иванове» роль Саши будет играть М. Г. Савина, он внес в эту роль ряд существенных изменений3. Ряд драматургических характеров восходит к определенным артистам, с которыми соотносил их драматург, работая над произведением (например, Катерина в «Грозе» Островского), Это говорит о том, что драматург располагает иными творческими средствами, что его творческое воображение опирается на иной материал. Здесь драма, переплетаясь со сценичностью, выходит уже за пределы чисто литературоведческого анализа, требуя учета условий театра, сцены.
Опираясь на все те средства, ко-.орые дает драме сценичность, она достигает исключительной выразительности, исключительной силы воздействия в качестве уже нового искусства.
Поэтому-то, между прочим, бывают малопродуктивны попытки приспособления литературный произведений к сценическому их использованию, так как здесь, по существу, речь идет
1 К- С. Станиславский, Собрание сочинений в 8 томах, т. 3, М,
1955, стр. 85.
2 Эккерман, Разговоры с Гёте, изд. «Academia», M — Л., 1934, стр. 706.
3 См.: А П Чехов, Собрание сочинений, т. 11, Гослитиздат, М., 1956,
стр. 329—332, 354.
ISj * '-

|
.ч*;
о переводе одного искусства — литературы — на язык другого їШкуества — драматургййг
д' Вообще драматургическое произведение по своему типу яв*~' ляется средней эпической формой. Поэтому-то инсценировка и киноэкранизация большой эпической формы — романа — и не ( может привести к успеху. Однако и здесь"следует иметь в виду, что устранение образа повествователя неизбежно ведет к огруб- ' ленню произведения, так как из него исчезают внешне неуловимые, но" в то же время чрезвычайно существенные оценки и характеристики, данные во всей системе именно авторской речи. И для замены их необходимо искать новые композиционные и •зрительные формы, которые в конечном, счете ведут к пересозданию прозаических произведений для нужд сцены или экрана («по мотивам»), исходя уже из норм Сценичности.
Горький писал: «Я вообще против «инсценировок»...»1.
Столь ж'е решительно выступал против них Ф. Достоевский2.
Все эти соображения позволяют нам заключить, что драма на сцене по сути дела не является просто еще одним литературным родом — она представляет собой нечто выходящее уже за пределы литературы, и анализ ее может быть осуществлен уже не только на основе теории, литературы, но и теории театра.
Однако мы вправе определить те вопросы, которые встают • перед нами при изучении литературной стороны драмы. Перед, нами вопросы, связанные с анализом идеи и темы, определенные характеры, воплощающие в себе идейно-тематическую основу произведения, сюжет, язык персонажей, т. е. ряд чисто литера-турных явлений, которые и надлежит изучать литературоведу.
?', »
САТШЯА
Выше мы видели, что вопрос о литературном роде, жанре по сути дела зависит от способа изображения человеческого характера. С этой точки зрения различия лирики и эпоса определяются прежде всего тем, что в одном случае перед нами закон.-ченные, более частные отличия в трактовке характера сказываются в разграничении эпоса и драмы и, с другой стороны, в отличии друг от друга малой, средней и большой эпической формы. Но проблема трактовки характера не сводится только к различию лирического и "эпического их изображения. Уже говоря о художественно-историческом жанре, мы могли видеть, что в нем выступил иной принцип разграничения. Говоря о нем, мы сопоставляли характеры, созданные на основе вымысла, и
1 Сб. «Русские писатели о литературном труде», т, 4, изд. «Советский
писатель», Л., 1956, стр. 151.
2 См.: Ф. Достоевский, Письма, т. III, Гослитиздат, М.—Л., 1934,
стр. 20.
характер», возданные на основе жизненной исторической досто-вердаета, за Ними стоящей. Строго говоря, в художественно-веторическом жанре перед вами норый тип изображения характера, в основу которого положены реально существовавшие факты. Это и позволяет говорить по сути дела об особом литературном роде — о художественно-историческом жанре, внутри которого могут быть те или иные видовые отличия. Вместе с тем все эти рассмотренные нами способы изображения характера объединяются одним, общим им всем признаком: образы, создаваемые на основе вымысла, и образы, создаваемые на основе стоящих за ними достоверных фактов, стремятся воссоздать жизненные явления, как выражался Чернышевский, «в форме жизни», сохраняя, так сказать, их реальные жизненные пропорции безотносительно к оценке их писателем (положительной или отрицательной). Но мы наблюдаем в литературе весьма широко распространенный круг произведений, в которых художник стремятся к нарушению жизненных пропорций,' к подчеркнутому преувеличению, к гротескной форме, резко нарушающей реальный облик явления. Простейшим примерам, в живописи может служить карикатура, в которой художник изображает реальное и известное лицо и вместе с тем настолько преувеличивает ту или иную его черту, что делает его смешным и нелепым. При этом преувеличение, характерное для карика-; туры,—^это преувеличение особого рода, оно связано именно с подчеркиванием смешного и нелепого в изображаемом явлении, со стремлением обнаружить его внутреннюю неполноценность, нарушить жизненные пропорции так, чтобы они обнару-. жили неприемлемость для нас изображаемого явления. Понятно, что такого рода изображение предполагает соотнесение данного явления с какой-то нормой, несоответствие которой и делает его для нас неприемлемым, смешным, нелепым, в наиболее острой форме — вызывающим негодование. «Для того чтоб сатира была действительною сатирою и достигала своей цели, надобно, во-Первых,— говорил Щедрин,— чтоб она давала почувствовать писателю тот идеал, из.которого отправляется творец ее, и, во-вторых, чтоб она вполне ясно сознавала тот предмет, против которого направлено ее жало»і. Эта подчеркнутая соотнесенность с идеалом и вместе с тем резкое отступление от реальных жизненных пропорций, присущих явлению, придает данному типу образного ' отражения действительности совершенно особый характер.
Мы зачастую сталкиваемся в жизни с явлениями, которые сами по себе представляются нам нелепыми, смешными, коми-, ческими, нарушающими жизненные закономерности. Образы,
'М. Е. Салтыков-Щедрин, О литературе и искусстве, Гослитиздат, М., 1952, стр. 126,
Ik
і'
в которых художник ставит себе задачей отразить то, что является в жизни комическим, смешным, вызывают у нас смех, в их строении имеется ряд своеобразных особенностей, заставляющих выделить их в особую группу Ч
Комическое в жизни — это явления, внутренне противоречивые, в которых мы отмечаем обесценивающее их несоответствие тому, на что они претендуют. Большинство определений комического, принадлежащих теоретикам, занимающим самые различные позиции, все же сходно в том, что подчеркивает именно этот основной его признак. Основное свойство комического состоит в том, что оно основано на ощущаемой нами внутренней противоречивости явления, на скрытой в нем, но улавливаемой нами его внутренней неполноценности, на несоответствии его внешних данных и внутренних возможностей, и наоборот.
(г Смех вызывается тем, что мы неожиданно обнаруживаем
мнимость соответствия формы и содержания в данном явлении,
что разоблачает его внутреннюю неполноценность. Белинский
видел его основу в несообразности явления с тем, что оно дол
жно представлять собой на самом деле. О том, что в основе
смешного лежит осознание противоречия между кажущейся
жизнеспособностью явления и его внутренней нежизнеспособ
ностью, говорил Маркс: «История действует основательно и
проходит через множество фазисов, когда уносит в могилу уста
ревшую форму жизни. Последний фазис всемирно-исторической
формы есть ее комедия. Богам Греции, которые были уже раз —
в трагической форме — смертельно ранены в «Прикованном Про
метее» Эсхила, пришлось еще раз — в комической форме — уме
реть в «Беседах» Лукиана. Почему таков ход истории? Это
нужно для того, чтобы человечество весело расставалось со
своим прошлым» 2. Таким образом, смех есть форма осознания
того, что явление утратило свою жизненную значимость, хотя
и претендует на нее. ~~
Юмор и вскрывает эту неполноценность, подчеркивая, преувеличивая, гиперболизируя ее, делая ее ощутимой, конкретной. М. Горький в воспоминаниях о Ленине рассказывает о том, как Ленин, побывав с ним в лондонском мюзик-холле, говорил о том, что в клоунаде «есть какое-то сатирическое или скептическое отношение к общепринятому, есть стремление вывернуть его наизнанку, немножко исказить, показать алогизм обычного». В основе юмористического образа и лежит известное искажение, преувеличение (например, карикатура) тех или иных явлений жизни, для того чтобы отчетливее обнаружился алогизм их, т. е. их внутренняя неполноценность. Смешно несоответствие цели її
1 См о сатире книгу Д. Николаева «Смех — оружие сатиры», М., 1962. 5 К. Маркс иФ. Энгельс, Сочинения, т. 1, стр. 418,
средств, выбранных для ее достижения, несоответствие дейстиІІІІ и результатов, ими достигнутых, несоответствие возможностям! и претензий, несоответствие анализа и выводов, короче — несоответствие содержания и формы в данном явлении, то или иное их расхождение при кажущемся их соответствии. Это несоответствие, неожиданно для нас обнаруживающееся, как бы разоблачает данное явление, обнаруживает его несостоятельность, что и вызывает смех. Смех, чувство комического, возникает тогда, когда данное явление оказывается не тем, чем его считали, во-первых, и когда это расхождение между представ-• лением о нем и его сущностью раскрывает его неполноценность, во-вторых; мы неожиданно обнаруживаем, что данное явление совсем не то, чем оно нам казалось, причем оказывается оно чем-то меньшим, чем должно было быть, оно в наших глазах лишается, так сказать, права на уважение, и этот неожиданный переход от одного его состояния к другому (и тем самым от одного нашего отношения к нему — к обратному) и является причиной смеха, который и раскрывает нашу новую оценку.
Если больной человек, с трудом передвигающийся, поскользнется и упадет в лужу, то это вызовет только наше сочувствие, потому что мы видели и раньше, что это положение не избавляет его от такой опасности. Но если это же произойдет с человеком, выдающим себя за ловкого спортсмена, мы рассмеемся. Смех наш будет вызван неожиданно обнаружившимся несоответствием между претензиями этого человека и его вовможно-стями, несоответствием, которое обнаружило неполноценность этого человека, неловкостью, которая была скрыта его внешним видом Мы ждали от явления, руководствуясь его внешними данными, одних свойств, а оно неожиданно обнаружило другие, обратные, контрастные тем, что мы ждали, и при этом такие, которые снижают его в наших глазах, обнаруживают его не замеченные нами недостатки Внезапное контрастное разрешение нашего ожидания вызывает смех В одном старинном анекдоте рассказывается о купце, потрясенном потерей состояния в такой степени, что от горя даже парик его поседел. Переход серьезного в нелепость смешон
•'Чарли Чаплин в фильме «В банке» говорит своему соееду, что у него плохой вид, и просит показать его язык, но, когда тот JTO делает, оказывается, что это нужно Чарли Чаплину, чтобы намочить марк, которую надо наклеить па конверт. Контраст межд внешним отношением Чаплина к соседу и внутренней его мотивировкой, контраст между простой целью и нелепыми средствами ее достижения, внезапно обнаруженной зрителем, вызывает смех.
Юмор в искусстве является отражением комического в жизни. Он усиливает это комическое, обобщая его, показывая
Л. И Іимофеев
во всех индивидуальных особенностях, связывает с эстетическими представлениями и т. д., короче — дается со всеми теми особенностями, которые присущи образности как форме отражения жизни в искусстве.
Но в то же время он чрезвычайно своеобразно преломляет эти особенности, рисуя жизнь в заведомо «сдвинутом» плане. В силу этого мы наблюдаем в искусстве, и в частности в литературе, особый тип образа — юмористический. Основной его особенностью является то, что в нем заранее уже дано отношение художника к предмету изображения, раскрыта оценка, с которой он подходит к жизни: стремление раскрыть внутреннюю несостоятельность тех или иных явлений в жизни, которые в глазах читателя обладают мнимым соответствием формы и содержания, а на самом деле не имеют его.
Однако эта несостоятельность может иметь различный характер: она может затрагивать второстепенные явления жизни или второстепенные их стороны Принимая явление в целом, мы смеемся над мелкими его недостатками, поскольку видим, что эти недостатки неопасны, безвредны. Если бы упавший в лужу спортсмен сломал себе ногу, мы бы уже не засмеялись: положение его было бы опасно, и смех был бы неуместен. В свое время еще Аристотель определял смешное лишь как «частицу безобразного». Он говорил: «Смешное — это какая-нибудь ошибка или уродство, не причиняющее страданий или вреда... Это нечто безобразное или уродливое, но без сострадания». Автор юмористического образа симпатизирует тому явлению, о котором он говорит, но показывает в то же время его частные недостатки. Пример юмористического образа — мистер Пик-квик у Диккенса.
В том случае, если недостатки явления уже не дают возможности симпатизировать ему и оценка его должна приобрести более суровый характер, мы наблюдаем усиление отрицательного начала в юмористическом образе, переходим от юмора к сатире.
Промежуточные, переходные формы между ними — ирония и сарказм. Юмор —это шутка. Ирония — это уже насмешка, основанная па чувстве превосходства говорящего над тем, к кому он обращается, в ней в известной мере скрыт обидный оттенок.
В отличие от юмора, который говорит о явлении, как бы низводя его, показывая мнимость того, на что он претендует, и p о н и я, наоборот, приписывает явлению то, чего ему недостает, как бы подымает его, но лишь для того, чтобы резче подчеркнуть отсутствие приписанных явлению свойств. Лисица го-порит ослу: «Отколе, умная, бредешь ты, голова?» Здесь смешно то, что ум приписывается тому, у кого никак нельзя его заподозрить.
I
В иронии, таким образом, недостаток данного явления нос принимается острее, связан с более существенными его свойствами, дает основание для презрительного по существу к нему отношения.
Еще резче говорит о разоблачаемом явлении сарказм, который обычно и определяют как злую иронию. Сарказм диктуется уже гневом, который вызван у художника данным явлением, т. е. тем, что он считает его недостатки неприемлемыми, затрагивающими важные стороны, такими, с которыми никак нельзя примириться. Примером саркастического построения произведения является, например, «Первое января» Лермонтова, где он говорит о том, что ему хочется «смутить веселость» окружающих его людей:
И дерзко бросить им б ыаза железный mix, Облитый горечью и злостью.
Это нарастание отрицательного чувства по отношению к тем или иным явлениям жизни — от безобидной шутки к презрению, от презрения к гпеву — завершается негодованием, когда недостатки явления становятся такими, что заставляют отвергнуть его целиком, когда смешное стоит уже на грани отвратительного, когда надо уже требовать уничтожения и самого явления, и тех условий, которые создают его в жизни.
Юмор по существу есть отрицание частного, второстепенною в явлении, а сатира есть отрицание общего, основного. Отсюда вытекает существенное различие между юмором и сатирой. Юмор чаще всего сохраняет реальные очертания изображаемых явлений, поскольку он показывает как отрицательное лишь частные его недостатки. Сатира же, отрицая явление в основных его особенностях и подчеркивая их неполноценность при помощи резкого их преувеличения, естественно, идет по линии нарушения обычных реальных форм явления, к тому, чтобы довести до предельной резкости представление об их неполноценности, поэтому она тяготеет к условности, к гротеску, к фантастичности, к исключительности характеров и событий, благодаря которой она может особенно отчетливо показать алогизм их, несообразность жизни с целью.
Такова, например, сатира Рабле, Свифта, Щедрина, Гоголл. Сатира строит свои образы, нарушая реальные соотношения явлений в самой жизни для тою, чтобы резче подчеркнуть их основные свойства.
Сила отрицания, присущая сатирическому образу, вызывает негодование, отвращение у читателя к жизни, сатирически изображенной в произведении.
Римский сатирик Ювенал писал, что сатирику стихи диктует негодование («fecit indignatio versum»). Несоответствие явлений жизни тем требованиям, которым они на самом деле
13* 387
і
должны удовлетворять, доходит до такой степени, что речь мо-жет идти лишь о полном их отрицании. Художник достигает его, вскрывая внутреннюю противоречивость разоблачаемых явлений жизни, доводя их до предела нелепости, обнажая тем самым их сущность. Так делают, например, Щедрин в «Истории одного города», Свифт в «Путешествиях Гулливера» и другие сати-рики. Сатирический о б р а з — это образ, который стре-мится к отрицанию тех явлений жизни, которые в нем отра-жены, путем доведения до предела комизма, нелепости прису-щих им в жизни черт.
Сатирический образ стоит уже на грани комизма, так как несоответствие того, о чем он говорит, настолько значительно, что оно не только смешит, но и отталкивает, вызывая отвраще-ние, ужасает. Сатира говорит о безобразном, о неприемлемом в жизни. В этом основное содержание сатирического образа. Он говорит о наиболее острых противоречиях жизни, но о та-ких, которые, как представляется художнику, можно разре-шить, вступив с ними в борьбу, причем борьба эта по силам человеку, обществу, данному классу, данной партии.
Все эти соображения позволяют прийти к выводу, что в са-тире перед нами налицо своеобразный способ изображения человека, придающий ей своеобразные родовые особенности. Ха-рактерно, что Гегель видел в сатире «новую форму искусства»: «Сама действительность в ее нелепой испорченности изображается так, что она себя в самой себе разрушает, дабы именно в этом саморазрушении ничтожного истинное могло обнаружиться как прочная пребывающая мощь» *. Хотя Гегель в соответствии со своей общей концепцией отказывает сатире в «истинной поэзии», он тем не менее видит в ней, что «благородный дух, добродетельное сердце, которому отказано в осуществлении своего сознания в мире порока и глупости, обращается то с более страстным возмущением, то с более тонким остроумием, то с более холодной горечью против находящегося перед ним существования; негодует или издевается над миром, который прямо противоречит его абстрактной идее добродетели и правды»2.
В сатирическом образе с чрезвычайной отчетливостью обнаруживаются те две общие тенденции построения художественного образа, о которых мы говорили во второй главе первой части («Метод»). С одной стороны, сатира стремится к воссозданию действительности, к реальному раскрытию недостатков и противоречий жизненных явлений, но вместе с тем сила протеста и негодования в пей настолько велика, что она пересоздает эти явления, нарушает пропорции, осмеивает их, рисует
1 Гегель, Сочинении, т. XIII, Соїикгиз, M., 1938, crp. 82. '
2 Т а м же, стр. 84.
их в гротескной, искаженной, нелепой, уродливой форме для того, чтобы с особенной резкостью подчеркнуть их неприемлемость. Характерно, что Щедрин связывал развитие сатиры с периодами обостренной борьбы нового со старым в жизненном процессе. «Вторжение новой жизни,— писал он,— собственно в нашу литературу (разумеется, в смысле искусства, а не науки) выразилось или в форме сатиры, которая провожает в царство гепей все отжившее, или же в форме не всегда ясных и определенных приветствий тем темным, еще не узнанным силам, которых наплыв так ясно всеми чувствуется. Это и понятно, новая жизнь еще слагается; она не может и выразиться иначе, как отрицательно, в форме сатиры или форме предчувствия и предвидения, но и для того, чтобы иметь право выразить их таким образом, искусство все-таки обязано иметь понятие о том, о чем оно ведет свою речь, и сверх того обладать каким-нибудь идеалом» '.
Таким образом, в сатире перед нами особая форма образного отражения жизни. Я. Эльсберг справедливо замечает, что «сатиру мы должны рассматривать и как особый художественный принцип изображения действительности, и как род литературы».2
Как видим, с точки зрения самого характера воспроизведения действительности в художественном образе мы можем говорить о художественно-историческом типе образа, где эстетическая оценка находит свое выражение при сохранении принципиальной достоверности жизненных явлений (например, очерк), затем о художественно вымышленном типе, где доминирует вымысел (например, роман) и, наконец, о художественно гиперболическом типе, строящемся на раскрытии отрицательных явлений в их предельных свойствах, благодаря чему обнаруживается их противоречие подлинным жизненным нормам. Каждый из этих типов построения образа допускает и лирическую и эпическую трактовку. Это свидетельствует о том, что учение о литературных родах и видах еще не нашло своего полного развития.
Видя в сатире наиболее острую форму обличения действительности, один из чрезвычайно существенных путей создания отрицательных образов (Иудушка Головлев Щедрина, Тартюф Мольера и другие), мы должны помнить, что обличение и отрицание в литературе может осуществляться и не путем сатиры. Сатирический образ — отрицательный образ, но не всякий отрицательный образ — сатирический образ. В нашей критике встречались работы, в которых авторы стремились показать наличие
1 M. E Салтыков-Щедрин, О литературе и исі<>сстве, Гослит
издат, М., 1952, стр. 123
2 Я- Эльсберг, Вопросы теории сатиры, 1957, стр. 33. См также ука
занную работу о сатире Д. Николаева и статью Ю. Борева «Система и ме
тод эстетики» в журн «Вопросы литературы», 1961, № 2.
r "f
сатирических образов в произведениях Л. Толстого, в «Жизни Клима Самгина» М. Горького и других. С этим нет оснований соглашаться. Сатирический образ — это образ гротескный, в котором сдвинуты жизненные пропорции. В силу этого он и вызывает смех, хотя бы этот смех и переходил вслед за тем в негодование. В силу этого для сатиры в значительной мере характерны элементы условности («История одного города» Щедрина и др.), распространяющиеся и на самые обстоятельства, в которых находится сатирический образ, и, стало быть, на образы, его окружающие, и т. д Поэтому-то произведения, так сказать, обличающего характера, но свободные от тех элементов условности, которые несет в себе гротескное построение сатирического образа, не следует рассматривать как сатирические. Клим Самгин — отрицательный образ, несущий в себе глубокое художественное обобщение, но созданный не сатирическими средствами. А. Луначарский писал о «скрытой сатире»1 в «Жизни Клима Самгина», и эта мысль многими истолковывается в качестве основания для трактовки Клима Самгина как сатирического образа. Но этот вывод вряд ли правомерен и весьма далек от непосредственного содержания эпопеи Горького.
1 А. Луначарский, Статьи о Горьком, Гослитиздат, М, 1957, стр 61.
Глава вторая
СТИЛЬ И ТЕЧЕНИЕ
СТИЛЬ ПИСАТЕЛЯ
^ овершенно очевидно, что творчество писателя неразрывно связано с его личностью, с его неповторимым жизненным опытом, с его мировоззрением, культурой, биографией.
Мы знаем, что произведение шире личности художника. Оно получает независимо от его субъективной идеологии объективное значение, потому что, как мы помним, образ шире идеи писателя. Указывая на ту связь, которая существует между личностью художника и его творчеством, мы ни в коем случае не устанавливаем равенства между его творчеством и его биографией, исходя из положения, что творчество художника шире его биографии. Но в то же время очевидно, что индивидуальность писателя не может не проявить себя в произведении Это сказывается, как мы помним, в выборе материала, .в его оценке, в речи повествователя и т. д. Те выводы, к которым мы пришли, рассматривая единство формы и содержания, позволяют нам понять, что в сущности все стороны произведения так или иначе будут окрашены творческой индивидуальностью писателя.
В самом деле, идейно-тематическая основа произведения скажется в характерах, в том числе и в характере повествователя, характеры скажутся в языке, в том числе и в языке повествователя, круг харакіероії в связи с данным жизненным материалом определит и круї событии, т. е. сюжет произведения. В основе этого будут лежать тот жизненный опыт, который накоплен писателем, и то идейное освещение этого опыта, которое подсказывает писателю его мировоззрение. Мы можем определить с достаточной полнотой мировоззрение и жизненный опыт писателя на основании данного произведения (помня, что оно лает взможность н для более широких выводов). И в языке,
и в сюжете, и в характерах, и в темах, и в идеях проявляется личность писателя. Тем самым и ряд произведений, принадлежащих одному писателю, будет обнаруживать сходство во всел этих отношениях. Здесь перед нами то же единство формы и содержания, но только в более сложном виде. В самом деле, в произведениях, принадлежащих одному писателю, мы уловим прежде всего идеологическое единство, поскольку писатель, ставя различные в каждом произведении проблемы, будет, естественно, исходить из единой в своей основе точки зрения на действительность. Так. например, в произведениях Горького поставлены вопросы, связанные с революционной борьбой рабочего класса за освобождение, все они объединены социалистической точкой зрения на действительность.
С другой стороны, во всех произведениях писателя мы ощутим единство жизненного опыта, обусловленное биографией писателя. Он может рассказать только о том, что им самим изучено, пережито, прочувствовано, продумано. Богатство жизненного опыта Горького, его необычайно широкий кругозор опять-таки вытекают из его биографии. Нередко мы явно ощущаем у писателя, с каким жизненным материалом он прежде всего связан: так, Шолохов пишет преимущественно о донском казачестве, Панферов-—о крестьянах Поволжья и т. д., каждый из них разрабатывает в ряде произведений именно свой, индивидуальный, хорошо знакомый материал.
Единство идейно-тематической основы произвепения неминуемо скажется в единстве характеров, которые показывает писатель в ряде произведений. Это не значит, что характеры эти будут похожи друг на друга. Единство их состоит в том, что они связаны с теми жизненными противоречиями, которые писатель считает важными, с той жизненной средой, которую он преимущественно изображает, и т. д. Так, мы легко заметим, что через все творчество Горького проходит образ рабочего-революционера. В то же время Горький постоянно возгфащается' и к образам тех, с кем ведет борьбу революционный пролетариат,— к образам, рисующим те или иные стороны буржуазии. Характеры, рисуемые писателем, связаны с тем кругом жизненных вопросов, которые он ставит на протяжении своего творчества, а так как эти вопросы он стапит, исходя из единой точки зрения на мир, то и характеры в ряде его произведений между собой перекликаются. А отсюда мы легко уловим такую же перекличку, принципиальное сходство основных особенностей (при различии, естественно, конкретных свойств) и в сюжетах, и в языке писателя, проявляющееся па протяжении всей его литературной деятельности.
Таким образом, мы будем наблюдать сходство, точнее — единство основных идейно-художественных особенностей (идеи, темы, характеры, сюжеты,
язык), обнаруживающееся на протяжении всей творческой работы писателя. Такое единство называют обычно стилем писателя (понятно, что мы должны учитывать и изменение стиля писателя, его противоречия, его развитие).
Термин этот представляет собой непрерывно расширяющуюся метонимию. Первоначально стилем называли палочку, имевшую на одном конце острие, на другом — лопаточку; такую палочку римляне употребляли для того, чтобы писать на дощечке, покрытой тонким слоем воска. Острие играло роль пера, лопаточкой же воск растирали для того, чтобы стереть написанное ранее или исправить ошибку. Затем — в порядке замены явления каким-либо одним его признаком — стилем стали называть почерк человека (узнать по стилю — узнать по почерку). Затем эта метонимия еще более расширилась, стали называть стилем самую манеру письма, особенности языка, слог. И, наконец, стилем стали называть все индивидуальные особенности творчества писателя в целом, руководствуясь известным афоризмом: «Стиль — это человек».
Стиль — это в общем смысле слова повторяющееся в многообразии отдельных проявлений единство основных особенностей, присущих всем этим явлениям в целом, короче, стиль — это единство в многообразии. Иногда термин «стиль» трактуют еще более широко, говоря о стиле ряда писателей, сходных по своим основным творческим особенностям. Но во избежание путаницы и нечеткости в терминологии мы будем говорить только о стиле писателя. Мы непосредственно ощущаем это стилевое единство ряда произведений всякого крупного писателя, улавливая его прежде всего в языке, а затем восходя от языка к характерам и т. д., и во всех остальных основных особенностях его творчества. Мы часто угадываем, кем написано то или иное произведение, хотя не знаем ни его названия, ни автора. Это и значит как раз, что мы почувствовали стиль писателя, уже известный нам по другим произведениям.
Вот два отрывка:
1. Похороны совершились на третий день Тело бедного старика лежало па сголе, покрытое саваном и окрженное свечами Столовая была полна дворовых
2 Иван Кузьмич не Інал, на что решиться. Марья Ивановна была чрезвычайно бледна. Мало-помрлу буря утихла
Мы ясно ощущаем их сходство, стилевую близость; перед нами короткие фразы, быстро развивающееся повествование (каждая фраза вносит нечто новое в ситуацию1).
Читатель, вероятно, уже почувствовал, что примеры наши взяты из пушкинской прозы.
Возьмем два других примера:
й et
l. Он был недоволен ею за то, что она не могла взять на себя отпустить его, когда эго было нужно (и как странно ему было думать, что он, недавно еще не смевший верить тому счастию, что она может полюбить его, теперь чувствовал себя несчастным оттого, что она слишком любит его!), и недоволен собой за то, что не выдержал характера. Еще более он был в глубине души не согласен с тем, что ей нет дела до той женщины, которая с братом, и он с ужасом думал о всех могущих встретиться столкновениях.
2 Еще менее могла она понять, почему он, с его добрым сердцем, с его всегдашнею готовностью предупредить ее желания, приходил почти в отчаяние, когда она передавала ему просьбы каких-нибудь баб или мужиков, обращавшихся к ней, чтобы освободить их от работ.
Очевидно, насколько отличаются эти очень сходные между собой отрывки, также взятые из двух различных произведений, от выше приведенных. Перед нами очень сложные фразы, внимание автора обращено на то, чтобы передать прежде всего внутреннюю жизнь героев, фразы скорее варьируют одна другую, чем вносят новое в повествование, как у Пушкина, и т. д. И мы с такой же легкостью улавливаем сходство этих двух последних примеров, их стилевое единство, и угадываем автора—• Л. Толстого.
Если бы мы могли последовательно сравнивать между собой все стороны творчества Пушкина и Толстого, мы увидели бы, как наше представление о стиле каждого из них постепенно расширялось бы, вбирало бы в себя все более общие стороны их творчества: сюжеты, характеры, темы, идеи. Стиль есть единство всех элементов произведения, начиная с композиции целого и кончая отдельным эпитетом.
Стиль накладывает мощный отпечаток на все, что изображает художник. В том случае, если два художника говорят об одном и том же, они в то же время проявляют в этом и свою творческую индивидуальность, без понимания которой нельзя понять и того, что им изображено. Особенно ярко это значение стиля можно наблюдать в живописи тогда, когда, например, портрет одного лица рисуют художники с резко выраженной индивидуальностью. Между портретами мосье Шаке, нарисованными и Сезанном, и Ренуаром, или портретами Іерцога Оль-вареса, которые были нарисованы и Рубенсом, и Веласкесом, мы установим весьма много различий, которые определяются именно тем, что отражение действительности художником было одновременно и выявлением его творческой личности, проявлением его индивидуального, только ему присущего стиля.
Говоря о стиле как единстве основных идейно-художественных особенностей творчества, т. е. как о единстве формы и содержания, характерном для творчества именно данного писателя, мы отнюдь не имеем в виду того, что основные стилевые особенности его неизменно повторяются в каждом произведении.
Писатель рабоїаег в течение десятков лет. Л. Толстой родился в 1828 году и умер в 1910 году; за 82 І ода своей жизни
он наблюдал сложный процесс развития общественной жизни: он жил и при отмене крепостного права в 1861 году, и при революции 1905 года; его мировоззрение менялось в такой мере, что Ленин говорил о его идейном переломе; следовательно, и стиль его менялся соответственно изменению его мировоззрения и окружавшей его общественной жизни. Если в отдельном произведении отражен тот или иной отдельный период общественной жизни в определенный период идейного и жизненного развития писателя, то все его творчество в целом, развитие его стиля дает нам представление о жизненном процессе в значительно более широком его охвате, показывает нам рост и эволюцию творчества писателя в целом. Те жизненные явления, которые в начале его творческого пути только намечаются, в конце его получают ясность и определенность; то, что в одном произведении писатель затронул односторонне, неполно, в более поздних произведениях ему удается показать ярко и отчетливо; смена произведений отражает и смену событий общественной жизни, и смену тех идейных исканий художника, которые характерны для развития его мировоззрения. Поэтому одно произведение писателя как бы бросает свет на другие, одни характеры становятся более понятными благодаря изображению близких им по основным свойствам в других произведениях и т. д.
Так, мы можем проследить в творчестве Горького чрезвычайно интересную эволюцию образа революционера, начиная с первых, бегло очерченных образов стихийно, неосознанно недовольных жизнью людей («Озорник», «Коновалов»), к более полным (Нил в «Мещанах»), вплоть до создания образа большевика-руководителя, вождя (рабочие в пьесе «Враги», Павел в романе «Мать», Кутузов в «Жизни Клима Сайгона»). Соотнося ранние образы с более поздними, мы уловим в них такие черты, на которые мы не обратили бы внимания, если бы рассматривали произведение изолированно, вне связи с другими.
Рассматривая образ Озорника в одном из ранних рассказов Горького, мы не уловили бы в нем стихийного недовольства жизнью и, главное, не поняли бы его значения, если бы позднейшие произведения Горького не бросили бы на него дополнительный свет, благодаря чему мы глубже понимаем этот образ.
Таким образом, понятие стиля позволяет нам изучать произведение в связи с другими произведениями, поставить вопрос об эволюции тех или иных характеров, в нем изображенных.
Изучив произведение в единстве его формы и содержания, определив и авторские идеи, и объективный смысл его образов, мы в достаточной мере полно осмыслим его, окажемся в состоянии усвоить тот круг мыслей, чувств и наблюдений, который вложен в него писателем. Но мы поймем его еще глубже, когда наш анализ выйдет за пределы только этого произведения, когда мы соотнесем его с другими произведениями писателя,
PI
определим его как явление стиля писателя, поймем его значение и место в развитии этого стиля.
Таким образом, понятие стиля имеет для нас значение прежде всего потому, что оно позволяет охватить все творчество писателя в его развитии и тем самым представить себе всю картину идейно-художественного развития писателя и весь круг жизненных явлений, которые он затронул в своем творчестве в целом. С другой стороны, оно позволяет нам глубже понять значение каждого произведения, посіавив ею в связь с другими, поняв его место и значение в развитии стиля писателя, зачастую сложного и противоречивого.
Ясно, конечно, что конкретное раскрытие понятия стиля возможно только в результате историко-литературного анализа творчества того или иного писателя. Мы здесь можем только указать на те общие соображения, которые следует иметь в виду, изучая стиль писателя, на значение этого понятия.
ы.
: Г
СТИЛЬ И МЕТОД
Мы уже говорили вначале о соотнесенности понятий стиля и метода. В методе, как мы его определили, перед нами те основные, решающие вопросы, которые встают перед писателем в его творчестве в тех жизненных условиях, в которых он находится, которые диктует ему современность. Стиль — это живая художественная практика писателя, те конкретные, индивидуальные ответы, которые он находит в своих произведениях, решая эти вопросы. Если метод писателя подсказывает ему то или иное общее представление о положительном герое, то в своих произведениях он рисует живые индивидуальности, отвечающие этому представлению. В стиле перед нами то неповторимое, лично присущее писателю, что отличает его от других, в методе — то наиболее общее, что сближает его с другими, близкими ему писателями. Поэтому, если понятие стиля связано именно с индивидуальными особенностями писателя, понятие метода также неразрывно связано с понятием стиля, по в то же время и шире ею, выводит нас за пределы творчества писателя, связывает нас с широкой историко-литературной перспективой, соотносится с понятиями литературного течения и литературного процесса.
Стиль писателя является наиболее простой формой этого литературного процесса. Писатель не является одиночкой в жизни. Он связан с определенной общественной группой, классом, выражает взгляды, присущие не только лично ему, но сложившиеся в известной общественной среде, вкусы, симпатии и антипатии которой он разделяет и выражает в своем творчество. Вместе с ним в литературе выступают и другие писатели, сло-
жившиеся в близкой ему среде, испытывающие такое же, как и он, ее идейное воздействие. Тем самым при всем индивидуальном отличии одного писателя от другого по его таланту, культуре, жизненному опыту между ними все же будет возникать известная близость, определяющая сходство их идейно-художественных особенностей, их стилей. Наряду с тем единством, которое мы наблюдали в пределах творчества одного писателя, мы встречаем в литературном процессе и более сложное единство в творчестве близких друг другу писателей, то, что часто называют стилем в широком смысле слова, течением, направлением, литературной школой. Писатель не одинок в своем методе. На основе близости метода возникает литературное течение.
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТЕЧЕНИЕ И МЕТОД
Единство формы и содержания, которое мы рассматривали на примере отдельного произведения, выступило вслед за тем перед нами в более сложном и расщивенном виде в стиле" писателя. - •""
Еще более сложную, противоречивую, охватывающую больший период времени и в то же время единую в своей основе картину творческого единства формы и содержания в их наиболее общих взаимоотношениях мы наблюдаем в творчестве ряда близких друг другу писателей. Легко убедиться в том, что мы столкнемся с однородностью художественных особенностей произведений и выйдя за преде ты творчества отдельного писателя.
Очевидно, что во всех произведениях, например, Фадеева мы установим ряд характерных для его стиля особенностей: в идейно-тематическом отношении его произведения будут характеризоваться изображением борьбы за социализм в революционном ее понимании, в основу его сюжетов везде положены социальные, классовые конфликты, в центре его произведений стоят характеры коммунистов, в языке Фадеева очевидно стремление к демократичности, широкой его доступности.
Обратившись к Шолохову, мы найдем и в его творчестве однородные явления: и у него содержанием произведений яв-ляется борьба з.а социализм, и v нргд "рГ'пРнтрр"— характерні
N ПСН.9ВР. рюжртя — конфликты
Но эти же принципы были еще ранее осуществлены Максимом Горьким, с ними же мы в тех или иных формах сталкиваемся и у Серафимовича, и у Гладкова, и… Это объясняется теми же причинами, которые определяют однородность… причины выступают уже в более общем и широком плане. Перед нами ряд писателей, стоящих на однородных идейных позициях.…Л. И. Тимофеев
Те заветы, которые были даны в 1905 году Лениным в статье «Партийная организация и партийная литература» новой свободной литературе, теперь должны… Идея социализма освещала советским писателям перспективу грандиозных событий,… Естественно, что и осмысление новой действительности, и овладение новыми творческими принципами, необходимыми для ее…В. И. Л е н и н, Поли, собр соч., т. 39, стр. 246.
В этом смысле Фурманов явился предшественником мощного потока произведений подобного рода в советской литературе («Железный поток», «Как закалялась сталь», «Педагогическая поэма», «Молодая гвардия», «Повесть о настоящем человеке» и ряд других), так же как он одновременно явился в этом отношении продолжателем Горького (роман «Мать»).
О том, в какой мере именно в этом направлении развивалась творческая мысль Фурманова, говорит следующая его запись: «А может быть, уж такое героическое время наше, что и подлинное геройство мы приучились считать за обыкновенное, рядовое дело».
Новая, социалистическая действительность, в которой героическое начало становилось рядовым, а рядовое оказывалось героическим, требовала новых форм художественного изображения социалистической действительности сравнительно с дооктябрьским периодом, и Фурманов был первым в те годы, кто сумел это понять.
Вот почему точность в передаче документального материала жизни не мешает ему в то же время оставаться на высоте его художественного осмысления: все дело в том, что Фурманов оказался в состоянии — ив этом была сущность его таланта — типизировать действительное как возможное, раскрывать социальный смысл фактов именно потому, что он воспроизводил действительность, принципиально новую по своему характеру.
И сам Фурманов в своем отношении к действительности все время стремился выявить в ней именно возможное, отнюдь не настаивая на воспроизведении действительного как такового.
Именно эту черту и оценил в нем очень точно А. Серафимович, сам вскоре после «Чапаева» завершивший произведение аналогичного характера — «Железный поток».
Известно, что в процессе работы над «Чапаевым», так же как и над «Мятежом», Фурманов отнюдь не ограничивался лично известным ему материалом. Он тщательно изучал архивные материалы, книги, письма и воспоминания участников событий, газеты, доклады, инструкции, стенограммы, архивы Красной Армии и т. д. Все это было тем путем, по которому он шел, показывая действительное как возможное, т. е. раскрывая обобщенный смысл фактов действительности. Этого можно было достичь и в силу особенного качества этих фактов действительности, поскольку это была уже в основе своей действительность социалистическая, но вместе с тем и в силу понимания этого особого качества самим писателем, его проницательности как художника.
Решение вопроса о единстве действительного и возможного есть вместе с тем и решение вопроса о положительном герое, о создании искусством образа героя реальной и достигаемой
цели, духовный мир и поведение которого вбирает її 11 Он мері довой опыт масс и поэтому может стать для них примером <н ромной воспитательной силы.
Главное было в том, что такой герой появился в самой жизни. Но художник должен был суметь его увидеть. В статье К. Федина, посвященной И. Эренбургу, очень точно было передано ощущение писателем-современником значения появления «Чапаева»:
«.. .в советской литературе вышел большой роман, ставивший во главе повествования художественное изображение нового героя современности,— это был «Чапаев» Дмитрия Фурманова. Читатель еще не знал «Железного потока» Серафимовича, а до «Разгрома» Фадеева нашу литературу отделяла чуть ли не целая эпоха.
Фурманов дал критике первую твердую опору в ее требованиях к писателям показать героя нашего времени — опору искомого и должного в советской литературе. При всем иногда даже восторженном отношении к талантливым романам, повестям того времени — к первой книге «Хождения по мукам» А. Толстого, «Партизанам» и «Бронепоезду» Вс. Иванова, «Падению Дайра» А. Малышкина — критика в один голос говорила об их общей уязвимости в изображении положительного героя.
Мы знаем, борьба за создание такого героя продолжается и сейчас, она будет продолжаться всегда. Меняется, растет герой действительности — меняется его образ в искусстве, и само искусство силою вдохновения своего ищет высший образ, стремясь увлечь за ним в будущее героя настоящего.
Но в начале 20-х годов только немногие писатели по-настоящему брались за решение этой задачи. Едва ли не большинству представлялось, что с ней можно повременить, пока жизнь не создаст кристально сложившуюся форму современного героя. Такое решение задачи, как герои Фурманова, кроме него, тогда еще никто не дал. Распространено было убеждение, что в развивающемся новом сознании еще не содержится будущий тип его. Я лично, например, тоже был убежден, что, пока материал зыблется, художник не способен прочно его схватить, что материал будет утекать из рук и, как сухой песок, тем больше, чем сильнее сжимаешь кулак...— Где герой современности?— вопрос этот все резче ставился перед писателями. Он и был главным вопросом...» '.
А Фурманов еще в 1919 году, в статье «Сознательные герои» в газете «Рабочий край», писал, что есть «герои настоящие, светлые, сознательные... Эти идут и умирают не из удали, не по горячке, не из жажды славы: они гибнут за идею Их героизм вытекает с неизбежностью из глубокого убеждения
«Литературная газета» от 13 февраля 1951 І , № 18
в правоте своего дела: они тверды и мужественны, пламенны и решительны, они стойки и спокойны, ибо сознательно вступили в борьбу».
На этом-то понимании Фурмановым тех людей, которые осуществляли революцию, и зиждились его поиски художественной формы раскрытия их в искусстве.
Проблема положительного героя, как мы помним, сама по себе есть общая проблема искусства, которое стремится к ее Осуществлению на любом периоде своего развития. Но она всегда и новая проблема, потому что только исторические условия определяют содержание характера этого героя, те задачи и цели, которые он перед собой ставит, и жизненную осуществимость этих целей в данных исторических условиях. В умении писателя увидеть это новое и найти для него художественные формы и состоит прежде всего развитие метода.
Положительный герой советской литературы начала 20-х годов, к созданию которого впервые после Октября, т. е. в новых сравнительно с тем, что изображал М. Горький, условиях массовой вооруженной борьбы рабочих и крестьян за власть, она должна была обратиться, был герой новый и по содержанию, и по осуществимости цели, которая перед ним стояла.
Своеобразие социалистического реализма Фурманова именно в том и состояло, что он в своих исторических условиях ощутил и сумел художественно показать новое качество массы борцов за социализм. В единстве с ней формировались новые люди — представители нового, социалистического героизма. В изображении формирования этих людей и в определении художественных принципов этого формирования — в единстве цели и воли личности и массы — и состоит его главная заслуга в истории советской литературы. При этом он сумел показать как раз те два пути формирования социалистической личности в те годы, о которых говорил Ленин в уже цитированных словах о чудесах, совершаемых крестьянством, когда оно соприкасается с революционной волей и героизмом партии. Отсюда два типа положительного героя, что было совершенно закономерно для того времени, в творчестве Фурманова: тип Клычкова и тип Чапаева — ведущего и ведомого.
Главное, что стоит в центре художественного внимания Фурманова,— это масса борцов за социализм периода гражданской войны.
«.. .неудержимые, непобедимые, терпеливые ко всему, гордые и твердые в сопротивлении, отважно смелые и страшные в натиске, настойчивые в преследовании. Сражались героями, умирали. . . под пыткой и истязаниями! С такой падежной силон нельзя было не побеждать — надо было только уметь ею управлять. Чапаев этим даром управления обладал в высокой степени— именно управления такою массою, в такой момент, в та-
ком ее состоянии, как тогда. Масса была героическая. .. как наэкзальтированная, ее состояние не передать в словах, І о состояние, думается, неповторяемо... Будут новые моменты -и прекрасные, и глубокие содержанием, но это будут уже другие».
Фурманов все время подчеркивает, что он говорит о революционной массе, о людях, организованных в единство в процессе самой непосредственной борьбы за социализм с оружием в руках:
«.. .их свила, спаяла кочевая, боевая, полная опасностей жизнь, их сблизили мужество, личная отвага, презрение лишений и опасностей, верная, неизменная солидарность, взаимная выручка — вся многотрудная и красочная жизнь, проведенная вместе, плечом к плечу, в строю, в бою». Чапаев здесь лишь первый среди равных, человек массы, несущий в себе ее черты. Фурманов с предельной остротой ставит этот вопрос:
«.. .где героичность Чапаева, где его подвиги, существуют ли они вообще, существуют ли сами герои?»
«.. .ничего пока исключительно героического в действиях его не было: то, что делал лично он, делали и многие... самим собою— любимой и высокоавторитетной личностью — он связывал, сливал воедино свою дивизию, вдохновлял ее героическим духом и страстным рвением вперед, вдохновлял ее на победы, развивал и укреплял среди бойцов героические традиции, и эти традиции — например «не отступать!» — были священными для бойцов».
«Когда подумаешь, обладал ли он, Чапаев, какими-либо особенными, «сверхчеловеческими» качествами, которые дали ему неувядаемую славу «героя»,— видишь, что качества у него были самые обыкновенные, самые «человеческие»; многих ценных качеств даже и вовсе не было... он полнее многих в себе воплотил сырую и геройскую массу «своих» бойцов. . . Многие были и храбрей его, и умней, и талантливей в деле руководства отрядами, сознательней политически, но имена этих «многих» забыты, а Чапаев живег и будет долго-долго жить в народной молве, ибо он —коренной сын этой среды и к тому же удивительно сочетавший в себе то, что было разбросано по другим индивидуальностям его соратников, по другим характерам».
И в этом отношении Фурманов выражается даже еще более резко, имея в виду ораторские приемы Чапаева: «В рабочей аудитории Чапаев был бы вовсе негоден и слаб, над его приемами там, пожалуй, немало бы посмеялись».
И вместе с тем он показывает, какое огромное значение Чапаев имел для своей среды, как рожденный ею герой:
«А как они все чтили своего Чалая! Лишь только обратится к которому — обалдеет человек, за счастье почитает говорить
с ним. Коли похвалой подарит малой —хваленый ее шикогца не забудет. Посидеть за одним столом с Чапаевым, пожать ему руку — это каждому величайшая гордость: потом о том и рассказывать станут, да рассказывать истово, рассказывать чинно, быль сдобряя чудесной небылицей».
Фурманов и показывает в Чапаеве превращение представителя массы в передового человека. Он отразил самый процесс рождения положительного героя в первые годы революции
Будучи во всем представителем героической массы и именно поэтому даже как будто и не будучи героем, Чапаев в то же время вырастает над ней именно потому, что он наиболее глубоко вобрал в себя ее цели и волю и именно поэтому превращается в выдающуюся личность.
Обаяние и типичность Чапаева в изображении Фурманова в том, что в нем раскрыта мощь человеческой личности, начинающей сознавать себя в новых исторических условиях.
В массе окружавшей его вольницы, говорит Фурманов, «Чапаев выделялся. . словно конь степной сам себя на узде крепил».
Он уже начинает понимать и выражать, хотя и в самой наивной форме, цели и задачи борьбы, которую он ведет, т. е. становится революционером в том смысле, в каком понимал революционера Ленин: «Революционер — тот, кто учит массы бороться революционно». Говоря о выступлениях Чапаева, Фурманов пишет:
«Его речь густо насыщена была искренностью, энергией, чистотой и какой-то наивной, почти детской правдивостью... Это — страстная, откровенная исповедь благородного человека, это — клич бойца, оскорбленного и протестующего, это — яркий и убеждающий призыв, а если хотите, и приказание: во имя правды он мог и умел не только звать, но и приказывать!»
Перед глазами читателя повести и протекает этот бурный рост Чапаева — формирование социалистической личности в процессе борьбы за социализм и при этом формирование активное, в которое личность полностью вкладывает самое себя. В этом порой наивном ощущении освобожденной личностью проявления своей активности и состояло, в частности, своеобразие периода первых лет революции, изображавшегося Фурмановым, в этом особенно проявила себя обаятельность личности Чапаева:
«.. .Чапаев, этот кремневый суровый человек, этот герой-партизан может быть, как ребенок, прибран к рукам; из него, как «з воскового, можно создавать новые и новые формы... Условия жизни держали его до сих пор «в черном теле», а теперь он увидел, понял, что существуют новые пути, новое всему объяснение, и стал задумываться над этим новым. Медленно, робко и тихо подступал он к заветным, закрытым вратам, и так же
медленно отворялись они перед ним, раскрывая путь к попои жизни».
«Чапаев теперь — как орел с завязанными глазами; сердце трепетное, кровь горяча, порывы чудесны и страстны, неукротима воля, но... нет пути, он его ясно не знает, не представляет, не видит...
И Федор взялся хоть немножко осветить, помочь ему и вывести на дорогу... Пусть не удастся, не выйдет, — ничего: попытка не пытка, хуже все равно от этого не будет...
Если же удастся — ого! Революции таких людей во как надо!»
«Многого он еще не понимал, многого не переваривал, но уже ко многому разумному и светлому тянулся сознательно, не только инстинктивно. Через два-три года в нем кой-что отпало бы окончательно из того, что уже начинало отпадать, и теперь приобрелось бы многое из того, что его начинало интересовать и заполнять, притягивать к себе неотразимо».
И вместе с тем преданность социализму в Чапаеве оказывалась настолько высокой, что чем выше осознавал он рост и значительность своей личности, тем полнее готов был отдать ее делу борьбы за социализм. И в этом опять-таки был глубокий типизм этого образа.
Чрезвычайно характерен в этом отношении разговор Клыч-кова и Чапаева о ценности жизни:
«.. .чем я выше подымаюсь, тем жизнь мне дороже... Не то што трусливее стал, а разуму больше. Я уже плясать на окопе теперь не буду: шалишь, брат, зря умирать не хочу...
— А дело? — спросил Федор.
— В дело? Вот вам клянусь,— горячо сказал Чапаев,— кля
нусь, чем хотите, што в дело... трусом не буду никогда...
Ежели в дело — тут всякие другие мысли пропадают».
Здесь ключ для понимания перехода характера типа Чапаева в характер типа Клычкова и Фурманова («Мятеж»), т. е. в характер коммуниста, полностью исторически активной личности.
Само собой понятно, что и Клычков, и Фурманов («Мятеж») даны в развитии. Растет не только их боевой опыт и выдержка. Достаточно сравнить поведение Клычкова в Сломихинском — первом бою — ив пути на Белебей, когда в ночной панике он бросается вперед, чтобы остановить отступающих и личным примером поднять их дух.
Растет их политический опыт. Но главное в том, что они являются носителями той сознательной исторической активности, пробуждение которой захватывает нас в Чапаеве.
В них воплощена та сила, которая, по словам Ленина, позволяет революционной массе совершать чудеса под руководством партии.
Заслуга Фурманова состоит и в том, что он на jape советской литературы сумел и увидеть этот основной тип положительного героя эпохи, и дать первое его художественное воплощение, оказав глубокое воздействие на последующие образы положительного героя в советской литературе.
Если в «Чапаеве» Клычков дан в известной тени, для того чтобы показать процесс рождения героя революционной массы, и поэтому непосредственно героические черты в нем как бы приглушены, не выступают на передний план, то на фоне мятежа в городе Верном они обнаруживаются особенно отчетливо; в той обстановке только герой такого типа и мог вообще действовать.
Образцом раскрытия революционной выдержки коммуниста являются слова Фурманова о двух выходах в начале мятежа:
«.. .тут два выхода, и один из них очень уж прост: пожалеть свою шкуру, особенна же теперь, когда выяснилось, что силы неравны, а удар близок,— пожалеть шкуру, поседлать коней и горами проскакать, положим, на Пишпек.
Это простой и безопасный ход: спасались-де от верной смерти — и баста: кто осудит, коли бежали от верной смерти?
А дальше? Дальше власть берут мятежники, дальше что-то непредставимое: сплошная черная ночь, а в ней полыхающие кровавые языки.
И есть другой выход: не выпускать вожжей, как бы ни мчались бешено кони, верить до последнего дыханья, что утомят, себьют их кочки и рытвины, что по пути, а если, вдобавок, гы еще и сколько-нибудь умело станешь дергать вожжами, в нужную минуту рвать им, коням, пенные, мыльные губы, сбивая на дорогу, которая нужна тебе,— о, поверь: и бешеные кони утомятся, останешься жив, с честью спасешь и коней, и себя!
Ни одного мгновенья не колебались: крепко решили держаться на месте, а там — будь, что будет!»
Эти слова могло продиктовать только величайшее чувство единства с массами, которое присуще личности, осознавшей свою историческую активность В них выражена одна из важнейших сторон характера коммуниста, развивающаяся впоследствии в советской литературе («Разгром», «Последний иа удэге»), в литературе военных лет («Народ бессмертен» В. Гроссмана) —вплоть до наших дней.
Творчество Фурманова чрезвычайно поучительно для нас именно тем, что он рисует самый процесс формирования личности нового типа в процессе борьбы революционных масс за социализм, характерный для начала 20-х годов. В этом состояло и своеобразие, и историческая закономерность того нового, что вносил Фурманов в трактовку образа социалистического положительного героя.
Другая, не менее важная сторона этой проблемы состояла
в раскрытии определяющей роли личности как носительницы революционного, коммунистического сознания.
Именно в этом был тог новый шаг в трактовке образа положительного героя, который был совершен Фадеевым в романе «Разгром».
«Какие основные мысли романа «Разгром»? — писал Фадеев.— Я могу их определить так. Первая и основная мысль: в гражданской войне происходит отбор человеческого материала, все враждебное сметается революцией, все неспособное к настоящей революционной борьбе, случайно попавшее в лагерь революции отсеивается, а все растущее из подлинных корней революции, из миллионных масс народа закаляется, растет, развивается в этой борьбе. Происходит огромнейшая переделка человеческого материала.
Эта переделка человеческого материала происходит успешно потому, что революцией руководят передовые представители рабочего класса — коммунисты, которые ясно видят цель движения и которые ведут за собой более отсталых и помогают им перевоспитываться и перерабатываться.
Так я могу определить основную тему романа»1. С этой точки зрения и определяется значение и новизна в романе «Разгром» образа Левинсона, «человека, всегда идущего во главе». В нем та историческая активность, которая является определяющей для героя нового типа, выступает с особенной яркостью и полнотой. «Видеть все так, как оно есть, для того, чтобы изменить то, что есть, и управлять тем, что есть,— вот к какой самой простой и самой нелегкой мудрости пришел Левинсон». Важнейшей чертой его является величайшее чувство единства с народом, преданность интересам которого позволяет преодолеть все препятствия. Не случайно, глядя на остатки своего отряда, Левинсон чувствует, что ему эти измученные, верные люди «ближе всего остального, ближе даже самого себя...». И это то же самое чувство, которое ощутил в себе Морозко в минуту высшего подъема своего духа: «...он ясно понял, что никогда не увидеть ему залитой солнцем деревни и этих близких, дорогих людей, что ехали позади него. Но он гак ярко чувствовал их в себе, этих уставших, ничего не подозревающих, доверившихся ему людей, что в нем не зародилось мысли о какой-либо иной возможности для себя, кроме возможности еще предупредить их об опасности». Это чувство таково, что оно вытесняет у Мо-розки стремление хотя бы в последнюю минуту дороже отдать свою жизнь: он стреляет из своего револьвера не в казаков, его окружавших, а «высоко подняв его над головой, чтобы было слышнее». Это внутреннее единство Морозки, человека, еще
1 А. Фадеев, Как я работал над в школе», 1950, № 2, стр 21.
романом «Разгром». «Литература
только начавшего свой рост в революции, и Левинсона, всегда идущего во главе, с особой силой подчеркивает их внутреннюю близость, единство личности и массы — личности, воспитывающей героическую массу, массы, рождающей героическую личность. Фадеев не боится, говоря о личности, ведущей за собой массу, подчеркивать слабость и ошибки, ею совершаемые. Внутренняя слабость Левинсона часто подчеркивается на страницах романа: и его колебания, и его растерянность, когда он «на самом деле не только не имел никакого плана, но вообще чувствовал себя, как ученик, которого заставили сразу решать множество задач с множеством неизвестных». И даже тот упадок сил, который не позволил ему преодолеть ошибку с посылкой в дозор Мечика, предавшего отряд, и охватившее его чувство беспомощности, когда раздался залп по Морозке, и слезы после прорыва — все это преодолимые слабости и трудности. Поэтому-то так оптимистична концовка романа: «Левинсон обвел молчаливым, влажным взглядом это просторное небо и землю, сулившую хлеб и отдых, этих далеких людей на току, которых он должен будет сделать вскоре такими же своими, близкими людьми, какими были те восемнадцать, что молча ехали следом,— и перестал плакать: нужно было жить и исполнять свои обязанности». Оптимизм ее является выражением того восприятия жизни в ее революционном развитии, которое представляет собой отличительную черту социалистического реализма. Необходимым условием этого является целостно-исторический подход к жизни, умение видеть ее в движении во всех определяющих его моментах: отмирающем, господствующем, рождающемся.
Если в первые годы после Великого Октябрьского переворота советские писатели рисовали образ нового человека, положительного героя, на материале относительно пройденных уже этапов жизни страны (Фурманов, Серафимович, Фадеев, Шолохов), то во второй половине 20-х годов советская литература овладевает уже тем принципом своевременности, пример которого был дан Горьким в романе «Мать»
Значение его чрезвычайно существенно
Образы Чапаева и Клычкова, Левинсона, Морозки, Бакланова, Дубова и других не только обобщали опыт гражданской войны. В них, естественно, сказывался и тот опыт, который был накоплен к тем годам, когда эти образы создавалась. Чем ближе страна подходила к новой фазе развития, тем в большей мере в литературе начинала звучать тема воспитания человеческого характера, и в том акценте, который она получала в «Чапаеве», «Мятеже», «Разгроме», сказывался, конечно, круг интересов уже не только периода гражданской войны. Но читатель, в 1927 году читавший «Разгром», для того чтобы примерить к своему сегодняшнему опыту опыт героев романа, дол-
жоп был уже сам произвести соответствующее переосмысление1 вопросов, в нем поставленных, применительно к своему времени. Писатели начала 20-х годов смотрели из настоящего на прошлое, и в этом была известная ограниченность их творческой позиции в смысле постановки проблем, волновавших настоящее. И роман «Мать», и роман «Разгром» заканчиваются так, что читатель .испытывает глубочайшую уверенность в том, что, несмотря на сегодняшнее поражение, герои завтра неизбежно победят. Но Горький писал свой роман тогда, когда еще шла борьба, а Фадееву уже был известен ее результат. Другими словами, Горький как художник на более раннем этапе революции более глубоко ее отразил в смысле понимания ее перспектив, чем художники-прозаики начала 20-х годов свой исторический период. У него настоящее воспринималось из будущего, у них прошлое — из настоящего, и поэтому перспективы были ими показану менее отчетливо (в поэзии благодаря деятельности Маяковского принцип своевременности был уже ясно выражен).
Только во второй половине 20-х годов этот принцип широко входит в литературу и прежде всего сказывается на самом характере положительного героя современности.
Создается план пятилетки, и она вслед за тем выполняется досрочно. Перестраивается деревня. Вырастают кадры советской интеллигенции, и происходит решающий перелом в части старой интеллигенции. Ликвидируется кулачество. Размах строительства (Днепрогэс, Уралмашстрой, Кузбасс) позволяет с особенной полнотой увидеть новые чувства и качества советского человека, воспитанные новым отношением к труду.
В литературу входят темы творческого груда (Гладков), деревни и ее перестройки (Панферов, Шолохов), историческая тема, с которой, в частности, связаны и «Дело Артамоновых», и «Жизнь Клима Самгина» Горького.
Главное в этом периоде — героика социалистического строительства. Советский человек начинает раскрываться уже не как воин, освобождающий Родину, а как строитель.
Пафос созидательного мирного труда, как уже говорилось,— основа социалистической эстетики Еще до Октября Горький необычайно полно раскрыл его в своем творчестве. Сейчас же после Октября тема свободного груда развивается в «Мистерии-буфф» («Труд — наша Родина») Маяковского. В 1923 году в «Моих университетах» М. Горький дал исключительную по своей силе картину творческого вдохновенного труда: «.. .душу озаряло желание прожить всю жизнь в этом полубезумном восторге делания ..
Казалось, что такому напряжению радостно разъяренной силы ничто не может противостоять, она способна содеять чудеса на земле, может покрыть землю в одну ночь прекрас-
ными дворцами и городами, как об этом говорят «вещие сказки».
Заслуга конкретного развития темы труда и строительства в реальной обстановке середины 20-х годов, позволяющая советской литературе перейти к разработке нового типа положительного героя — строителя, созидателя социалистического общества, показанного во всей полноте жизненной обстановки этого времени, принадлежит Ф. Гладкову в «Цементе».
Не случайно Максим Горький так тепло откликнулся на появление этого романа. «Очень значительная, очень хорошая книга,— писал он автору о «Цементе»,— в ней впервые за время революции крепко взята и ярко освещена наиболее значительная тема современности — труд. До Вас этой темы еще никто не коснулся с такой силой. И так умно».
В наши задачи ни в какой мере не входит хотя бы и самая беглая характеристика этапов развития советской литературы, ни даже эволюция образа положительного героя. Нам важно только в самых общих чертах остановиться на этом вопросе для того, чтобы показать, что каждый этап развития советского общества вносит свое, новое в образ положительного героя соответственно непрерывному росту советского человека в самой жизни, соответственно тем запросам, с которыми обращается к нему жизнь. Этапы развития образа положительного героя — это этапы развития социалистической действительности, формирующей все новые черты социалистического человека в жизни и диктующей их искусству.
На основе победы социализма во всех областях народного хозяйства страны создается новый тип людей — передовых рабочих, дающих пример нового, социалистического отношения к труду. Этот новый тип человека, сформировавшегося в годы строительства, определяет и дальнейшее движение литературы.
Если, как ранее говорилось, в литературе первых лет Советской власти новый человек был показан главным образом применительно к пережитым этапам общественной жизни, то основная тенденция развития литературы последующих лет заключается именно в том, что черты нового человека широко обрисованы, в том, что положительный герой приобретает все более своевременный характер в современной обстановке социалистического строительства. У Шолохова («Поднятая целина»), Малышкина («Люди из захолустья»), в значительной мере у Н. Островского и других человек раскрывается как необходимое следствие основных свойств именно современной обстановки, т. е. социалистических условий, воспитывающих человека в данный, переживаемый страной исторический момент.
В литературу приходит новое поколение, целиком воспитанное в социалистической действительности («Танкер «Дербент»
Ю. Крымова, «Парень из нашего города» К. Симсмкжа) , h Іг тический идеал вступает в этом периоде в новую фа sy икнчо развития. Советский человек показан и в труде, и в быту, ІІ в его связях с прошлым, и в отношении к Родине и партии. Он показан в различных социальных пластах, в различных поколениях. Проблема всесторонней конкретизации социалистического идеала человека вступает в новую фазу.
В литературе появляется образ передового рабочего («Танкер «Дербент» Ю. Крымова). Если Горький показал идеал человека в эпоху первой революции, Фадеев, Фурманов, Н. Островский — в годы гражданской войны, Маяковский дал его в лирике применительно к эпохе 20-х гоцов, Шолохов — в начале коллективизации, то перед литературой конца 30-х годов стояла необходимость решения этой задачи в новых условиях, на вновь выросшем человеческом материале, в котором чувства и качества советского человека были даны уже в широком, многостороннем их проявлении.
Годы Отечественной войны советская литература встретила подготовленной к военным испытаниям именно потому, что она воспитывала советских людей для мирного и созидательного труда. Военная тема не звучала в советской литературе хоть сколько-нибудь значительно. За исключением нескольких произведений, в которых непосредственно говорилось о нападении на Советский Союз («На востоке» Павленко, «Командир танка» Н. Панова, «Первый удар» Шпанова), оборонной лирики, произведений, говоривших о пограничниках и жизни Советской Армии, советская литература целиком была занята разработкой тематики, связанной со строительством, ростом культуры страны. Но именно в разработке этих тем отчетливо выступали в ней те черты советского человека, которые воспитывали в нем будущего борца за свою страну.
Положительный герой литературы этих лет в процессе самоотверженной работы на строительстве проходил школу организованности « хладнокровия, мужества и расчета, чувства трудового единства, понимания патриотического значения своей работы. Идея трудового подвига готовила его к тому, чтобы ответить на нападение врагов подвигами ратными.
И вместе с тем пафос современности, отличающий советских писателей, позволил и им быстро включиться в общее дело борьбы с врагом.
В годы войны положительный герой советской литературы рисовался в таких сторонах своей деятельности и своего характера, которые резко отличали его от всех предшествующих ему образов советского человека, но вместе с тем война показала силу и крепость его духовного облика, значимость того эстетического идеала, который выдвигала еще в мирные дни советская литература.
Взрывая заводы, которые он строил до войны, сжигая посевы, советский человек отстаивал дело мира и, зрея в боях, готовил себя к нему.
Чрезвычайно характерна вышедшая в конце войны повесть В. Овечкина «С фронтовым приветом», герои которой, еще ведя бои с врагом, уже думают о возвращении в родной колхоз и о том, как перестроить в нем работу, поскольку опыт, накопленный иміи в дни войны, теперь обратится снова на мирный труд.
С особенной наглядностью и поучительностью этот процесс роста и развития героя советской литературы вместе со всей страной обнаруживается в послевоенные годы. Процесс перехода к коммунизму с необычайной ясностью обнаруживает, насколько глубоко проникло коммунистическое начало в сознание советского человека, создавая все условия для формирования морального кодекса строителя коммунизма.
Следует подчеркнуть, что, говоря о росте героя, о смене поколений, все более близких к коммунизму, мы ни в коем случае не принижаем тот тип положительного героя, который показан в произведениях предшествующих периодов.
Мы прекрасно понимаем, что в тех условиях характер коммунистов мог проявиться именно так, как он проявился, и ценим его за силу, проявленную в тех условиях, понимая, что и в наших условиях она дала бы ему место в первых рядах наших современников.
Командир с конкретными чертами характера Чапаева уже не может появиться в рядах современной Советской Армии, но имя его с гордостью носили и будут носить воинские части, понимая, что быть таким, как Чапаев, в наши дни — значит быть также в числе лучших бойцов, как был Чапаев в свое время.
Соотнося между собой положительных героев нашей литературы различных периодов, прослеживая в них рост характера советского человека, мы не должны забывать и о единстве с ниміи, и о закономерности именно такого, а не иного проявления их характеров в тогдашней обстановке. В этом — объяснение их художественной неувядаемой силы воздействия на нас, хотя мы смотрим на них уже из другого и более высокого по степени приближения к коммунизму исторического периода.
Таким образем, закономерности, управляющие развитием советской литературы, определяют глубокое историческое своеобразие всех сторон художественного отражения действительности в произведениях советских писателей, определяют то, что советская литература и, шире, советское искусство в целом представляют собой повое явление в истории искусства. В них эпоха социалистической революции и перехода к коммунизму сделала новый шаг в художественном развитии человечества.
И имеете с тем при всей самобытности и новизне решения со ветекой литературой всех основных проблем, возникающих в процессе развития искусства мы видим, что ею управляют те основные общие закономерности, которые заложены в самой природе искусства как особой форме художественного освоения человеком действительности.
Советская литература дает новые ответы на те общие вопросы, которые всегда стояли перед искусством. Именно в этом и обнаруживается прежде всего ее теснейшая связь со всеми предшествующими периодами развития мирового искусства. И вместе с тем советская литература в своем развитии вбирает в себя весь тот опыт, который накопило передовое, прогрессивное искусство в прошлом, для того, чтобы по-новому решать те проблемы, которые ставит перед ней современная действительность.
«Высокое призвание советских писателей,— говорилось в Приветствии ЦК КПСС Третьему съезду советских писателей,— правдиво и ярко раскрывать красоту трудовых подвигов народа, грандиозность и величие борьбы за коммунизм, выступать страстными пропагандистами семилетнего плана, вселять бодрость и энергию в сердца советских людей, искоренять пережитки капитализма в сознании людей, помогать устранению всего того, что еще мешает нашему движению вперед. Па этом пути будет расти великое искусство коммунизма — искусство больших мыслей, горячих чувств и высоких страстей, искусство, способное вдохновлять миллионы и миллионы строителей коммунизма на новые большие дела» '.
Задача теории литературы в том и состоит, чтобы, определив общие закономерности, управляющие развитием искусства, открыть вместе с тем путь для историко-литературного анализа конкретных периодов его развития, показав неповторимое историческое своеобразие каждого из них.
1 «Третий съезд писателей СССР», Стенографический отчет, изд. «Советский писатель», М, 1959, стр. 217.
УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
Авторская речь —87, 156, 188, 194, 196, 204, 225, 241, 244, 246, 284, 382 Акмеизм — 162 Акцентное стихосложение — 300, 305, 307, 321ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ
Предмет художественного изображения................................................................. ?9 Индивидуализированность художественного изображения .... 36 Обобщенность художественного изображения........................................................... 41АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Глава первая. Единство содержания и формы в художественном
Творчестве............................................................................................................ 129
Средства литературного изображения и принципы их изучения . . . 137 476
U г op a я. Идея, тема (идейно-тематическая основа), характеры 142
Множественность идей и тем произведения................................................... —
Основная идея произведения............................................................................ ИЗ
Авторская идея и объективная идея произведения....................................... 147
Характеры ................................................................................................... 149
Глава третья. Композиция и сюжет........................................................ ^5?_j
Композиция ................................................... ,............................................ —
Сюжет ........................................................................................................... 156
Соотношение композиции и сюжета.............................................................. 159
Основные элементы сюжета.......................................................................... 162
Историчность сюжета..................................................................................... Î69
Глава четвертая Особенности языка художественной литературы 175
Типы организации языка художественного произведения......................... 190
Речь повествователя................................ ,...................................................... 195
Образ повествователя........................................................................................ 204
( Пути использования слова писателем.............................................................. 206
I Многозначность слова........................................................................... Ч . 207
Переносное значение слова (тропы и их виды)..................................... 211
Интонация и синтаксис................................................................................... 225
Источники языка писателя . . . ....................................................... 233
Индивидуализация речи персонажей........................................................... 244
Типизация языка персонажей . ........................................................... 248
Дифференцированность языка художественного произведения . . . 253
Роль писателя в развитии языковой культуры........................................... 254
Глава пятая. Особенности стихотворного языка................................... 260
Глава шестая. Системы стихосложения..................................................... 300
Количественное стихосложение (музыкально-речевое)............................. 301
Переход от количественного к качественному стихосложению . . . 303
Качественное стихосложение (речевой акцентный стих)......................... 307
Силлабическое стихосложение .............................. ........................ 308
Силлабо-тоническое стихосложение . ................................................ 309
Ритмические определители силлабо-тонического стиха........................... 313
Дольник и тонический стих . . . . ................................... 327
Ритмические определители тонического стиха ....................................... 330
і Часть третья
АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА
Глава первая. Литературные роды и виды (жанры и жанровые
Формы)................................................................................................................ 339
Понятие жанра.................................................................................................. —
Эпос ............................................................................................................ 343
Лирика .............................................................. ,.......................................... 353 4
Лиро-эпический жанр........................................................................................ 360 •
Художественно-исторический жанр............................................................... 368 *
Драма ............................................................................................................ 373 *
Сатира................................................................................................................. 382 *
................................................... 391
Глава вторая. Стиль и течение ...........
Стиль писателя ...................
Стиль и метод ...... . . ........
Литературное течение и метод ............
Литературный процесс . ....... ........ Ж)4
| . 425 . 470 |
Глава третья. Метод социалистического реализма ....... 413
Глава четвертая. Развитие социалистического(реализма .
Указатель терминов

|
Леонид Иванович Тимофеев ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ
Редакюр Т. П KaihiMoaa
Переплет художника А А Седякина
Художественный редактор В И Рывчин
Технический редактор M И Смирнова
Корректор Л А Рукосуева
– Конец работы –
Используемые теги: Тимофеев, основы, Теории, литературы0.077
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Тимофеев Л. И. основы ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
| Твитнуть |
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?







Новости и инфо для студентов