рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры
- Раздел Образование
- /
- Т. А. Горъкова Б. В. Соколов
Реферат Курсовая Конспект
Т. А. Горъкова Б. В. Соколов
Т. А. Горъкова Б. В. Соколов - раздел Образование, Удк 92Б:004 Ббк 83.3Р7 С59 К Читателю Посвящается Люде...
УДК 92Б:004 ББК 83.3Р7 С59
К ЧИТАТЕЛЮ
Посвящается Люде
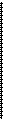 | |||||
 | |||||
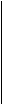 |
| ISBN 5-88889-010-3 |
Художник В. Н. Сергутин
Редакционно-издательский совет:
A. М. Смирнова
(председатель, директор издательства)
Т. А. Горъкова Б. В. Соколов
B. Н. Сергутин
C. В. Федотов
Эллис Лак, 1997 Б. В. Соколов, 1997
Из всех писателей 20-х - 30-х годов нашего, идущего сегодня к концу, века, наверное, Михаил Булгаков в наибольшей мере сохраняется в российском общественном сознании. Сохраняется не столько своей биографией, из которой вспоминают обычно его письма Сталину и единственный телефонный разговор с тираном, сколько своими гениальными произведениями, главное из которых — «Мастер и Маргарита». Каждому следующему поколению читателей роман открывается новыми гранями. Вспомним хотя бы «осетрину второй свежести»*, и придет на ум печальная мысль, что вечно в России все второй свежести, все, кроме литературы. Булгаков это как раз блестяще и дока-чал. А вот «Дни Турбиных», «Бег», «Мольер», «Александр Пушкин» отходят на второй план, чтобы, быть может, через десятилетия алмазом сверкнуть в чьей-то незаурядной постановке. Зато пробудился вновь интерес к «Белой гвардии», к мыслям писателя о судьбах России и русской интеллигенции, ставшим актуальными после краха коммунистического режима в СССР и в свете переживаемого Россией смутного времени.
Булгаков-писатель и Булгаков-человек до сих пор во многом — загадка. Неясны его политические взгляды, отношение к религии, эстетическая программа. Литературно-критических статей, за редкими исключениями, он не писал, в письмах о политике и эстетике ничего не говорил, позднейшие воспоминания современников создавались с оглядкой на цензуру; осторожна и вдова писателя Елена Сергеевна Булгакова в своих дне-нниках. Правда, чудом уцелел сожженный, но возродившийся, как феникс из пепла, булгаковский дневник 20-х годов, а главное — его произведения, в которых писатель за свою короткую жизнь успел выразить себя до конца, до самого дна души, точно под взглядом всевидящего и всезнающего Воланда.
Были еще тысячи и тысячи книг, прочитанных Булгаковым и преображенных булгаковским гением в романах и пьесах, рассказах и фельетонах. Преломление чужих литературных образов часто помогает понять взгляды самого писателя. А узнаваемые персонажи-современники нередко позволяют
 * В начале июля 1995 года сам видел в одном московском киоске надпись: «Пиво второй свежести» (то есть с осадком).
* В начале июля 1995 года сам видел в одном московском киоске надпись: «Пиво второй свежести» (то есть с осадком).
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
приоткрыть непрочитанные еще страницы булгаковской биографии.
Можно сказать, что Булгаков прожил три жизни. До 1919 года Михаил Афанасьевич — врач, только изредко пробующий себя в литературе. В 20-е годы он уже профессиональный писатель и драматург, зарабатывающий на жизнь литературным трудом и осененный громкой, но скандальной славой «Дней Турбиных». Наконец, в 30-е годы Булгаков — театральный служащий, поскольку существовать на публикации прозы и постановки пьес уже не может — не дают. В это десятилетие он пишет «в стол», без расчета на немедленную публикацию и создает нетленный шедевр — «Мастера и Маргариту». Будто три разных человека жили. А ведь один и тот же, только вынужденный по-разному приспосабливаться к жизненным обстоятельствам, по-разному выражать свою творческую сущность.
В жизни Булгакова было не много значительных, ярких событий, а наиболее драматичный период его биографии в эпоху гражданской войны до сих пор покрыт мраком неизвестности, тайной. Но созданное им в литературе и театре — из самого драгоценного, что когда-либо было сотворено в России и мире.
Автор не ставит перед собой невыполнимой задачи раскрыть и убедительно истолковать все тайны булгаковской жизни и творчества. Верно, что каждая новая эпоха требует и новой биографии полюбившегося писателя. Сегодня, когда изданы почти все художественные произведения Булгакова, изучены и в основном опубликованы его архив, основная часть переписки и документов, вряд ли можно ожидать, что появятся сенсационные материалы, которые перевернут наши представления о Булгакове. Хотя в жизни всегда есть место неожиданному и необыкновенному... Но потребность в осмыслении и переосмыслении, переписывании булгаковской биографии, нового обращения к творчеству писателя существует всегда. И если автору удалось хоть немного приоткрыть завесу тайны над булгаков-ским творчеством и непростой, негладкой жизнью писателя, сделать Булгакова и его героев ближе и понятнее современникам (хотя всякое познание непременно рождает и новые вопросы), он свою задачу сочтет выполненной.
Сам Булгаков незадолго до конца, 8 ноября 1939 года, в беседе с сестрой Надеждой Афанасьевной Земской, согласно записи в ее дневнике, так высказался о биографическом жанре: «О биографах...», «Тетка-акушерка...». Мое замечание о том, что я хочу писать воспоминания о семье. Он недоволен. «Неинтересно читать, что вот приехал в гости дядя и игрушек при-
К читателю /
вез... Надо уметь написать. Надо писать человеку, знающему журнальный стиль и законы журналистики, законы создания произведения...»
В последние месяцы он подумывал о том, чтобы все-таки написать хоть какие-то воспоминания в помощь будущим биографам. В письме к другу юности Александру Петровичу Где-iминскому Булгаков признавался: «...я тоже все время приковываюсь к воспоминаниям и был бы очень благодарен тебе, если бы ты помог мне в них кое в чем разобраться. Дело касается главным образом музыки и книг». Надежда Афанасьевна в связи с этим отметила в дневнике: «Миша... что-то хотел писать о Киеве и юности; может быть, хотел сам писать свою биографию». К несчастью, Михаил Афанасьевич осуществить это намерение не успел и мы лишились бесценного источника. Для прояснения булгаковского облика остались воспоминания, письма и, главное, его собственные бессмертные произведения.
Булгаков не хотел, чтобы в его будущей биографии преобладал быт. Как известно, ни один великий человек не остается таковым в глазах собственного камердинера. Вовсе не собираемся сводить биографию к быту и мы. Вместе с тем надо помнить, что детали, мелочи быта часто говорят о человеке больше, чем многостраничные письма и воспоминания. И именно быт дает тот «сор», из которого вырастают литературные шедевры.
Два слова о языке Булгакова. Одному начинающему автору он писал: «...Раз я читатель, то будьте добры, дорогие литераторы, подавайте так, чтобы я легко, без мигрени следил за мощным летом фантазии». К собственному творчеству Булгаков подходил с позиций потенциального читателя и писал просто и правильно, облекая «мощный лет фантазии» в формы, понятные всем — и рафинированному интеллигенту, и обыкновенному рабочему, вроде тех, чьи не слишком грамотные корреспонденции когда-то приходилось править в «Гудке». Писателю скоро стало претить избыточная и вычурная, как он считал, метафоричность, столь характерная для советской литературы 20-х годов. Булгаковский язык обретает ту прозрачную простоту, к которой стремился еще Лев Толстой в последний период своего творчества. Булгаков, убежденный, что своих героев автор должен любить, чтобы затем их полюбил читатель, не допускал искусственной усложненности и чрезмерной цветистости языка как самоцели, которой должны были бы подчиняться развитие фабулы и характеры персонажей. Поэтому булгаковская проза читается с необычайной легко-
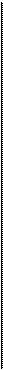 | |||
 | |||

|
| "Разговора про литературу тогда никакого не было." |
$ Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
стью. Внимание читателей лишний раз не отвлекается от мастерски сделанного сюжета необходимостью осмысливать сложные метафорические обороты и бесконечные повествовательные периоды. В пьесах же речь персонажей по своему строю оказывается очень близка к реальной разговорной, будучи разделенной на не очень длинные фразы, она мало отступает от литературной нормы и легко воспринимается зрителями, позволяя без труда следить за развитием действия. Для Булгакова было чрезвычайно важным идейное содержание произведения. Язык должен был помогать его восприятию, не концентрируя на себе специально читательское внимание.
Писатель не стремится к абсолютной гладкости речи, пони-ч мая, что некоторая художественно дозированная «неправильность» языка по сравнению как с нормой, так и с живой разговорной практикой необходима для должного эстетического воздействия на читателя. В частности, Булгаков вводил в свою прозу ритм, следуя традиции А. Белого, например в ставшем хрестоматийном описании Пилата. Он также использовал непривычную транскрипцию знакомых слов, вроде «Ершалаи-ма», «Кентуриона», «Вар-Раввана» в евангельских главах «Мастера и Маргариты». В московской же части романа со строгим чувством меры употреблены просторечные слова для речевой характеристики персонажей типа Коровьева, который конферансье Бенгальского величает замечательным словом «надоедала». А фамилия администратора Варенухи означает вареную водку с пряностями и может быть понято как намек на склонность Ивана Савельевича к выпивке, подобно его шефу Лиходе-еву. В то же время, Булгаков силой поэтического воображения сотворил высоким стилем историю Пилата и Иешуа, и утвердив в нашем сознании не только эпически стройную и психологически достоверную версию евангелических событий, но и представление об эстетическом эталоне русской прозы.
Приношу свою искреннюю благодарность за советы и консультации, а также помощь в доступе к архивным материалам в процессе подготовки книги Н. А. Грозновой, П. Н. Кнышевскому, В. Я. Лакшину], В. И. Лосеву, Б. С. Мягкову, П. В. Палиевско-му, А. М. Смелянскому и В. Г. Сорокину.
Особая благодарность О. И. Яриковой, взявшей на себя труд отредактировать рукопись данной книги.
 -П □ О-
-П □ О-
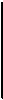

|
ихаил Афанасьевич Булгаков родился 3(15) мая 1891 года* в Киеве. Об этом сохранилась запись в метрической книге Киево-Подольской Кре-сто-Воздвиженской церкви: «Тысяча восемьсот девяносто первого года родился мая третьего, а крещен восемнадцатого чисел Михаил. Родители: доцент Киевской духовной академии Афанасий Иванович Булгаков и законная жена его Варвара Михайловна, оба православного вероисповедания».
Отец будущего писателя родился 17 апреля 1859 года в семье сельского священника Орловской губернии Ивана Авраамьевича Булгакова, жена которого Олимпиада Ферапонтовна вместе с ординарным профессором Киевской духовной академии Николаем Ивановичем Петровым стали крестными Михаила.
Афанасий Булгаков окончил в 1881 году Орловскую духовную семинарию и, как один из наиболее выдающихся ее выпускников, был официально «предназначен» для поступления в Киевскую духовную академию, которую он окончил в 1885 году. Два года преподавал греческий в Новочеркасском духовном училище. В 1886 году опубликовал в Киеве «Очерки истории методизма», и в следующем году был удостоен за это сочинение степени магистра богословия, определен в Академию доцентом по кафедре общей гражданской истории, а с начала 1889 года переведен на кафедру истории и разбора западных исповеданий. 1 июля 1890 года Афанасий Иванович женился на учительнице женской прогимназии города Карачева Варваре Михайловне Покровской. Она родилась 5 сентября 1869 года в семье протоиерея карачев-ской Казанской церкви Михаила Васильевича Покровского. Ее мать, Анфиса Ивановна, в девичестве носила
 * До 19 января (1 февраля) 1918 года все даты, относящиеся к биографии Булгакова, приводятся по старому стилю (Юлианскому календарю).
* До 19 января (1 февраля) 1918 года все даты, относящиеся к биографии Булгакова, приводятся по старому стилю (Юлианскому календарю).
22, БоРис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 1.
Детство и юность. 1891—1916
фамилию Турбина, данную впоследствии Булгаковым автобиографическим персонажам романа «Белая гвардия» и пьесы «Дни Турбиных». В семье Покровских было девять детей, а в семье И. А. Булгакова — десять. Афанасия Ивановича и Варвару Михайловну детьми Бог тоже не обидел. У Михаила было шесть братьев и сестер: Вера (1892), Надежда (1893), Варвара (1895), Николай (1898), Иван (1900) и Елена (1902).
Будущий писатель появился на свет в доме № 28 по Воздвиженской улице, принадлежавшем крестившему Михаила священнику Кресто-Воздвиженской церкви о. Матвею Бутовскому. Семья меняла квартиры почти ежегодно, стремясь найти относительно более дешевое жилье. С 1904 года Булгаковы поселились на Ильинской улице, 5/8, в угол с Волошской, занимая квартиру в доме Духовной академии. Варвара Михайловна оставила работу учительницы, и Афанасий Иванович вынужден был искать дополнительный заработок для содержания все увеличивающейся семьи. В 1890—1892 годах он преподавал историю в Киевском институте благородных девиц, а с октября 1893 года получил также должность Киевского отдельного цензора по внутренней цензуре. Пригодилось знание европейских языков: цензуровал поступающую в Киев иностранную литературу. Карьера в Киевской духовной академии развивалась успешно: в 1896 году он стал статским советником.
В 1906 году Булгаковы сняли дом № 13 на Андреевском спуске, на долгие годы ставший их пристанищем и известный миллионам читателей как «Дом Турбиных». Осенью смертельно заболел отец — у него обнаружился нефросклероз. Коллеги Афанасия Ивановича в беде его не оставили. С завидной оперативностью — уже 11 декабря 1906 года он был удостоен степени доктора богословия. Одновременно совет Академии возбудил ходатайство перед Священным Синодом о присвоении ему звания ординарного профессора, которое было удовлетворено 8 февраля 1907 года. На следующий день А. И. Булгаков подал прошение об увольнении со службы по болезни, а 14 марта скончался. Семье была назначена пенсия в 3000 рублей в год. Будучи доцентом, Афанасий Иванович
получал 1200 рублей и столько же — в должности цензора. После смерти отца положение Булгаковых в материальном отношении даже улучшилось, что, конечно, не могло и в малой степени облегчить боль утраты.
Горько сознавать, что лишь смерть кормильца позволила семье без особого напряжения сводить концы с концами. Разумеется, Булгаковы не бедствовали, но и к числу людей состоятельных отнести их было нельзя. Вся недвижимость состояла из дачного участка в Буче, каких-либо существенных сбережений не имелось, прислуживала семье только одна горничная, а в наемной квартире из семи комнат проживало более десяти человек. Обычное интеллигентное семейство. Не вызывает сомнения, что подавляющее большинство населения России, особенно крестьян, жило гораздо хуже, регулярно голодая в неурожайные годы. Правда, о жизни народа Михаил в то время знал очень мало, разве что из общения на даче с деревенской детворой.
Каким же человеком был отец и какое влияние он мог оказать на будущего писателя? Сестра Надя, в замужестве Земская, вспоминает слова одного из студентов над гробом Афанасия Ивановича о его «симпатичном, честном и высоконравственном облике». Профессор Булгаков за 20 лет службы в Академии не имел размолвок ни со студентами, ни с коллегами-преподавателями. В некрологе профессор В. П. Рыбинский писал: «Когда в Киеве несколько лет тому назад образовался кружок духовных и светских лиц, имевший целью обсуждение церковных вопросов и уяснение основ назревшей церковной реформы, Афанасий Иванович был одним из усерднейших членов этого кружка и принимал самое горячее участие в спорах». При этом «почивший профессор был очень далек от того поверхностного либерализма, который с легкостью все критикует и отрицает; но в то же время он был противником и того неумеренного консерватизма, который не умеет различить между вечным и временным, между буквой и духом и ведет к косности церковной жизни и церковных форм». В надгробной речи один из близких друзей Афанасия Ивановича Д. И. Богдашевский вспомнил беседу с ним незадолго до
J /f. Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 1.
Детство и юность. 1891—1916
смерти: «Беседовали мы с тобою о разных явлениях современной жизни. Взор твой был такой ясный, спокойный, и в то же время такой глубокий, как бы… В этих словах можно усмотреть и один из многих источников награды, дарованной… Перу А. И. Булгакова принадлежало исследование «Французское духовенство в конце XVIII века (в период революции)»,…J $ Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 1.
Детство и юность. 1Q1891—1916 1 У
лично особым демоном, назначаемым для этого Люцифером, причем по окончании опроса демон целует кандидата. В Чарльстоне депутатом от Люцифера… У Булгакова Воланд подобным же образом возрождает из пепла рукопись романа… «орудием для своих проявлений» и описал использование этого черепа в масонском обряде, при котором будто бы сам…Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
допросу, как ученик перед вступлением в ложу, причем Ивану рисуют «ручкой молоточка какие-то знаки на коже груди» и берут кровь из пальца. Повстречавшись с Мастером, поэт торжественно клянется последовать его совету и никогда больше не писать стихи. В результате главный герой называет Бездомного своим учеником. В эпилоге Иван Николаевич превращается в профессора истории Понырева, следуя в этом масонской заповеди любви к научному знанию. А вот неразлучной спутни* цей, олицетворяющей небесную Софию, Булгаков наградил не ученика, а самого Мастера. В то же время, его Маргарита на балу у Воланда в некотором отношении ведет себя как масонский ученик, который «левым обнаженным коленом становится... на подушку, лежащую перед жертвенником; правую руку возлагает на отверстое первою главою Св. Иоанна Евангелие». Именно так стоит Маргарита.
Главный герой булгаковского романа, как мы уже отмечали, в своей судьбе повторяет обряд посвящения в масонскую степень мастера. Бездомный из учеников ложного мастера — председателя МАССОЛИТа превращается в ученики истинного мастера — творца романа о Понтии Пилате. Булгаковский Мастер наделен многими чертами обладателя масонской «Теоретической степени». Этой степенью он удостаивается за свое гениальное произведение. Как писала Т. О. Соколовская, «прием, посвящение в эту важную степень предрешался без ведома намеченного к принятию брата». Теоретические братья посещают собрания нижестоящих, иоанновских, лож, чтобы узнать, «как воспитательное училище к общему благу работает и дабы из среды их могли они извлекать лучших членов». Для обретения степени теоретических философов «избирались достойнейшие питомцы масонского приготовительного училища, иоан-новские мастера; однако им предоставлялось еще время пройти одну или две... степени шотландского масонства», чтобы, как говорилось в масонских уставах, «к философским работам способными со делать». Соколовская указывала, что «в русских архивах сохранились многочисленные списки предметов занятий в степени теоре-
| ГЛАВА1. |
Детство и юность. Ш1916
Три низшие степени, относящиеся к так называемому голубому иоанновскому масонству: ученика, товарища (или подмастерья) и мастера, — символизировали… Борис Соколов. ТРИЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВАБорис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
Одеяние и вооружение Воланда, в котором он появляется и на балу, соответствует облачению Великого Командора, а убранство квартиры — обстановке ложи Кадош. Неслучайно во время визита Сокова Коровьева впервые называют рыцарем. На степень Рыцарей белого и черного орла указывает и берет с орлиным пером. Становится понятным, почему понес наказание Фагот за неудачный каламбур насчет света и тьмы — действительно предосудительный, если вспомнить, что рыцари степени Кадош (в переводе с древнееврейского — священный) — сыны света. Отметим, что в окончательном тексте рыцарь Фагот свершает последний полет в доспехах, а в одном из более ранних вариантов он был одет в костюм, характерный в XIX веке для большинства членов лож Рыцарей белого и черного орла — кафтан с золотыми застежками, берет с пером. Воланд и его свита беспощадно карают предателей, что Маргарита видит на примере барона Майгеля. А вот Андрей Фокич Соков в число Великих Избранников не попадает.
Буфетчику Варьете приходится в пародийной форме претерпеть те же испытания, что выпали на долю тамплиеров. Огонь в камине символизирует огонь былых костров, а скамейка, подломившаяся под Соковым, — ту скамью, что выбивали из-под ног храмовников, очутившихся на виселице. Воланд в ходе беседы экзаменует буфетчика. И выясняется, что тот, хотя и не страдает неумеренностью, похотью и гордыней, не пьет вина, женщинами не интересуется, выдает себя за скромного работника общепита, зато подвержен скупости и корыстолюбию и испытывает страх смерти. Следовательно, Рыцарем белого и черного орла Соков стать никак не может.
Многие другие детали обряда степени Кадош мы также находим в последнем булгаковском романе. Бриллиантовый треугольник на золотом портсигаре Воланда — это «сверкающий золотом и лазорью священный треугольник с оком Провидения» у Великого Командора. Титул же последнего, трижды могучий Властодержец, переосмыслен в определении сути главного автобиографического героя, которого сатана именует «трижды романтическим мастером». Булгаков охотно применял
| ГЛАВА 1. |
Детство и юность. 1891—1916
От отца идет, вероятно, и интерес Михаила к истории вообще и к истории христианства в частности. Масонские штудии отца можно сопоставить с… истины. В 1902 году Булгаковы приобрели две десятины земли для строительства дачи в Буче под Киевом. Вскоре дом был построен,…Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 1.
Детство и юность. Й91—1916
зии Е. А. Бессмертный, преподававший математику. В 1905 году он смог уберечь своих питомцев от гнева начальства за устроенные гимназистами… Хотя Киев был провинциальным городом Российской империи, по уровню… В июне (8-го) 1909 года Михаил Булгаков получил аттестат зрелости. Высших оценок он удостоился по двум предметам —…ГЛАВА 1.
Детство и юность. 1891—1916
Михаила 8 ноября праздновали, как в прежние годы. Подробный рассказ об этом сохранился в письме Илла-рии (Лили) Михайловны Булгаковой ее двоюродной… Знаешь, Надечка, — осуждай меня, — страшно .часто бываю в театре. Грех какой!… Уже не томление, а жар войны Киев почувствовал в 1915 году. В мае австро-германские войска прорвали русский фронт у…БоРис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 1.
Детство и юность. A Q 1891—1916 4-J
себя. Михаил повернулся, а тот выговорил: „Типейка... только..." — и свалился. Наповал. Он хотел сказать, что там никаких папирос нету, только… Были слухи, что Борис покончил с собой из-за обвинений в трусости, нежелании… «Тайному другу» пытается застрелиться из браунинга, как когда-то Борис Богданов. Но вскоре после гибели друга…Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА I.
Детство и юность. А *7
Ш1—1916 Ч-/
 лагаемой болезнью матери. Ни он, ни Тася, ни Надя, как и подавляющее большинство современников, не могли и подумать, что через каких-нибудь пять месяцев случится революция, которая положит начало ломке прежнего жизненного уклада, и что довершат эту ломку через год большевики.
лагаемой болезнью матери. Ни он, ни Тася, ни Надя, как и подавляющее большинство современников, не могли и подумать, что через каких-нибудь пять месяцев случится революция, которая положит начало ломке прежнего жизненного уклада, и что довершат эту ломку через год большевики.
Каким же был Михаил Булгаков в свои гимназические и студенческие годы, что читал, о чем размышлял и мечтал, думал ли о своем литературном призвании, видел ли себя в будущем врачом или, быть может, исследователем-естествоиспытателем? Ответы на эти и другие вопросы приходится в основном искать в воспоминаниях и переписке родных и близких будущего писателя, сам он подобных свидетельств нам почти не оставил.
В 1940 году, вскоре после смерти Булгакова, его ближайший друг, философ и литературовед Павел Сергеевич Попов в первом биографическом очерке о писателе сообщал явно с булгаковских слов: «Михаил Афанасьевич с младенческих лет отдавался чтению и писательству. Первый рассказ „Похождения Светлана" был им написан, когда автору исполнилось всего семь лет. Девяти лет Булгаков зачитывался Гоголем, — писателем, которого он неизменно ставил себе за образец и наряду с Салтыковым-Щедриным любил наибольше из всех классиков русской литературы. Мальчиком Михаил Афанасьевич особенно увлекался „Мертвыми душами". ...Гимназистом... читал самых разнообразных авторов: интерес к Салтыкову-Щедрину сочетался с увлечением Купером. „Мертвые души" расценивались им как авантюрный роман. Сочинения в гимназии писал хорошо, но впоследствии говорил, что „с общечеловеческой точки зрения это было дурное, фальшивое писание — на казенные темы" (писать на „социальный заказ", как видно, Булгаков терпеть не мог еще с детства, и впоследствии это часто делало его положение в советской литературе
почти невыносимым. — Б. С). Учителем словесности был человек весьма незначительный (неясно, о котором из сменявших друг друга преподавателей здесь идет речь. — Б. С). Впрочем, от гимназии у Михаила Афанасьевича остались очень богатые впечатления, от университета — гораздо более скудные». Похоже, что Булгакова уже тогда больше привлекали гуманитарные знания, которые преобладали в Александровской классической гимназии. Естественные же науки, преподававшиеся на медицинском факультете университета, интересовали его только с чисто практической стороны. Вероятно, выбор врачебной профессии в значительной мере диктовался желанием скорее обрести материальную независимость, иметь возможность содержать семью. Выбор историко-филологического факультета предполагал в ближайшие годы после выпуска педагогическую деятельность или, в случае оставления при университете, научную работу, что обещало значительно меньшие доходы, чем деятельность врача, особенно с учетом частной практики. По свидетельству П. С. Попова, медицинский факультет Булгаков выбрал не без колебаний — «его интересовали также юридические науки». Скорее всего, альтернативный выбор адвокатской профессии диктовался теми же материальными соображениями: возможностью относительно более высоких доходов, главным образом за счет частной клиентуры.
Кроме упомянутых выше авторов, родные Булгакова называют и других писателей, вызывавших интерес Михаила уже в раннем возрасте. Н. А. Земская, например, указывает на Диккенса и Чехова: «Чехов читался и перечитывался, непрестанно цитировался, его одноактные пьесы мы ставили неоднократно. Михаил Афанасьевич поразил нас блестящим, совершенно зрелым исполнением роли Хирина (бухгалтера) в „Юбилее" Чехова». Из русских писателей, входивших в круг чтения семейства Булгаковых, Надежда Афанасьевна отметила Достоевского, Горького, Леонида Андреева, Куприна, Бунина. Читат также декадентов и символистов, спорили о Владимире Соловьеве и Фридрихе Ницше, толстовском «непротивлении злу насилием» и женском
Шшшнтттт.
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 1.
Детство и юность.ifol—1916
 вопросе. Из западных авторов, по свидетельству сестры Булгакова, знали, кроме уже упоминавшегося Оскара Уайльда, Мопассана и Метерлинка, Ибсена и Гамсуна. Для начала века набор писателей и тем для разговоров вполне стандартный в том кругу интеллигенции, к которому принадлежали Булгаковы. Что отличало их от многих — так это настоящее увлечение театром.
вопросе. Из западных авторов, по свидетельству сестры Булгакова, знали, кроме уже упоминавшегося Оскара Уайльда, Мопассана и Метерлинка, Ибсена и Гамсуна. Для начала века набор писателей и тем для разговоров вполне стандартный в том кругу интеллигенции, к которому принадлежали Булгаковы. Что отличало их от многих — так это настоящее увлечение театром.
Н. А. Земская вспоминала: «Мы посещали киевские театры. Любили театр Соловцова и бывали в нем. Михаил Афанасьевич чаще нас всех. Но увлечение оперой преобладало». Вызвано оно было любовью к музыке и пению. Отец Михаила играл на скрипке и обладал приятным мягким басом. На пианино в доме играли все, а сестра Варя даже училась в Киевской консерватории по классу рояля. Сестра Вера после гимназии стала участницей известного хора Кошица. Младшие братья освоили балалайку, домру и духовые инструменты. Ивану Афанасьевичу позднее в эмиграции пришлось стать профессиональным балалаечником и исполнителем русских народных песен. По воспоминаниям Надежды Афанасьевны, когда один из братьев «принес домой тромбон и начал дома разучивать свою партию на тромбоне», нервы матери не выдержали, «и тромбон был отправлен обратно в гимназию».
Любимыми операми Булгакова, кроме «Фауста», были, как подтверждает Н. А. Земская, «Кармен», «Руслан и Людмила», «Севильский цирюльник», «Травиата», «Тангейзер», «Аида». Любил он и эпиталаму из «Нерона». Цитаты из этих и некоторых других опер обильно рассеяны в булгаковских произведениях. Достаточно вспомнить «К берегам священным Нила...» в «Собачьем сердце» — символ не только невозвратно утраченной стабильности дореволюционной жизни, но и вечных культурных ценностей, которые не в состоянии поколебать никакой «хомо советикус» вроде Шарикова.
По словам Надежды Афанасьевны, Булгаков не только играл на пианино (правда, любительски), но и обладал мягким красивым баритоном. На столе у него с гимназических лет стояла фотография артиста Киевской оперы Льва Сибирякова с дарственной надписью: «Ме-
чты иногда претворяются в действительность». По свидетельству второй жены Булгакова, Л. Е. Белозерской, это фото Булгаков сохранил и в Москве. Только вот мечтам об оперной карьере не суждено было сбыться. Как объясняет Т. Н. Лаппа, булгаковский баритон «быстро пропадал. Он мог только несколько нот взять и больше уже не мог. Но слух у Михаила был прекрасный». Татьяна Николаевна запомнила также совместное музицирование братьев Булгаковых и Александра Гдешинского, который «замечательно на скрипке играл. Они как соберутся... Колька с Ванькой на балалайках, Сашка на скрипке, еще один приходил, на виолончели играл. А Михаил на пианино или дирижирует».
После революции эти музыкальные вечера безвозвратно ушли в прошлое. В конце 1939 года, незадолго до кончины, уже будучи смертельно больным, Булгаков просил Александра Гдешинского припомнить подробности тех давних вечеров: что играли, как сидели, стремясь воссоздать в памяти фрагменты дорогого прошлого.
И все-таки главным для будущего писателя уже в юные годы стало увлечение театром и литературой. Н. А. Земская в своих дневниках упоминает ряд пьес, написанных Булгаковым «для домашнего употребления». В частности, две пьесы были посвящены свадьбе Михаила и Таси. Из первой, в духе Островского названной «С мира по нитке — голому шиш», приведем следующий остроумный диалог:
«Бабушка (Елизавета Николаевна Лаппа): Но где же они будут жить?
Доброжелательница (Софья Николаевна Лаппа-Давидович): Жить они вполне свободно могут в ванной комнате. Миша будет спать в ванне, а Тася — на умывальнике».
Вторая же пьеса, названная «Tempora mutantur*, или Что вышло из того, который женился, и из другого, который учился», сегодня именовалась бы комиксом. Это была пьеса в рисунках-карикатурах, очень смешных. Главными героями были сам Михаил и его двоюродный брат Константин Булгаков. Кроме пьес, молодежь ставила еще и шарады.
 * Времена меняются (лат.).
* Времена меняются (лат.).
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 1.
Детство и юность. 1891—1916
Юмористическая струя в творчестве юного Булгакова питалась не только популярным в семействе Чеховым и обожаемым Гоголем... Н. А. Земская в 60-е годы… Родные и близкие не остались равнодушными к литературным занятиям Михаила. 28… писателем). В тот же день Надя занесла в дневник и свои наблюдения об особенностях Мишиной речи: «Смесь остроумных…Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 1.
Детство и юность. Ш1—1916
дело, расколовшее значительную часть российской интеллигенции на сторонников оправдания или осуждения Бейлиса, в семействе Булгаковых было… У нас все жаждут (конечно, в шутку) познакомиться с Верой Чеберяк… Т. Н. Лаппа вспоминала, что в момент объявления оправдательного приговора по делу Бейлиса, когда собравшаяся у здания…Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 1.
Детство и юность.1891—1916
 бесконечно рада, что могу снова с ними говорить, спорить, что тут воскресают старые вопросы, которые надо выяснять, в новом ярком освещении». В записи же от 28 декабря того же года она перечисляет темы своих споров с Михаилом: «Теперь мне надо разобраться во всем, да нет времени: гений, эгоизм, талантливость, самомнение, наука, ложные интересы, права на эгоизм, широта мировоззрения и мелочность, вернее узость, над чем работать, что читать, чего хотеть, цель жизни, свобода человеческой личности, дерзнуть или застыть, прежние идеалы или отрешение от них, непротивление злу — сиречь юродивость, или свобода делания хотя бы зла во имя талантливости, эрудиция и неразвитость, мошенничество или ошибка...» А вот как передает она особенности бул-гаковской позиции: «Миша недавно в разговоре поразил меня широтой и глубиной своего выработанного мировоззрения — он в первый раз так разоткровенничался, — своей эрудицией, не оригинальностью взглядов, — многое из того, что он говорил, дойдя собственным умом, для меня было довольно старо, — но оригинальностью всей их компоновки и определенностью мировоззрения». По мнению Надежды Афанасьевны, у брата, в отличие от нее, отсутствовала «широкая, такая с некоторых точек зрения преступная терпимость к чужим мнениям и верованиям», поскольку «у Миши есть вера в свою правоту или желание этой веры, а отсюда невозможность или нежелание понять окончательно другого и отнестись терпимо к его мнению. Необузданная сатанинская гордость, развивавшаяся в мыслях все в одном направлении за папиросой у себя в углу, за односторонним подбором книг, гордость, поднимаемая сознанием собственной недюжинности, отвращение к обычному строю жизни — мещанскому — и отсюда „права на эгоизм" и вместе рядом такая привязанность к жизненному внешнему комфорту, любовь, сознательная и оправданная самим, к тому, что для меня давно утратило свою силу и перестало интересовать. Если бы я нашла в себе силы позволить себе дойти до конца своих мыслей, не прикрываясь другими и всосанным нежеланием открыться перед чужим мнением, то вышло бы, я думаю, нечто похожее на
бесконечно рада, что могу снова с ними говорить, спорить, что тут воскресают старые вопросы, которые надо выяснять, в новом ярком освещении». В записи же от 28 декабря того же года она перечисляет темы своих споров с Михаилом: «Теперь мне надо разобраться во всем, да нет времени: гений, эгоизм, талантливость, самомнение, наука, ложные интересы, права на эгоизм, широта мировоззрения и мелочность, вернее узость, над чем работать, что читать, чего хотеть, цель жизни, свобода человеческой личности, дерзнуть или застыть, прежние идеалы или отрешение от них, непротивление злу — сиречь юродивость, или свобода делания хотя бы зла во имя талантливости, эрудиция и неразвитость, мошенничество или ошибка...» А вот как передает она особенности бул-гаковской позиции: «Миша недавно в разговоре поразил меня широтой и глубиной своего выработанного мировоззрения — он в первый раз так разоткровенничался, — своей эрудицией, не оригинальностью взглядов, — многое из того, что он говорил, дойдя собственным умом, для меня было довольно старо, — но оригинальностью всей их компоновки и определенностью мировоззрения». По мнению Надежды Афанасьевны, у брата, в отличие от нее, отсутствовала «широкая, такая с некоторых точек зрения преступная терпимость к чужим мнениям и верованиям», поскольку «у Миши есть вера в свою правоту или желание этой веры, а отсюда невозможность или нежелание понять окончательно другого и отнестись терпимо к его мнению. Необузданная сатанинская гордость, развивавшаяся в мыслях все в одном направлении за папиросой у себя в углу, за односторонним подбором книг, гордость, поднимаемая сознанием собственной недюжинности, отвращение к обычному строю жизни — мещанскому — и отсюда „права на эгоизм" и вместе рядом такая привязанность к жизненному внешнему комфорту, любовь, сознательная и оправданная самим, к тому, что для меня давно утратило свою силу и перестало интересовать. Если бы я нашла в себе силы позволить себе дойти до конца своих мыслей, не прикрываясь другими и всосанным нежеланием открыться перед чужим мнением, то вышло бы, я думаю, нечто похожее на
Мишу по „дерзновению", противоположное в некоторых пунктах и очень сходное во многом; но не могу: не чувствую за собой силы и права, что главней всего. И безумно хочется приобрести это право, и его я начну добиваться».
Эгоизм, демонстративно обозначенный Булгаковым в разговоре с сестрой, приводил его к отчуждению с другими членами семьи. Надежда Афанасьевна признавалась: «И конечно, если выбирать людей, с которыми у меня могло бы быть понимание серьезное, то первый, кому я должна протянуть руку, — это Миша. Но он меня не понимает, и я не хочу идти к нему, да пока и не чувствую потребности, гордость обуяла... Правда, Миша откровенней всех со мною, но все равно... Миша стал терпимее к маме — дай Бог. Но принять его эгоизма я не могу, может быть, не смею, не чувствую за собою прав. А выйдет ли из меня что-нибудь — Бог весть?.. Во всяком случае я начну действовать, но опять-таки не могу, как Миша, в ожидании заняться только самим собой, не чувствую за собою прав...»
Из всех братьев и сестер Надя тогда была для Михаила самым близким человеком. Наверное, ни с кем больше он не был так откровенен, даже в дневнике 20-х годов, чудом дошедшем до нас, не говоря уж о письмах, писавшихся в специфических советских условиях. И брат для Нади, по крайней мере тогда, в 1910-е годы, оставался самым большим авторитетом. 8 января 1913 года она записала: «В Москве пока нет у меня таких людей, да таких, как Миша и Саша, не будет, т. к. они недюжинны».
В спорах Булгакова с сестрой звучит вечный вопрос, поставленный Достоевским: «Тварь я последняя или право имею?» В начале XX столетия этот вопрос вновь будоражил ум и сердце русской молодежи в связи с растущей популярностью сочинений Ницше. В позднейшем примечании к записи от 8 января 1913 года Надежда Афанасьевна так и указала: «Тогда Ницше читали и толковали о нем; Ницше поразил воображение неокрепшей молодежи». Булгаков воспринял атеизм Ницше, сестра же не решалась отринуть веру, хотя ее терзали все расту-
Борис Соколов. ТРИЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА1.
Детство и юность.1891—1916
 щие сомнения. Это мешало ей принять ницшеанство целиком, она не была убеждена в своем «праве». Михаил, напротив, казалось, бесповоротно уверовал в свою исключительность и великое (без сомнения, тогда уже точно — писательское) предназначение. Льва Толстого как художника он ценил очень высоко, но решительно не принимал Толстого-проповедника, с порога отвергал «непротивление злу насилием», называя учение это характерным словечком «юродивость». Будущий писатель явно предпочитал «делание хотя бы зла во имя талантливости». Эгоизм, питавшийся «необузданной сатанинской гордостью», в чисто бытовом плане нередко причинял ему неприятности, вроде нараставшего отчуждения с матерью, еще чаще — приносил огорчения близким — той же матери, братьям, сестрам, двум первым женам, которых он оставил. Правда, в случае с матерью были и привходящие обстоятельства. Варвара Михайловна, как мы помним, долго противилась его браку с Тасей. Михаил же очень болезненно воспринимал роман матери с врачом-педиатром И. П. Воскресенским, давним другом дома. Как вспоминала Т. Н. Лаппа, уже в 1911 году Булгаков «все возмущался, что Варвара Михайловна с Воскресенским... Он каждую субботу приезжал в Бучу, а если они были в Киеве, приходил все время, поздно возвращался. Даже ночевать оставался где-то там... отдельно... не знаю, Михаила это очень раздражало... Он выходил из себя. Конечно, дети не любят, когда у матери какая-то другая привязанность. Или они уходили гулять куда-то там на даче, он говорит: „Что это такое, парочка какая пошла". Переживал. Он прямо говорил мне: „Я просто поражаюсь, что мама затеяла роман с доктором". Очень был недоволен».
щие сомнения. Это мешало ей принять ницшеанство целиком, она не была убеждена в своем «праве». Михаил, напротив, казалось, бесповоротно уверовал в свою исключительность и великое (без сомнения, тогда уже точно — писательское) предназначение. Льва Толстого как художника он ценил очень высоко, но решительно не принимал Толстого-проповедника, с порога отвергал «непротивление злу насилием», называя учение это характерным словечком «юродивость». Будущий писатель явно предпочитал «делание хотя бы зла во имя талантливости». Эгоизм, питавшийся «необузданной сатанинской гордостью», в чисто бытовом плане нередко причинял ему неприятности, вроде нараставшего отчуждения с матерью, еще чаще — приносил огорчения близким — той же матери, братьям, сестрам, двум первым женам, которых он оставил. Правда, в случае с матерью были и привходящие обстоятельства. Варвара Михайловна, как мы помним, долго противилась его браку с Тасей. Михаил же очень болезненно воспринимал роман матери с врачом-педиатром И. П. Воскресенским, давним другом дома. Как вспоминала Т. Н. Лаппа, уже в 1911 году Булгаков «все возмущался, что Варвара Михайловна с Воскресенским... Он каждую субботу приезжал в Бучу, а если они были в Киеве, приходил все время, поздно возвращался. Даже ночевать оставался где-то там... отдельно... не знаю, Михаила это очень раздражало... Он выходил из себя. Конечно, дети не любят, когда у матери какая-то другая привязанность. Или они уходили гулять куда-то там на даче, он говорит: „Что это такое, парочка какая пошла". Переживал. Он прямо говорил мне: „Я просто поражаюсь, что мама затеяла роман с доктором". Очень был недоволен».
Неприязнь к этому роману Булгаков сохранил навсегда. Судя по всему, здесь его позиция не претерпела существенных изменений. Надежда Афанасьевна и в 1960 году, очевидно с учетом позднейшего общения с братом, в комментарии к цитированной записи категорически утверждала: «У Миши терпимости не было». Однако совсем не стоит сводить булгаковский эгоизм к примитивному себялюбию. Та же Н. А. Земская по поводу лозун-
га, выдвинутого братом: «Пусть девизом всего будет „выеденное яйцо", писала: «Мишины слова: протест против придавания большого значения мелочам жизни, быта». Булгаков не только сознавал свою исключительность, но и утверждением своего «я» протестовал против, как он полагал, «мещанской» окружающей среды, где гений не может проявить себя. При этом он простодушно не замечал, как и всякий, в ком есть толика эгоизма (а таких — большинство в человечестве), что его собственное стремление к комфорту, «мечты о «лампе и тишине», зафиксированные в записи Н. А. Земской 8 января 1913 года*, приходят в очевидное окружающим противоречие с призывами не обращать внимание на мелочи быта.
Девичий дневник Надежды Афанасьевны раскрывает нам человека ищущего, испытывающего острое душевное беспокойство, в отличие от брата, который, если судить по ее записям, к тому времени укрепился в атеизме и эгоизме, хотя, как показали дальнейшие события, и не слишком прочно. Надя же, несмотря на искушения, сохраняла тогда приверженность к христианству. В ее мировоззрении проблемы веры и неверия играли значительно большую роль, чем у Михаила. Разговоры с ним заставили Надю задуматься еще раз над «проклятыми» вопросами. В 1960 году Надежда Афанасьевна так вспоминала о своем тогдашнем смятении: «Брат задел в сестре ряд глубоких вопросов, упрекая ее в том, что она не думает над ними и не решает их... взбудоражил ее упреками в застое». Под влиянием споров с Михаилом Надя встретилась, как она признавалась, «с одним из интереснейших людей, которых я когда-либо видела, моей давнишней инстинктивной симпатией — Василием
 * В I960 году Надежда Афанасьевна так прокомментировала это место: «В шуме исуете нашей квартиры ему не хватало тишины и одиночества, возможностибез помех сидеть подолгу за своими размышлениями у письменногостола при свете настольной лампы». Быть может, уже тогда у Булгакова быласильная тяга к литературному творчеству, и он мучительнопереживал отсутствие необходимых для этого условий: тишины и возможностиуединиться. Отсюда высшая награда Мастеру в «закатном» романе — покой.
* В I960 году Надежда Афанасьевна так прокомментировала это место: «В шуме исуете нашей квартиры ему не хватало тишины и одиночества, возможностибез помех сидеть подолгу за своими размышлениями у письменногостола при свете настольной лампы». Быть может, уже тогда у Булгакова быласильная тяга к литературному творчеству, и он мучительнопереживал отсутствие необходимых для этого условий: тишины и возможностиуединиться. Отсюда высшая награда Мастеру в «закатном» романе — покой.
()() Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 1.
Детство и юность. /Z 1
Й91—1916 О1
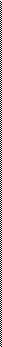 Ивановичом Экземплярским». Экземплярский — старинный друг семьи Булгаковых, бессменный секретарь Киевского религиозно-философского общества, одним из основателей которого стал А. И. Булгаков*. Василий Иванович занимал должность профессора кафедры нравственного богословия в Киевской духовной академии. Его оттуда изгнали в 1911 году за статью о Льве Толстом. В той статье Экземплярский утверждал, что прошедшая через толстовское сознание «часть истины» «уже с первых веков христианства заключена в творениях великих провозвестников церковного учения». Сам же Толстой для Василия Ивановича выступил «как живой укор нашему христианскому быту и будитель христианской совести». В 1917 году Экземплярского восстановили в Академии, и вскоре после октябрьского переворота он прочел в Киевском религиозно-просветительском обществе доклад «Старчество». Неизвестно, знали ли этот текст брат и сестра Булгаковы, но мысли Экземплярского очень созвучны их спорам. Богослов утверждал: «...С точки зрения христианского идеала, все главные устои древнего мира должны были быть осуждены. Так, например, чужд евангельскому духу был весь тогдашний строй государственной жизни, как, впрочем, таким он остается и до наших дней. Евангелие со своим заветом непротивления злу, проповедью вселенской любви, запрещением клятвы, убийства, со своим осуждением богатства и т. д. — все эти заветы, если бы были даже осуществлены в жизни, должны были повести к крушению империи. Без армии, без узаконенного принуждения в государственной жизни, без штыков, без судов, без забот о завтрашнем дне государство не может и дня просуществовать. Не менее велик был разлад и между Евангелием и человеческим сердцем самого доброго язычника. Все отдать, всем пожертвовать, возненавидеть свою жизнь в мире, распяться со Христом, отказаться от всей почти культуры, созданной веками, — все это было неиз-
Ивановичом Экземплярским». Экземплярский — старинный друг семьи Булгаковых, бессменный секретарь Киевского религиозно-философского общества, одним из основателей которого стал А. И. Булгаков*. Василий Иванович занимал должность профессора кафедры нравственного богословия в Киевской духовной академии. Его оттуда изгнали в 1911 году за статью о Льве Толстом. В той статье Экземплярский утверждал, что прошедшая через толстовское сознание «часть истины» «уже с первых веков христианства заключена в творениях великих провозвестников церковного учения». Сам же Толстой для Василия Ивановича выступил «как живой укор нашему христианскому быту и будитель христианской совести». В 1917 году Экземплярского восстановили в Академии, и вскоре после октябрьского переворота он прочел в Киевском религиозно-просветительском обществе доклад «Старчество». Неизвестно, знали ли этот текст брат и сестра Булгаковы, но мысли Экземплярского очень созвучны их спорам. Богослов утверждал: «...С точки зрения христианского идеала, все главные устои древнего мира должны были быть осуждены. Так, например, чужд евангельскому духу был весь тогдашний строй государственной жизни, как, впрочем, таким он остается и до наших дней. Евангелие со своим заветом непротивления злу, проповедью вселенской любви, запрещением клятвы, убийства, со своим осуждением богатства и т. д. — все эти заветы, если бы были даже осуществлены в жизни, должны были повести к крушению империи. Без армии, без узаконенного принуждения в государственной жизни, без штыков, без судов, без забот о завтрашнем дне государство не может и дня просуществовать. Не менее велик был разлад и между Евангелием и человеческим сердцем самого доброго язычника. Все отдать, всем пожертвовать, возненавидеть свою жизнь в мире, распяться со Христом, отказаться от всей почти культуры, созданной веками, — все это было неиз-
 * Экземплярский дружил с о. Александром Глаголевым, крестившим Михаила.
* Экземплярский дружил с о. Александром Глаголевым, крестившим Михаила.
меримо труднее, чем поклониться новому Богу, все это должно было казаться безумием, а не светом жизни. Здесь источник такого отношения к евангельскому идеалу жизни в истории христианского общества, когда евангельский идеал был сознательно или бессознательно отнесен в бесконечную высь неба, а от новой религии потребовала жизнь самого решительного компромисса, вплоть до освящения всех почти форм языческого быта, совершенно независимо от их соответствия духу и букве Евангелия».
Мысли Экземплярского были явно близки Наде. Первые десятилетия XX века в русской церковной жизни во многом напоминали первые века победившего в Римской империи христианства. Напоминали растущим разладом между христианским идеалом и жизнью церковных иерархов, превращением православной церкви в бюрократический придаток государства, против чего восставали истинно верующие, с чем призывали бороться такие разные по своим взглядам деятели религиозного возрождения начала века, как С. Н. Булгаков и Н. А. Бердяев, П. А. Флоренский и В. И. Экземплярский. Не исключено, что именно благодаря сестре будущий автор «Мастера и Маргариты» познакомился со «Старчеством». Во всяком случае, в последнем булгаковском романе есть поразительные переклички с мыслями Экземплярского. Богослов принимал те части толстовского учения, которые не противоречили православию, в том числе идеи «заражения добром», изначально доброй сущности всех людей и непротивления злу. У Булгакова же проповедь Иешуа о добрых людях лишь приводит Пилата сперва к казни проповедника, а затем к убийству доносчика Иуды. У Толстого в «Войне и мире» маршал Даву, в какой-то момент почувствовав в Пьере такого же человека, как и он сам, испытав невольное сочувствие к арестанту, избавляет его от расстрела. В «Мастере и Маргарите» Пилат тоже проникается симпатией к Иешуа, что не мешает ему, однако, отправить Га-Ноцри на казнь. У Булгакова, как и у Экземплярского, Иешуа принимают за безумца, а не носителя света жизни. Автор «Старчества» прославлял тех, кто обретал евангельский идеал в
In - ifi im n> 111 mn mi и i mill imi iMMMPWnnitliiii rrr ' - ' i
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 1.
Детство и юность. 1891—1916
монашестве, кто удалился в пустыни, «презрел мир до конца и всю свою жизнь посвятил исканию Царства Божия и правды Его на земле». Булгаковский Левий… Экземплярский в 20-е годы выступал непримиримым противником обновленческой… * Любопытно, чтоЭкземплярский в 1915 году опубликовал книгу «Евангелие И. Христаперед судом Ницше».ГЛАВА 2. Земский врач Михаил Булгаков.
1916—1918
должалось у Булгакова недолго. По крайней мере, в письме к Н. А. Земской от 1—13 ноября 1940 года (Надежда Афанасьевна спешила собрать все сведения о недавно умершем брате, думала писать воспоминания или биографию), А. П. Гдешинский таким образом суммировал содержание несохранившихся булгаковских писем: «Это село Никольское под Сычевкой представляло собой дикую глушь и по местоположению, и по окружающей бытовой обстановке, и всеобщей народной темноте. Кажется, единственным представителем интеллигенции был лишь священник... Больничные дела были поставлены вроде как в чеховской палате № 6 ... Огромное распространение сифилиса. Помню, Миша рассказывал об усилиях по открытию венерических отделений в этих местах». Темнота и невежество пациентов, несомненно, производили на Булгакова тягостное впечатление, а вот насчет «палаты № 6» Александр Петрович, наверное, двадцать с лишним лет спустя что-то напутал. Может быть, он воспринял стереотип советской пропаганды, что в дореволюционной России все было плохо, хуже, чем при Советах. На самом деле о том, что медицинское обеспечение в Никольском было на высоком уровне, пишет не только сам Булгаков в «Записках юного врача», но и авторитетно подтверждает Татьяна Николаевна, которой перед Великой Отечественной войной пришлось работать медсестрой в Черемховской городской больнице, и тут оснащенность больницы медикаментами и инструментами была гораздо хуже, чем больницы в Никольском.
В выданном Булгакову 18 сентября 1917 года по случаю откомандирования в Вязьму удостоверения отмечалось, что за время службы в Никольском он «зарекомендовал себя энергичным и неутомимым работником на земском поприще». За период с 29 сентября 1916 года по 18 сентября 1917 года Михаил Афанасьевич принял амбулаторных больных 15 361 человека, а на стационарном лечении пользовал 211 человек. Получается, что в день без учета стационарных больных у Булгакова было около 50 посещений. Это исключая выходные и праздники, а также те дни, когда Булгаков уезжал за пределы
Сычевского уезда. Нагрузка колоссальная, вряд ли ведомая современным врачам. В рассказе «Вьюга» Булгаков пишет даже о сотне больных в день, и, возможно, это не поэтическое преувеличение, а отражение суровой реальности наиболее горячих дней. В упомянутом удостоверении перечислены и все произведенные молодым врачом операции: «ампутация бедра 1, отнятие пальцев на ногах
3, выскабливание матки 18, обрезание крайней плоти
4, акушерские щипцы 2, поворот на ножку 3, ручное удале
ние последа 1, удаление атеромы и липомы 2 и трахеото
мий 1; кроме того, производилось: зашивание ран,
вскрытие абсцессов и нагноившихся атером, проколы
живота (2), вправление вывихов; один раз производилось
под хлороформенным наркозом удаление осколков раз
дробленных ребер после огнестрельного ранения». Мно
гие из этих операций Булгаков запечатлел позднее в рас
сказах: поворот на ножку — в «Крещении поворотом»,
ампутацию бедра — в «Полотенце с петухом», трахеото
мию — в «Стальном горле», а удаление осколков раз
дробленных ребер после огнестрельного ранения — в
«Пропавшем глазе».
Круг общения Булгакова в Никольском был невелик. Кроме жены и персонала больницы, он знался с обитателями соседней помещичьей усадьбы Муравишники, находившейся в полутора верстах от Никольской больницы. Сын владельца усадьбы и имения Василия Осиповича Герасимова Михаил Васильевич состоял в то время председателем Сычевскои уездной управы и наверняка лично знал Михаила Афанасьевича. С вдовой же В. О. Герасимова у Булгакова, возможно, даже завязалось какое-то подобие романа. Т. Н. Лаппа вспоминала об этом: «Напротив больницы стоял полуразвалившийся помещичий дом. В доме жила разорившаяся помещица, еще довольно молодая вдова. Михаил слегка ухаживал за ней...» Татьяна Николаевна утверждала также, что никаких развлечений в Никольском не было, и досуг поэтому был скуден: «Я ходила иногда в Муравишники — рядом село было (село, в отличие от усадьбы, на самом деле называлось Муравишниково. — Б. С), там один священник с дочкой жил. Ездили иногда в Воскресенское —
 72 Б°РИС Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
72 Б°РИС Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
большое село, но далеко. В магазин ездили, продукты покупать. А то тут только лавочка какая-то была. Даже хлеб приходилось самим печь... Очень, знаете, тоскливо было».
Как кажется, в Никольском Булгаков мог ухаживать не только за вдовой-помещицей. В письме Н. А. Земской от 1—13 ноября 1940 года А. П. Гдешинский вспоминал, что в несохранившихся письмах Михаила было «упоминание о какой-то Аннушке — больничной сестре, кажется, которая очень тепло к нему относилась и скрашивала жизнь». Интересно, что в имеющем явную автобиографическую основу рассказе «Морфий» в качестве возлюбленной главного героя — врача-морфиниста — фигурирует медсестра Анна. Конечно, в этом образе отразились и какие-то черты Т. Н. Лаппа, но, скорее всего, прототипом этой медсестры послужила терапевтическая сестра Степанида Андреевна Лебедева, позднее вышедшая замуж за фельдшера А. И. Иванова. Может быть, именно это обстоятельство побудило Булгакова дать фамилию Иванов несимпатичному ассистенту Персикова в «Роковых яйцах». По воспоминаниям Т. Н. Лаппа, именно С. А. Лебедева делала Булгакову уколы морфия. Булгаковы имели еще домашнюю прислугу Анну Ивановну, но это была женщина с ребенком. О ней речи не могло идти. Вторая же сестра, Агния Николаевна Лобачевская, по словам Т. Н. Лаппа, — «немолодая, но довольно симпатичная, деловая». Сегодня уже трудно сказать однозначно, кто из них стал объектом булгаков-ского ухаживания. Думается, учитывая рассказанное в «Морфии», главным прототипом героини все-таки была С. А. Лебедева, и «Аннушка» — уменьшительное от имени Степанида.
Увлечения Булгакова пока не отражались на прочности его брака. Но случилось несчастье: Михаил пристрастился к морфию. Т. Н. Лаппа рассказывала: «Привезли ребенка с дифтеритом, и Михаил стал делать трахеотомию. Знаете, горло так надрезается? Фельдшер ему помогал, держал там что-то. Вдруг ему стало дурно. Он говорит: «Я сейчас упаду, Михаил Афанасьевич». Хорошо, Степанида перехватила, что он там держал, и он тут
ГЛАВА 2. Земский врач Михаил Булгаков. 1916—1918
же грохнулся. Ну, уж не знаю, как они там выкрутились, а потом Михаил стал пленки из горла отсасывать и говорит: «Знаешь, мне, кажется, пленка в рот попала. Надо сделать прививку». Я его предупреждала: «Смотри, у тебя губы распухнут, лицо распухнет, зуд будет страшный в руках и ногах». Но он все равно: «Я сделаю». И через некоторое время началось: лицо распухает, тело сыпью покрывается, зуд безумный. Безумный зуд. А потом страшные боли в ногах. Это я два раза испытала. И он, конечно, не мог выносить. Сейчас же: «Зови Степаниду». Я пошла туда, где они живут, говорю, что «он просит вас, чтобы вы пришли». Она приходит. Он: «Сейчас же мне принесите, пожалуйста, шприц и морфий». Она принесла морфий, впрыснула ему. Он сразу успокоился и заснул. И ему это очень понравилось. Через некоторое время, как у него неважное состояние было, он опять вызвал фельдшерицу. Она же не может возражать, он же врач... Опять впрыскивает. Но принесла очень мало морфия. Он опять... Вот так это и началось». Вспомним эпилог «Мастера и Маргариты», где Иван Бездомный, превратившийся в профессора Поны-рева, в ночь весеннего полнолуния впадает в болезненное состояние, снимаемое лишь уколом морфия, и в наркотическом сне вновь видит Иешуа и Пилата, Мастера и Маргариту, в связи с чем, как один из вариантов объяснения, все происходящее в романе может быть представлено как наркотическая галлюцинация. Подобные галлюцинации в гофманском стиле посещают и главного героя рассказа (или небольшой повести) «Морфий».
Случай с трахеотомией произошел вскоре после февральской революции и предпринятой сразу после нее поездки в Саратов. Как отмечала Татьяна Николаевна, вскоре после прибытия в Никольское Булгакову дали отпуск. Они поехали через Москву в Саратов, причем Михаил сначала должен был заглянуть в Киев. Там он 7 марта 1917 года забрал диплом. Скорее всего, о февральской революции они узнали еще в Никольском или по приезде в Москву. Вероятно, именно это и побудило Булгакова взять документы из канцелярии университета. Татьяна Николаевна следующими словами суммирует
^P"0 Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 2.
Земский врач Михаил Булгаков.1916—1918
саратовские впечатления о революции: «...Беспокойно было, всюду толпы, погоны с себя срывают». В Никольском же по возвращении особых перемен не заметила: «Мужики как были темными, так и остались. Только прислуга наша говорит мне: «Теперь все равны, так что я не буду называть вас «барыней», а буду звать «Татьяна Николаевна» (в другой раз, описывая послереволюционные дни, Т. Н. Лаппа относила этот эпизод к саратовской прислуге, что представляется более правдоподобным: вряд ли в глухом Никольском прислуга могла так быстро «революционизироваться»).
После февральской революции положение в стране быстро ухудшалось. Начались трудности с продовольствием, росло, особенно с лета 1917 года, дезертирство с фронта. Возвращавшиеся с передовой приносили в тыл венерические болезни. Не миновала эта участь и Сычев-ский уезд. Н. А. Земская позднее записала в своем дневнике, что «в деревне брат столкнулся с сифилисом и другими венерическими болезнями, поскольку фронт валом валил в тыл, в деревню хлынули свои и приезжие солдаты. При общей некультурности быта это принимало катастрофические размеры. Кончая университет, М. А. выбрал специальностью детские болезни (характерно для него), но волей-неволей пришлось обратить внимание на венерологию. М. А. хлопотал об открытии венерологических пунктов в уезде, о принятии профилактических мер. В Киев в 1918 году он приехал уже венерологом».
А. П. Гдешинский вспоминал, что Булгаков писал ему об ухудшении отношения со стороны местных жителей: «Миша очень сетовал на кулацкую, черствую натуру туземных жителей, которые, пользуясь неоценимой помощью его как врача, отказали в продаже полуфунта масла, когда заболела жена ... или в таком духе». Здесь можно усмотреть намек на наступившие трудности с продовольствием и на полунатуральный характер крестьянского хозяйства, когда потребность в деньгах у жителей Никольского была невелика. Опыт общения с русскими мужиками привел к тому, что в «Записках юного врача» и «Белой гвардии» писатель не стал идеализировать рус-
ский народ или поэтизировать «крепкого хозяина» (хотя слова о «кулацкой натуре» у А. П. Гдешинского могли быть следом пропаганды эпохи коллективизации), а в других рассказах и фельетонах 20-х годов высмеивал новых богачей — нэпманов и тех, кто был сыт в эпоху «военного коммунизма» и не делился с голодающими ближними (вспомним главку «О том, как нужно есть» в «Записках на манжетах»).
Летом 1917 года к Булгаковым в Никольское приехала мать Таси Е. В. Лаппа с сыновьями Николаем и Владимиром. Старший сын Евгений, учившийся в военном училище в Петрограде, только что отправился на фронт. Как раз когда Тасины родственники гостили у Булгаковых, в Никольское из Саратова пришло письмо от отца о гибели сына в первом же бою (очевидно, в ходе неудавшегося июньского наступления Юго-Западного фронта). Евгения Владимировна уехала сразу же, за ней — братья. Перед отъездом она обратила внимание дочери на болезненное состояние супруга, спросила: «Что это с Михаилом?», но Тася скрыла от матери страшную правду о пристрастии мужа к морфию.
Между прочим, Татьяна Николаевна считала, что именно наркомания Михаила стала одной из причин отсутствия у них детей. Впрочем, отношение к детям у Михаила, по ее словам, было сложное: «Он любил чужих детей, не своих. Потом, у меня никогда не было желания иметь детей. Потому что жизнь такая. Ну, что б я стала делать, если б у меня ребенок был? А потом, он же был больной морфинист. Что за ребенок был бы?» Вероятно, нелюбовь к своим детям и любовь к чужим были в характере Михаила Афанасьевича. Он так и не имел своих детей и не пытался их завести даже в относительно благоприятные периоды своей жизни, например, в середине 20-х годов, ни в одном из трех браков, зато нежно любил пасынка — сына Е. С. Булгаковой Сергея от брака с Е. А. Шиловским. Скорее всего, нежелание Булгакова иметь детей также негативно сказалось на прочности двух его первых браков, а третий брак укрепило то обстоятельство, что с ними жил младший сын Елены Сергеевны. Все-таки полноценная семья, как подчерки-
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА2. Земский врач Михаил Булгаков. 1916—1918

 вал в свое время философ о. Павел Флоренский (мы еще встретимся с ним на страницах этой книги), состоит не из двух, а по меньшей мере из трех человек.
вал в свое время философ о. Павел Флоренский (мы еще встретимся с ним на страницах этой книги), состоит не из двух, а по меньшей мере из трех человек.
Наркомания Булгакова доставила Татьяне Николаевне немало тяжелых минут. Она вспоминала, что когда пробовала отказаться доставлять мужу морфий, он угрожал ей оружием (браунинг Булгакову был положен как сельскому врачу), а однажды чуть не убил, запустив зажженной керосинкой. Персонал Никольской больницы начал догадываться о болезненном пристрастии доктора. Первой заподозрила неладное делавшая Булгакову уколы С. А. Лебедева. Болезнь быстро прогрессировала, по свидетельству Т. Н. Лаппа, к концу своего пребывания в Никольском Михаил Афанасьевич нуждался уже в двух уколах морфия в день. Теперь нередко ему самому приходилось доставать наркотик. Боязнь, что недуг станетлзвестен окружающим, а через них — и земскому начальству, по словам Татьяны Николаевны, послужила главной причиной усилий Булгакова добиться скорейшего перевода из Никольского. Жена надеялась, что переезд из деревенской глуши в город поможет мужу побороть недуг. Вот как описывала она события, связанные с переводом в Вязьму: «Потом он сам уже начал доставать (морфий. — Б. С), ездил куда-то. И остальные уже заметили. Он видит, здесь уже больше оставаться нельзя. Надо сматываться отсюда. Он пошел — его не отпускают. Он говорит: «Я не могу там больше, я болен», — и все такое. А тут как раз в Вязьме врач требовался, и его перевели туда». 20 сентября 1917 года будущий писатель приступил к работе в Вяземской городской земской больнице.
Очевидно, морфинизм Булгакова не был только следствием несчастного случая с трахеотомией. Причины лежат глубже и связаны с беспросветностью жизни в Никольском. Михаил, привыкший к городским развлечениям и удобствам, наверняка тяжело и болезненно переносил вынужденный сельский быт, да еще в такой глуши, как Никольское (не случайно позднее он стал едва ли не самым урбанистским из русских писателей). Наркотик давал забытье, иллюзию отключения от действительно-
сти, рождал сладкие грезы, которых так не хватало в жизни. Булгаков надеялся, что в уездном городе, Вязьме, многое будет иначе, но ошибся...
Вяземская больница включала в себя хирургическое, родильное, инфекционное и венерическое отделения. Булгаков получил должность второго врача и заведование инфекционным и венерическим отделениями. Всего в больнице в 1916 году было 67 коек, в том числе в инфекционном отделении — 12 и в венерическом — 18. Заведовал больницей Б. Л. Нурок, кроме него и Булгакова, был еще один врач Н. Н. Тихомиров, а также фельдшер и фельдшерица-акушерка. Больница обслуживала территорию Вязьмы и окрестных волостей общей площадью в 420 квадратных верст с 27 тысячами населения (до 1914 года). Во время войны население Вязьмы увеличилось за счет беженцев, но все равно нагрузка здесь была значительно меньше, чем в Никольском, где на единственного врача приходилось в полтора раза больше жителей, чем в Вязьме — на трех врачей.
Вяземская больница находилась на северной окраине города на Московской улице, недалеко от вокзала Московско-Брестской железной дороги. Квартира второго врача, где должны были жить Булгаковы, располагалась в одноэтажном деревянном амбулаторном корпусе больницы. В ней было три комнаты. Однако Т. Н. Лаппа утверждала, что жили они не там, а довольно далеко от больницы: «Две комнаты у нас было: столовая и спальня. Там еще одна комната была, ее какая-то посторонняя женщина занимала (может быть, фельдшерица или медсестра.— Б. С.)».
В Вязьме главной проблемой для Булгакова оставался морфинизм. Надежды, что здесь будет не так тоскливо, как в Никольском, судя по всему, не оправдались. Это оказался, по словам Татьяны Николаевны, «такой захолустный город». И первый же день здесь начался с поисков наркотика. Т. Н. Лаппа рассказывала: «Как только проснулись — «иди ищи аптеку». Я пошла, нашла аптеку, приношу ему. Кончилось это — опять надо. Очень быстро он его использовал. Ну, печать у него есть — «иди в другую аптеку, ищи». И вот я в Вязьме там искала
 Б°РИС Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
Б°РИС Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 2. Земский врач Михаил Булгаков.1916—1918
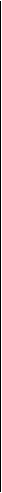 где-то на краю города еще аптека какая-то. Чуть ли не три часа ходила. А он прямо на улице стоит, меня ждет. Он тогда такой страшный был... Вот, помните, его снимок перед смертью? Вот такое у него лицо было. Такой он был жалкий, такой несчастный. И одно меня просил: «Ты только не отдавай меня в больницу». Господи, сколько я его уговаривала, увещевала, развлекала... Хотела все бросить и уехать. Но как посмотрю на него, какой он — как же я его оставлю? Кому он нужен? Да, это ужасная полоса была».
где-то на краю города еще аптека какая-то. Чуть ли не три часа ходила. А он прямо на улице стоит, меня ждет. Он тогда такой страшный был... Вот, помните, его снимок перед смертью? Вот такое у него лицо было. Такой он был жалкий, такой несчастный. И одно меня просил: «Ты только не отдавай меня в больницу». Господи, сколько я его уговаривала, увещевала, развлекала... Хотела все бросить и уехать. Но как посмотрю на него, какой он — как же я его оставлю? Кому он нужен? Да, это ужасная полоса была».
Интеллигенции, с которой мог бы общаться Михаил Афанасьевич, в Вязьме почти не было, да и болезнь вряд ли располагала к общению. Не исключено, что Булгаков специально поселился не в больничной квартире второго врача, а подальше от места службы, чтобы после работы не быть на виду у коллег и легче скрывать болезнь. В рассказе «Морфий» доктор Бомгард в своем монологе передает булгаковское восприятие Вязьмы: «Что касается меня, то я, как выяснилось это теперь, был счастлив в 1917 году, зимой. Незабываемый, вьюжный, стремительный год! Начавшаяся вьюга подхватила меня, как клочок изорванной газеты, и перенесла с глухого участка в уездный город. Велика штука, подумаешь, уездный город?.. Уютнейшая вещь керосиновая лампа, но я за электричество! И вот, я увидел их вновь, наконец, обольстительные электрические лампочки! Главная улица городка, хорошо укатанная крестьянскими санями, улица, на которой, чаруя взор, висели — вывеска с сапогами, золотой крендель, красные флаги, изображение молодого человека со свиными и наглыми глазками и с абсолютно неестественной прической, означавшей, что за стеклянными дверями помещается местный Базиль, за 30 копеек бравшийся вас брить во всякое время, за исключением дней праздничных, коими изобилует отечество мое...
На перекрестке стоял живой милиционер, в запыленной витрине смутно виднелись железные листы с тесными рядами пирожных с рыжим кремом, сено устилало площадь, и шли, и ехали, и разговаривали, в будке торговали вчерашними московскими газетами, содержащими в
себе потрясающие известия, невдалеке призывно пересвистывались московские поезда. Словом, это была цивилизация, Вавилон, Невский проспект.
О больнице и говорить не приходится. В ней было хирургическое отделение, терапевтическое, заразное, акушерское. В больнице была операционная, в ней стоял автоклав, серебрились краны, столы раскрывали свои хитрые лапы, зубья, винты. В больнице был старший врач, три ординатора (кроме меня), фельдшера, акушерки, сиделки, аптека и лаборатория. Лаборатория, подумать только! С цейсовским микроскопом, прекрасным запахом красок».
Конечно, после Никольского Вязьма могла показаться Булгакову центром цивилизации, хотя не только до Москвы, но и до Киева ей было далеко. Теперь уже ему не приходилось выезжать по вызовам в волости. Этим в Вязьме занимался уездный врач М. Л. Нурок, брат главврача больницы. И устами Бомгарда Булгаков признается: «Тяжкое бремя соскользнуло с моей души. Я больше не нес на себе роковой ответственности за все, что бы ни случилось на свете... Я стал спать по ночам, потому что не слышалось более под моими окнами зловещего ночного стука, который мог поднять меня и увлечь в тьму на опасность и неизбежность».
Только вот между доктором Бомгардом и доктором Булгаковым есть одна принципиальная разница: литературный персонаж наркоманом не был, а автор «Морфия», к несчастью, — был. В рассказе герой, от лица которого ведется повествование, сам наркоманией не страдает. Морфинистом здесь сделан товарищ автора доктор Поляков, чей дневник после самоубийства читает доктор Бомгард. Булгаков распределил факты собственной биографии между двумя персонажами, может быть, чтобы замаскировать для читателей свое прошлое пристрастие. Возможно, будущий писатель действительно радовался благам цивилизации в Вязьме, но, очевидно, лишь в короткие периоды, когда не был одурманен наркотиком и не страдал от невозможности его принять. Две заботы довлели над ним: достать морфий и скрыть болезнь от окружающих. В письме в Москву Н. А. Зем-
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА2.
Земский врач Михаил Булгаков. О 7
1916—1918 О1
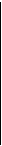
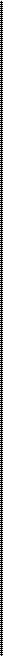 ской 3 октября 1917 года он спрашивал, «почем мужские ботинки (хорошие) в Москве» и просил выяснить в Тверском отделении Московского ломбарда судьбу заложенной там Тасиной золотой цепи под ссуду в 70 рублей. Срок выплаты по ссуде, включая льготные месяцы, истекал 6 сентября. Булгаков своевременно перевел деньги, прося билет с отметками о выплате отослать Н. М. Покровскому (жившему в Москве брату В. М. Булгаковой). Однако вплоть до начала октября о судьбе заложенной золотой цепи ничего не было известно, и Тася беспокоилась «об участи дорогой для нее вещи», подаренной матерью через полгода после свадьбы. По воспоминаниям Татьяны Николаевны, эту цепь в палец толщиной привез отец из-за границы. Заклад в конце концов благополучно выкупили, и цепь еще сослужила службу Булгаковым в трудную минуту их жизни на Кавказе. Скорее всего, ее заложили во время приезда в Москву в марте 1917 года 5-го или 6-го числа, поскольку заклад оформлялся на полгода. Деньги, вероятно, потребовались для поездки в Саратов и Киев.
ской 3 октября 1917 года он спрашивал, «почем мужские ботинки (хорошие) в Москве» и просил выяснить в Тверском отделении Московского ломбарда судьбу заложенной там Тасиной золотой цепи под ссуду в 70 рублей. Срок выплаты по ссуде, включая льготные месяцы, истекал 6 сентября. Булгаков своевременно перевел деньги, прося билет с отметками о выплате отослать Н. М. Покровскому (жившему в Москве брату В. М. Булгаковой). Однако вплоть до начала октября о судьбе заложенной золотой цепи ничего не было известно, и Тася беспокоилась «об участи дорогой для нее вещи», подаренной матерью через полгода после свадьбы. По воспоминаниям Татьяны Николаевны, эту цепь в палец толщиной привез отец из-за границы. Заклад в конце концов благополучно выкупили, и цепь еще сослужила службу Булгаковым в трудную минуту их жизни на Кавказе. Скорее всего, ее заложили во время приезда в Москву в марте 1917 года 5-го или 6-го числа, поскольку заклад оформлялся на полгода. Деньги, вероятно, потребовались для поездки в Саратов и Киев.
В том же письме сестре Булгаков сообщал, что «если удастся, я через месяц приблизительно постараюсь заехать на два дня в Москву, по более важным делам». Скорее всего, речь здесь шла о намерении освободиться от военной службы, чтобы покинуть работу в земстве и вернуться в Киев уже не обремененным службой человеком. Однако до этой поездки произошла Октябрьская революция. Через несколько дней после победы возглавленного большевиками восстания в Петрограде, 30 октября, Татьяна Николаевна писала Н. А. Земской: «Милая Надюша, напиши, пожалуйста, немедленно, что делается в Москве (там в эти дни шли бои между большевиками и сторонниками Временного правительства. — Б. С.). Мы живем в полной неизвестности, вот уже четыре дня ниоткуда не получаем никаких известий. Очень беспокоимся и состояние ужасное». Надя к тому времени уже уехала из Москвы к мужу в Царское Село, и письмо переслала ей приехавшая к Н. М. Покровскому сестра Варя. От нее или от дяди Коли Булгаковы и узнали о революции. Во время последующей поездки в Москву и Саратов Булга-
ков вынес довольно мрачные впечатления о пореволюционной России. 31 декабря 1917 года он писал Н. А. Земской: «В начале декабря я ездил в Москву по своим делам, и с чем приехал, с тем и уехал (речь идет о неудачной попытке демобилизоваться по состоянию здоровья. — Б. С). И вновь тяну лямку в Вязьме, вновь работаю в ненавистной мне атмосфере среди ненавистных мне людей. Мое окружающее настоящее настолько мне противно, что я живу в полном одиночестве. Зато у меня есть широкое поле для размышлений. И я размышляю. Единственным моим утешением является для меня работа и чтение по вечерам. Я с умилением читаю старых авторов (что попадется, т. к. книг здесь мало) и упиваюсь картинами старого времени. Ах, отчего я опоздал родиться! Отчего я не родился сто лет назад. Но, конечно, это исправить невозможно!
Мучительно тянет меня вон отсюда в Москву, или Киев, туда, где хоть и замирая, но все же еще идет жизнь. В особенности мне хотелось бы быть в Киеве! Через два часа придет новый год. Что принесет мне он? Я спал сейчас, и мне приснился Киев, знакомые и милые лица, приснилось, что играют на пианино...
Недавно в поездке в Москву и Саратов мне пришлось видеть воочию то, что больше я не хотел бы видеть.
Я видел, как толпы бьют стекла в поездах, видел, как бьют людей. Видел разрушенные и обгоревшие дома в Москве... Видел голодные хвосты у лавок, затравленных и жалких офицеров, видел газетные листки, где пишут в сущности об одном: о крови, которая льется и на юге, и на западе, и на востоке...»
Булгаков наблюдал только самое начало, но сколько еще крови прольется в гражданскую войну, в водоворот которой будет втянут и будущий писатель. Гораздо позднее, в 1929 году, в автобиографической неоконченной повести «Тайному другу» Булгаков будто заговорит словами из этого письма: «Мне приснился страшный сон» — Киев, но уже не дореволюционный, а времен гражданской войны.
Октябрьская революция национализацией банков сразу же подрубила под корень благосостояние Булгако-
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 2.
Земский врач Михаил Булгаков.
1916—1915



 ва, как и всего среднего класса в стране. В том же письме он с грустью сообщал: «Я в отчаянии, что из Киева нет известий. А еще в большем отчаянии я оттого, что не могу никак получить своих денег из Вяземского банка и послать маме. У меня начинает являться сильное подозрение, что 2000 р. ухнут в море русской революции. Ах, как пригодились бы мне эти две тысячи! Но не буду себя излишне расстраивать и вспоминать о них!..»
ва, как и всего среднего класса в стране. В том же письме он с грустью сообщал: «Я в отчаянии, что из Киева нет известий. А еще в большем отчаянии я оттого, что не могу никак получить своих денег из Вяземского банка и послать маме. У меня начинает являться сильное подозрение, что 2000 р. ухнут в море русской революции. Ах, как пригодились бы мне эти две тысячи! Но не буду себя излишне расстраивать и вспоминать о них!..»
Материальное положение Булгаковых еще больше осложнилось, так как, по свидетельству Т. Н. Лаппа, во время декабрьской поездки у Михаила Афанасьевича украли бумажник с 400 рублями, — очевидно, составлявшими его трехмесячное жалованье. Откуда же у Булгакова осенью 1917 года оказались в банке такие деньги (2000 рублей) не вполне ясно и сегодня. Все булгаковское жалованье, полученное с сентября 1916 года, составляло гораздо меньшую сумму. К тому же, как явствует из текста письма от 31 декабря, часть денег он посылал матери в Киев, а его заработок во время пребывания в военном госпитале весной и летом 1916 года явно не давал возможность делать какие-либо накопления, раз в первые месяцы пребывания в Смоленской губернии им пришлось даже закладывать золотую цепь. Не исключено, что дополнительным источником дохода молодого врача стала частная практика в области венерологии, а клиентами — всё прибывавшие беженцы и дезертиры. Именно как врач-венеролог Булгаков практиковал в дальнейшем в Киеве, и довольно успешно. Н. А. Земская сообщала мужу 6 декабря 1918 года: «В августе были сведения из Киева, что... Миша зарабатывает очень хорошо».
Освободиться от военной службы и, как следствие, от работы в земстве, Булгакову удалось лишь в феврале 1918 года. 19 февраля он получил удостоверение «Московского уездного революционного штаба по части запасной», выданное «врачу резерва Михаилу Афанасьевичу Булгакову, уволенному с военной службы по болезни». Последний раз деньги в земстве — 316 руб. 75 коп. — Булгаков получил 27 января 1918 года, вероят-
но, это было жалованье за декабрь и январь. В феврале он там уже не работал (из-за реформы календаря февраль в 1918 году начался в России с 14-го числа). 22 февраля Булгаков вернулся из Москвы в Вязьму и получил удостоверение Вяземской земской управы в том, что «в должности врача Вяземской городской земской больницы» «заведовал инфекционным и венерическим отделениями и исполнял свои обязанности безупречно».
Сохранился рассказ Т. Н. Лаппа об обстоятельствах отъезда из Вязьмы: «Я только знаю морфий. Я бегала с утра по всем аптекам в Вязьме, из одной аптеки в другую... Бегала в шубе, в валенках, искала ему морфий. Вот это я хорошо помню. А больше ни черта не помню. Ездила я из Вязьмы в Москву на неделю к Николаю Михайловичу (Покровскому. — Б. С.)... Страшно волновалась, как там Михаил. Потом приехала и говорю: «Знаешь что, надо уезжать отсюда в Киев. Ведь и в больнице уже заметили (морфинизм Булгакова. — Б. С.)». А он: «А мне тут нравится». Я ему говорю: «Сообщат из аптеки, отнимут у тебя печать, что ты тогда будешь делать?» В общем, скандалили, скандалили, он поехал, похлопотал, и его освободили по болезни, сказали: «Хорошо, поезжайте в Киев». И в феврале мы уехали». Дошло до того, что Татьяна Николаевна угрожала самоубийством, если они не уедут. Конечно, ее воспоминания были зафиксированы много десятилетий спустя после описываемых событий и не могут претендовать на абсолютную точность. Фраза «А мне тут нравится» могла иметь иронический характер, а скандалы в семье, вполне возможно, касались булгаковского пристрастия к морфию, а не вопроса, надо ли уезжать из Вязьмы. Ведь письмо Н. А. Земской от 31 декабря 1917 года свидетельствует, что Булгаков явно тяготился жизнью в Вязьме и хотел вернуться в Киев. Правда, не исключено, что это письмо было написано уже после разговоров с Тасей, которой удалось убедить Михаила сменить место жительства. Отметим, что в более раннем письме сестре 3 октября никаких сетований на вяземскую жизнь и намерений перебраться в Киев еще нет. Кроме того, дополни-
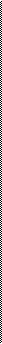 | |||||
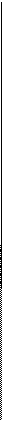 | |||||
 | |||||
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
тельным стимулом к возвращению в родные места могла стать революция, в разрушительных последствиях которой Булгаков успел убедиться во время декабрьской поездки в Москву и Саратов. Татьяна Николаевна так объяснила, почему они предпочли Киев, а не Москву: «Мы ехали, потому что не было выхода — в Москве остаться было негде». В Киеве же сохранялась большая квартира на Андреевском спуске, где, правда, в тесноте, да не в обиде, вместе с братьями и сестрами Михаила, под материнской сенью можно было найти пристанище.
Вероятно, Булгаков надеялся обрести опору в родных стенах. Имея врачебный опыт, он мог рассчитывать на значительные доходы от частной практики в большом городе, особенно с такой популярной тогда специальностью. Не меньшую роль, должно быть, играла мысль, что перемена обстановки, встреча с родными и друзьями, даже киевские театры, помогут избавиться от наркомании.
И конец истории с морфием, в отличие от финала рассказа «Морфий», оказался счастливым. В Киеве, куда Булгаков приехал в феврале 1918 года, произошло почти чудо. «В первое время ничего не изменилось, — рассказывает Т. Н. Лаппа, — он по-прежнему употреблял морфий, заставлял меня бегать в аптеку, которая находилась на Владимирской улице, у пожарной каланчи. Там уже начали интересоваться, что это доктор так много выписывает морфия. И он, кажется, испугался, но своего не прекратил и стал посылать меня в другие аптеки.
Мать его, конечно же, ничего не знала об этом. И тогда я обратилась к Ивану Павловичу Воскресенскому за помощью. Он посоветовал вводить Михаилу дистиллированную воду. Так я и сделала. Уверена, что Михаил понял, в чем дело, но не подал вида и принял «игру». Постепенно он избавился от этой страшной привычки. И с тех пор никогда больше не только не принимал морфия, но и никогда не говорил об этом». Думается, Булгаков очень болезненно реагировал на то, что позднее в романе Юрия Слезкина «Девушка с гор» врач Алексей Васильевич, прототипом которого послужил Михаил Афанасьевич, показан в прошлом наркоманом.
| ГЛАВА 2. Земский |
Земский врач Михаил Булгаков. О С
1916—1918 OJ
Работая земским врачом, Булгаков, похоже, впервые начал серьезно заниматься литературным творчеством. Ни одно его произведение того времени не сохранилось, но об их содержании мы можем судить по воспоминаниям современников. А. П. Гдешинский в письме Н. А. Земской 1—13 ноября 1940 года утверждал: «Помню, Миша рассказывал об усилиях по открытию венерических отделений в этих местах. Впрочем, об этой стороне его деятельности наилучше расскажет его большая работа, которую он зачитывал в Киеве (слушателями были Варвара Михайловна, кажется, Вы, покойный брат Платон и я). К стыду своему, я заснул (время было утомительное), за что и был впоследствии отмечен соответствующим образом... Этот труд, как мне кажется, касался его деятельности в упомянутом Никольском и, как мне казалось, — не без влияния Вересаева». Возможно, здесь речь идет о ранней редакции рассказа, известного сегодняшним читателям под названием «Звездная пыль», где в центре повествования — малоуспешная из-за темноты крестьян борьба юного врача с распространением сифилиса. Наверное, особыми художественными достоинствами ранняя редакция не отличалась, раз Саша Гдешинский, тонко чувствовавший и музыку, и литературу (это видно по его письмам Булгакову), заснул во время чтения. Скорее всего, рассказ был написан еще в Никольском или Вязьме, а в Киеве автор его впервые обнародовал в узком кругу родных и друзей.
Т. Н. Лаппа полагала, что в Никольском Булгаков стал писать только после начала драматической эпопеи с морфием. Такое суждение выглядит правдоподобным. На ранних стадиях пристрастие к морфию может стимулировать проявление творческих способностей человека, а разрушительное действие болезни начинает сказываться лишь позднее. Татьяна Николаевна так характеризовала состояние мужа после впрыскивания морфия: «Очень такое спокойное. Спокойное состояние. Не то что бы сонное. Он даже пробовал писать в этом состоянии». Правда, читать написанное Булгаков почему-то
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 2. Земский врач Михаил Булгаков. 1916—1918
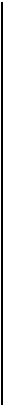
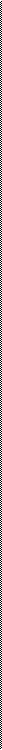 не давал. Как объясняла Т. Н. Лаппа: «Или скрывал, или думал, что я дура такая и в литературе ничего не понимаю. Знаю только, что женщина и змея какая-то там... Мы вот когда в отпуске были, в кино видели, там женщина какая-то по канату ходила... Я просила, чтоб он дал мне, но он говорит: «Нет. Ты после этого спать не будешь, это бред сумасшедшего». Показывал мне только. Какие-то там кошмары и все...» Может быть, сюжет этого не дошедшего до нас рассказа был сходен с сюжетом «Огненного змия» — рассказа, по воспоминаниям Н. А. Земской, написанного Булгаковым еще в 1912 или 1913 году. По ее словам, там речь шла «об алкоголике, допившемся до белой горячки и погибшем во время ее приступа: его задушил (или сжег) вползший в его комнату змей (галлюцинация)». Не исключено, что оба рассказа были написаны под воздействием наркотика.
не давал. Как объясняла Т. Н. Лаппа: «Или скрывал, или думал, что я дура такая и в литературе ничего не понимаю. Знаю только, что женщина и змея какая-то там... Мы вот когда в отпуске были, в кино видели, там женщина какая-то по канату ходила... Я просила, чтоб он дал мне, но он говорит: «Нет. Ты после этого спать не будешь, это бред сумасшедшего». Показывал мне только. Какие-то там кошмары и все...» Может быть, сюжет этого не дошедшего до нас рассказа был сходен с сюжетом «Огненного змия» — рассказа, по воспоминаниям Н. А. Земской, написанного Булгаковым еще в 1912 или 1913 году. По ее словам, там речь шла «об алкоголике, допившемся до белой горячки и погибшем во время ее приступа: его задушил (или сжег) вползший в его комнату змей (галлюцинация)». Не исключено, что оба рассказа были написаны под воздействием наркотика.
По признанию Т. Н. Лаппа, Булгаков в 1913 году пробовал кокаин: «Надо попробовать. Давай попробуем»... У меня от кокаина появилось отвратительное чувство... Тошнить стало. Спрашиваю: «А ты как?» — «Да спать я хочу...» В общем, не понравилось нам». Правда, при этом Татьяна Николаевна утверждала, что если у нее от кокаина началась рвота, то Михаил и после кокаина, и после морфия чувствовал себя прекрасно. Сделав укол морфия, он говорил о своих ощущениях: «куда-то плывешь» и вообще считал их замечательными. Возможно, Булгаков имел какую-то врожденную предрасположенность к наркотикам, в отличие от жены, и это обстоятельство способствовало развитию болезни.
Скорее всего, написанный в Никольском рассказ о женщине и змее (или, колебалась Татьяна Николаевна, о женщине-змее), носил название «Зеленый змий», поскольку в 1921 году Булгаков просил Н. А. Земскую забрать из Киева оставшиеся у матери рукописи — «Первый цвет», «Зеленый змий», а также черновик «Недуг», которому он придавал особое значение. Рукописи были найдены и отосланы автору, который их все уничтожил.
По названию «Зеленый змий» можно предположить, что в рассказе шла речь о галлюцинации алкоголика, как и в «Огненном змие». Быть может, Булгаков специально
заменил в обоих случаях наркоманию на алкоголизм, чтобы скрыть от возможных слушателей и читателей свою болезнь (в алкоголизме-то его никто из знакомых не мог заподозрить, пил он мало). Можно допустить и влияние на Булгакова написанного в 1895 году романа А. Амфитеатрова «Жар-цвет», поскольку в нем появление змея тоже связано с галлюцинациями героев. Амфитеатров стремился рационально объяснить мистическое гипнозом и самовнушением, а галлюцинации считал следствием психических расстройств (в «Мастере и Маргарите» это — одна из версий происходящего). Позднее, в 1927 году, в «Морфии» Булгаков все-таки решился заменить алкогольные галлюцинации на наркотические, при этом не исключено, что этот рассказ вобрал материалы как «Зеленого змия», так и «Недуга» (если, конечно, под недугом Булгаков действительно в данном случае подразумевал морфинизм). Впрочем, шансы проверить все эти гипотезы близки к нулю, так как практически нет надежды, что тексты отыщутся. Хотя чудеса случались — ведь нашлись же считавшаяся навсегда утерянной булгаковская пьеса «Сыновья муллы» и фотокопия дневника, собственноручно сожженного Булгаковым.
Любопытно, что мотив змеи, да еще и в сочетании с женщиной вновь возникает у писателя в 1924 году в повести «Роковые яйца». В этой повести булгаковской фантазией в Смоленской губернии вблизи Никольского сотворен совхоз «Красный луч», где директор Александр Семенович Рокк проводит трагический эксперимент с яйцами гадов и вылупившаяся гигантская анаконда на его глазах пожирает жену Маню. Может, и в основу «Зеленого змия» легли смоленские впечатления Булгакова и сам рассказ он написал еще тогда.
«Первый цвет» в названии несет определенную перекличку с амфитеатровским «Жар-цветом». Думается, позднейшей редакцией этого раннего рассказа мог быть известный рассказ 1924 года «Ханский огонь».Там описан пожар, действительно происшедший в имении Муравиш-ники накануне февральской революции. Правда, в рассказе он отнесен к началу 20-х годов.
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА * * *
О
 | |||
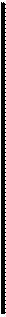 | |||
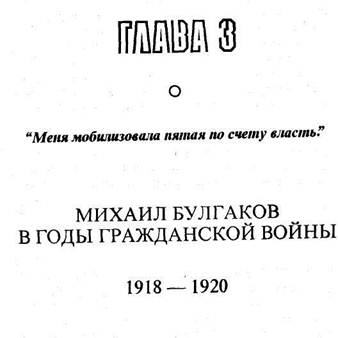
|
Работа земским врачом в Смоленской губернии впервые познакомила Булгакова с жизнью крестьян, показала не только привлекательные, но и отталкивающие черты народа. Им с женой пришлось жить самостоятельно, далеко от родителей, и полагаться лишь на собственные силы. Молодого медика и будущего писателя явно тяготила напряженная и изнурительная работа земского врача, особенно в Никольском, но свои обязанности он выполнял добросовестно и доктором оказался хорошим. И все же работу в земстве Булгаков сознавал скорее как труд насильно мобилизованного (так оно и было), а не как труд по призванию. Возможно, уже тогда он думал о Чехове и Вересаеве, для которых медицина стала в конечном счете одним из истоков литературного творчества. Друзей в деревенской и уездной глуши у него не оказалось, и их место заняли книги, ставшие едва ли не единственной отдушиной. Другой, по-настоящему опасной отдушиной стал морфинизм. И именно он странным для непосвященных образом послужил толчком к началу серьезного, осознанного литературного творчества. Несмотря на сложное положение, в которое молодого врача поставила наркомания, в нем все более укреплялась вера в свое литературное призвание. При этом Булгаков явно предпочитал «старую добрую» классику новым литературным течениям конца XIX — начала XX века.
 -D П D-
-D П D-

 ■d-Q-o
■d-Q-o
I ^ ремя приезда Булгакова в Киев в феврале 1918 I I I года совпало с развертыванием полномасштаб-
Ной гражданской войны на территории бывшей L^r Российской империи. Началось и наступление австро-германских войск, вызванное отказом большевистского правительства подписать мирный договор с Четверным союзом. Годы гражданской войны в булга-ковской биографии характеризуются, наверное, наибольшим числом душевных потрясений, связанных с событиями братоубийственной борьбы. Это и наименее документированный отрезок жизненного пути писателя. Поэтому биографу приходится становиться здесь на зыбкую почву реконструкций, черпать сведения из булгаков-ских произведений и отрывочных свидетельств современников*. Если события двух русских революций 1917 года Булгаков наблюдал пусть не из прекрасного далека, но из тихой смоленской глубинки, то гражданскую войну он переживал в двух ее пылавших очагах: в Киеве, за который шла борьба всех противоборствующих на Украине сил, и на Северном Кавказе, ставшем важной базой Вооруженных Сил Юга России под командованием генерала Деникина. Для того чтобы выявить и понять основные повороты булгаковской судьбы в Киеве в 1918—1919 годах, обратимся к автобиографическому очерку 1923 года «Киев-город». Там Булгаков писал: «По счету киевлян у них было 18 переворотов. Некоторые из тешгушеч-ных мемуаристов насчитали их 12; я точно могу сообщить, что их было 14, причем 10 из них я лично пережил». Первым переворотом писатель считал февральскую революцию, а последними двумя — занятие города * Единственный документ, сохранившийся от пребывания Булгаковав Киеве в 1918—1919 годах, — это рецепт, выписанный им5 января1919 года Николаю Судзиловскому, племянникуЛ. С. Карума — мужасестры Вари и прототипу Лариосика Суржанского в «Белой гвардии» и«Днях Турбиных». Б°РИС Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА ГЛАВА 3. Михаил Булгаков в годы гражданской войны. 1918—1920 войсками Польши и Украинской Народной Республики 7 мая 1920 года и вступление в город Красной Армии 12 июня того же года после прорыва польского фронта конницей Буденного. Попробуем определить, во время каких переворотов Булгаков был в Киеве. В 1923 году писатель уже твердо считал февральскую революцию началом всех последующих бедствий. 8 «Киев-городе» он писал о ней так: «Легендарные вре мена оборвались, и внезапно и грозно наступила история. Я совершенно точно могу указать момент ее появления: это было в 10 час<ов> утра 2-го марта 1917 года, когда в Киев пришла телеграмма, подписанная двумя загадоч ными словами: «Депутат Бубликов». Ни один человек в Киеве, за это я ручаюсь, не знал, что должны были обозначать эти таинственные 15 букв, но знаю одно, ими история подала Киеву сигнал к началу. И началось и продолжалось в течение четырех лет». Телеграмма депутата Государственной Думы А. А. Бубликова об отречении от престола Николая II положила начало революционным событиям в Киеве. 2 марта был сформирован Исполнительный комитет Объединенных общественных организаций, стоявший на позициях поддержки петроградского Временного правительства. Здесь преобладали кадеты. 3 марта возник городской совет рабочих, а 5 марта — военных депутатов. 4 марта партии и организации украинской национальной ориентации образовали Центральную Раду (Центральный Совет). Как мы помним, Булгаков в эти дни был в Киеве: он приезжал за университетским дипломом. Следующий переворот случился в Киеве в конце октября — начале ноября 1917 .года. После свержения Временного правительства в Петрограде власть в столице Украины взяла Центральная Рада, причем в ходе восстания преданные ей войсковые части сражались с киевскими юнкерами, сохранившими верность Керенскому. В этих боях участвовал младший брат Булгакова Николай, юнкер Киевского военно-инженерного училища. События тех памятных дней отразились в булгаковском рассказе «Дань восхищения», опубликованном в одной из кавказских газет в феврале 1920 года и в романе «Белая гвардия». Однако самого Михаила в Киеве в тот момент точно не было, он вместе с женой оставался в Вязьме. Третий раз власть в Киеве сменилась 26 января 1918 года, когда Красная армия вытеснила войска Центральной Рады из города. Через несколько дней после этого, по горячим следам событий, Булгаковы вернулись в Киев. Вероятно, сюда они приехали сразу же после 22 февраля, когда Михаил Афанасьевич получил удостоверение о своей службе в Вяземской земской управе. Татьяна Николаевна вспоминала, что отбыли из Вязьмы они в феврале, причем «в Киев мы ехали через Москву. Остановились у дяди Коли, Михаил получил документы, мы оставили там кое-какие вещи и уехали в Киев». В город они приехали, скорее всего, 24-го или 25-го, через две недели после его занятия красными. Но советская власть не успела тогда укрепиться в Киеве. Уже 1 марта в город при поддержке австро-германских войск вернулась Центральная Рада — теперь правительство Украинской Народной Республики, признанное державами Четверного союза в Бресте 9 февраля. Эту смену властей Булгаковы наблюдали воочию. По свидетельству Татьяны Николаевны, немцы вошли в город уже при них. Новый переворот не заставил себя долго ждать. Правительство бывшей Центральной Рады, представленное в основном партиями социалистической ориентации и выступавшее за радикальные аграрные преобразования, не устраивало Германию и Австро-Венгрию, рассчитывавших получить с Украины практически задаром продовольствие для своего голодающего в условиях антантовской блокады населения. При поддержке оккупационных властей 29 апреля 1918 года в городском цирке на «съезде хлеборобов», состоявшем почти исключительно из крупных землевладельцев, гетманом Украины был избран потомок украинского гетмана XVIII века П. П. Скоро-падский, генерал-лейтенант царской службы, ранее возглавлявший армию Центральной Рады. Ряд деятелей Украинской Народной Республики, в том числе бывший секретарь Центральной Рады по военным делам (военный министр) С. В. Петлюра, через некоторое время после переворота были арестованы. Скоропадский про- Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА ГЛАВА 3. Михаил Булгаков в годы гражданской войны. 1918—1920 возгласил создание «Украинского государства», находившегося в полной зависимости от поддержки Центральных держав. После их поражения в первой мировой войне и начала эвакуации австро-германских войск с Украины против гетмана в ноябре 1918 года поднялось мощное крестьянское восстание, поддержанное горожанами-украинцами и возглавленное бывшим руководителем Центральной Рады — СВ. Петлюрой и писателем В. К. Винниченко, лидерами украинских социал-демократов. 14 ноября они образовали Украинскую Директорию (третий руководитель Центральной Рады, историк М. С. Грушевский, в нее не вошел), причем Петлюра стал главой армии Директории (головным атаманом). Директория заключила соглашение с немецким командованием о нейтралитете немецких войск, за что им был обещан беспрепятственный уход с Украины. Гетману же был предъявлен ультиматум о капитуляции. Правительство Скоропадского, которое на Украине практически никто не поддерживал, лихорадочно заметалось, пытаясь достичь соглашения с кем угодно: с немцами, Антантой, большевиками, Директорией, или, наконец, с Добровольческой Армией, поскольку в Киеве осело немало офицеров русской армии, сочувствовавших белым. В последний момент гетман начал формировать добровольческие части из офицеров в безнадежной попытке отразить наступление на Киев армии Директории. В связи с этим Булгакову впервые пришлось принять непосредственное участие в гражданской войне. В последний день гетманства Скоропадского, 14 декабря, он был то ли мобилизован в армию Скоропадского, то ли пошел в офицерские и юнкерские формирования в качестве военного врача добровольно. Татьяна Николаевна в разное время по-разному вспоминала об этом. Как свидетельствуют мемуаристы, в частности Роман Гуль, гетман действительно издал приказ о мобилизации офицеров еще в ноябре, когда стал ясен скорый крах Германии в результате начавшейся революции, однако откликались на эту мобилизацию лишь те, кто реально хотел противостоять Петлюре и питал надежду потом присоединиться к Деникину. Очевидно, среди них был Булгаков, вместе с неко- торыми своими друзьями гимназических и студенческих лет. Т. Н. Лаппа вспоминала: «Пришел Сынгаевский (Николай Сынгаевский, гимназический приятель Булгакова, прототип Мышлаевского в „Белой гвардии" и „Днях Турбиных". — Б. С.) и другие Мишины товарищи и вот разговаривали, что надо не пустить петлюровцев и защищать город, что немцы должны помочь... а немцы все драпали. И ребята сговаривались на следующий день пойти. Остались даже у нас ночевать, кажется. А утром Михаил поехал. Там медпункт был... И должен был быть бой, но его, кажется, не было. Михаил приехал на извозчике и сказал, что все кончено и что будут петлюровцы». Сам Булгаков дважды отразил свое участие в защите города от петлюровцев — в рассказе «Необыкновенные приключения доктора» (1922) и в романе «Белая гвардия» (1922—1924). В рассказе события описаны так: «Меня мобилизовала пятая по счету власть (правительство Скоропадского действительно было в Киеве пятой по счету властью, если первой считать Временное правительство, здесь Булгаков абсолютно точен. — Б. С.)... Пятую власть выкинули, а я чуть жизни не лишился... К пяти часам дня все спуталось. Мороз. На восточной окраине пулеметы стрекотали. Это „ихние". На западной пулеметы — „наши". Бегут какие-то с винтовками. Вообще — вздор. Извозчики едут. Слышу, говорят: «Новая власть тут...» «Ваша часть (какая, к черту, она моя!) на Владимирской». Бегу на Владимирскую и ничего не понимаю. Суматоха какая-то. Спрашиваю всех, где «моя» часть... Но все летят, и никто не отвечает. И вдруг вижу — какие-то с красными хвостами на шапках пересекают улицу и кричат: — Держи его! Держи! Я оглянулся — кого это? Оказывается, меня! Тут только я сообразил, что надо было делать — просто-напросто бежать домой. И я кинулся бежать. Какое счастье, что догадался юркнуть в переулок. А там сад. Забор. Я на забор. Те кричат: Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА ГЛАВА 3. Михаил Булгаков в годы гражданской войны. 1918—1920 — Стой! Но как я ни неопытен во всех этих войнах, я понял инстинктом, что стоять вовсе не следует. И через забор. Вслед: трах! трах!» Несколько иначе этот эпизод изложен в «Белой гвардии», где военный врач Алексей Турбин, в отличие от безымянного доктора в рассказе, добровольно вступивший в офицерскую дружину, тоже спасается от петлюровцев, но менее успешно, и в результате получает ранение. Думается, что на самом деле в этот день, 14 декабря, петлюровцы за Булгаковым не гнались, и он спокойно приехал домой на извозчике, когда стала ясна бесполезность сопротивления, как об этом и рассказала Т. Н. Лаппа. Писатель запечатлел здесь свое бегство от петлюровцев в феврале 1919 года при отступлении из Киева войск Украинской Народной Республики. Вот как это случилось. В начале февраля 1919 года под натиском Красной Армии армия Директории оставила Киев без боя. 5 февраля в город вступили красные. При отступлении украинские власти провели мобилизацию, призвав и Булгакова как военного врача. Против украинцев как народа, это видно из его произведений, Михаил Афанасьевич никаких недобрых чувств не питал, но к идее независимой украинской государственности относился, мягко говоря, прохладно, никакого намерения связывать свою судьбу с украинской армией, покидать родной дом и уходить в неизвестность не имел. К тому же правительство Директории плохо контролировало свое разношерстное воинство, среди которого было немало и чисто уголовных элементов. Начались еврейские погромы, людей на улицах часто убивали без суда. Не забылись и расправы над офицерами в декабре 1918 года. В то же время, со всеми прелестями советского режима Булгаков, как и другие киевляне, еще не успел как следует познакомиться. В январе — феврале 1918 года красные были в городе неполные три недели, да и Булгаков застал лишь последние дни их власти. К тому же это было еще до уничтожения в июле царской семьи и официального объявления в августе красного террора. В уездную же Вязьму власть коммунистов по-настоящему пришла в 1918 году, уже после отъезда оттуда четы Булгаковых. В большевиках видели, по крайней мере, большую организованность по сравнению с петлюровцами. Булгаков дезертировал из украинской армии. Вот как сказано об этом в «Необыкновенных приключениях доктора»: «Происходит что-то неописуемое... Новую власть тоже выгнали. Хуже нее ничего на свете не может быть. Слава богу. Слава богу. Слава... Меня мобилизовали вчера. Нет, позавчера. Я сутки провел на обледеневшем мосту. Ночью 15° ниже нуля (по Реомюру) с ветром. В пролетах свистело всю ночь. Город горел огнями на том берегу. Слободка на этом. Мы были посредине. Потом все побежали в город. Я никогда не видел такой давки. Конные. Пешие и пушки ехали, и кухни. На кухне сестра милосердия. Мне сказали, что меня заберут в Галицию. Только тогда я догадался бежать. Все ставни были закрыты, все подъезды были заколочены. Я бежал у церкви с пухлыми белыми колоннами. Мне стреляли вслед. Но не попали. Я спрятался во дворе под навесом и просидел там два часа. Когда луна скрылась, вышел. По мертвым улицам бежал домой. Ни одного человека не встретил». Т. Н. Лаппа передает этот драматический случай несколько иначе и утверждает, со ссылкой на Михаила, что петлюровцы вслед ему все-таки не стреляли, хотя Булгаков действительно пережил тогда сильное потрясение: «И вот петлюровцы пришли, и через какое-то время его мобилизовали. Однажды прихожу домой — лежит записка: «Приходи туда-то, принеси то-то». Я прихожу — на лошади сидит. Говорит: «Мы уходим сегодня в Слободку — это, знаете, с Подола есть мост в эту Слободку, — приходи завтра, за мостом мы будем», — еще что-то ему принести надо было. На следующий день я прихожу в Слободку, приношу бутерброды, кажется, папиросы, еще что-то. Он говорит: «Сегодня, наверное, драпать будут. Большевики подходят». А они (т. е. петлюровцы — Б. С.) большевиков страшно боялись. Я прихожу домой страшно расстроенная: потому что не знаю, удастся ли ему убежать от петлюровцев или нет. Остались мы с Варькой в квартире одни,
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВЛЗ.
Михаил Булгаков в годы гражданской войны. 1918—1920
братья куда-то ушли. И вот в третьем часу вдруг такие звонки!.. Мы кинулись с Варькой открывать дверь — ну, конечно, он. Почему-то он сильно бежал,… Сцену убийства Булгаков потом запечатлел в первоначальном наброске «Белой… Доведем до конца счет киевских переворотов, особенно подробно остановившись на трех следующих (почему, читатель…ГЛАВА 3.
МихаилБулгаков вгоды
гражданской войны. 1918—1920
103
ровался в датах смены различных властей в Киеве, а благодаря этому мог достаточно точно определить и сроки своего пребывания в городе. Из булгаковских показаний следует, что в конце августа он покинул город. Сделать это он мог либо с украинской, либо с Красной Армией. Добровольцы же никак не смогли бы прислать ему повестку раньше 1 сентября.
Кроме того, если допустить, что в начале сентября 1919 года Булгаков уже отправился на Северный Кавказ, то он никак не мог быть свидетелем двукратной смены властей в Киеве 14—16 октября 1919 года. В этом случае Булгаков оказывается очевидцем лишь восьми из четырнадцати киевских переворотов, которые упомянуты в «Киев-городе». Мы только что перечислили все эти перевороты и выяснили, что их было ровно четырнадцать — писатель нисколько не ошибся. При этом Булгаков совершенно точно не мог быть в Киеве во время четырех переворотов: в конце октября — начале ноября 1917 года, 13 декабря 1919 года, 7 мая и 12 июня 1920 года. Очевидно, он считал себя как бы очевидцем еще двух переворотов — февральской революции и взятия города войсками Красной гвардии 26 января 1918 года. Если же не учитывать два переворота, происшедшие 14—16 октября 1919 года, то получается, что Булгаков находился в городе только во время восьми, а не десяти переворотов, указанных им в «Киев-городе».
Всем условиям удовлетворяет только версия, что 30 августа 1919 года будущий писатель покинул город вместе с Красной Армией, а 14 октября вновь вошел в него вместе с советскими войсками. Тогда он вполне мог счесть себя и очевидцем переворотов 30—31 августа 1919 года, поскольку покинул Киев в разгар этих событий, когда к городу с разных сторон приближались петлюровские и деникинские войска.
Рассмотрим все аргументы, помимо изложенных выше, в пользу того, что Булгаков находился в Красной Армии в период с конца августа и по 14—16 октября 1919 года. Во-первых, в автобиографическом рассказе «Необыкновенные приключения доктора», написанном всего три года спустя, факт мобилизации главного героя
в 1919 году в Красную Армию зафиксирован отчетливо. Вот как об этом повествует Булгаков:
«17 февраля
...Достал бумажки с 18 печатями о том, что меня нельзя уплотнить, и наклеил на парадной двери, на двери кабинета и в столовой.
21 февраля
Меня уплотнили...
22 февраля
... И мобилизовали.
...марта
Конный полк ушел воевать с каким-то атаманом...
Из пушек стреляли все утро...»
Хронология здесь, почти наверняка, искажена. Но в самом факте мобилизации Булгакова красными нет ничего невероятного. В военных врачах нуждались все враждующие стороны, а он вел частную практику, был известен в городе, возможно, даже давал соответствующее объявление с указанием адреса (ведь те же петлюровцы в феврале 1919 года знали его адрес и прислали повестку). А вот когда на самом деле будущий писатель был мобилизован большевиками, нам поможет выяснить продолжение рассказа «Необыкновенные приключения доктора». После цитированных слов следует пропуск целой главы, а затем такие малопонятные, на первый взгляд, фразы: «6. Артиллерийская подготовка и сапоги. 7. Кончено. Меня увозят». После этого следует новый пропуск, и действие переносится на Северный Кавказ, где доктор в рядах деникинских войск в качестве начальника медицинской службы 3-го Терского конного полка принимает участие во взятии Чечен-аула, причем это событие в рассказе отнесено к сентябрю. Писатель Д. А. Гиреев в свое время установил детальное совпадение сделанного Булгаковым описания боя за Чечен-аул и перечня участвовавших в нем частей белой армии с результатами позднейших исторических исследований. Действительно, тогда деникинской армии пришлось бороться с восставшими горскими народами, опасавшимися восстановления империи и ликвидации их фактически обретенной независимости в случае победы белых. Они объедини-
I
J 04 Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
лись в имамат во главе со столетним Хаджи-Узуном, причем в союзе с ними действовали и отряды коммунистической ориентации. Но хронология событий в булгаков-ском рассказе искажена, причем вполне сознательно. В действительности 3-й Терский полк во взаимодействии с другими частями взял Чечен-аул не в сентябре, а в ходе боев 28—29 октября 1919 года. И Булгаков прекрасно помнил, когда именно это происходило. В дневнике в ночь с 23 на 24 декабря 1924 года он записал: «...вспоминал... картину моей контузии под дубом и полковника, раненного в живот.
Бессмертье — тихий светлый брег... Наш путь — к нему стремленье. Покойся, кто свой кончил бег, Вы, странники терпенья...
Чтобы не забыть и чтобы потомство не забыло, записываю, когда и как он умер. Он умер в ноябре 19-го года во время похода за Шали-аул и последнюю фразу сказал мне так:
— Напрасно вы утешаете меня, я не мальчик. Меня же контузили через полчаса после него.
Так вот, я видел тройную картину. Сперва — этот ночной ноябрьский бой, сквозь него — вагон, когда уже об этом бое рассказывал (в январе 1920 года. — Б. С), и этот, бессмертно-проклятый зал в «Гудке». «Блажен, кого постигнул бой». Меня он постигнул мало, и я должен получить свою порцию».
Эта запись доказывает многое. Во-первых, что и спустя пять лет хронологию своего участия в гражданской войне Булгаков помнил абсолютно точно. Шали-аул был взят позже Чечен-аула, 1 ноября, и поход далее, за этот аул, несомненно происходил в ноябре. Во-вторых, здесь процитированы стихи Жуковского, ставшие эпиграфом пьесы «Бег», (возможно, у писателя уже зародилась идея этой пьесы). А эпизод с гибелью полковника в Чечне вошел в роман «Белая гвардия», где с умирающим полковником Най-Турсом беседует Николай Турбин (безы-
| ГЛАВАЗ. |
Михаил Булгаков в годы 7 /1С
гражданской войны. 1918—1920 1 UJ
мянный полковник явно был одним из прототипов храброго и благородного Най-Турса). Наконец, тройная картина, возникающая в видении-воспоминании Булгакова, соответствует принципу троичного видения, изложенному в 1922 году П. А. Флоренским в его книге «Мнимости в геометрии» (книга эта сохранилась в архиве писателя, и о ней речь впереди).
Раз искажена чеченская хронология (но только хронология) рассказа «Необыкновенные приключения доктора», можно предположить, что и в части, относящейся к мобилизации героя красными, и последующих загадочных событиях искажены не факты, а лишь хронология, чтобы запутать возможных недоброжелателей. Тех, для кого равно предосудительными могли показаться как булгаковская служба у белых, так и некоторые обстоятельства, связанные с его кратковременной службой у красных. Попробуем разобраться, к какому реальному времени можно отнести события рассказа, связанные с пребыванием героя в Красной Армии. «Из пушек стреляли все утро» в Киеве 30 августа 1919 года, когда петлюровские части вступили в киевские предместья и стали обстреливать город из тяжелых орудий. То, что «конный полк ушел воевать с каким-то атаманом», тоже может быть отнесено именно к этому дню: ведь не только предводители банд или отрядов различной политической ориентации, вроде Зеленого или Ангела, именовались атаманами, но и сам С. В. Петлюра официально занимал, как мы помним, должность «головного атамана», т. е. главнокомандующего украинской армией и главы Украинского государства (так же, например, военный лидер Польши Ю. Пилсудский именовался в ту пору «начальником Польского государства»). Присутствующий далее в тексте «Необыкновенных приключений доктора» пропуск, вероятно, охватывает период сентября и первой половины октября, когда сам Булгаков, очевидно, находился среди отступивших из Киева красных, может быть, как раз врачом при какой-то конной части, о которой говорится в рассказе. Упоминаемая в «Необыкновенных приключениях доктора» артиллерийская подготовка — это, скорее всего, артиллерийская подготовка крас-
106 БоРис С0™"10» ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 3. Михаил Булгаков в годы
гражданской войны. 1918—1920
107

 ных в ходе штурма Киева 14 октября, во время которой пострадал штаб генерала А. М. Драгомирова. Следующие слова: «Кончено. Меня увозят... Из пушек... и...», принимая во внимание дальнейшие события, как будто означают, что герой был насильно увезен белыми частями. Это совсем не говорит в пользу того, что Булгаков на самом деле был захвачен белыми в плен, хотя это и возможный вариант: как мы помним, обозы красных, при которых должна была находиться медицинская служба, были введены в Киев, так что при поражении советских войск у Булгакова были все шансы попасть в плен. Однако версия о насильственном увозе автобиографического героя могла быть создана писателем в расчете на не по должности внимательных читателей, чтобы в случае чего подчеркнуть недобровольный характер его последующей службы у белых. В действительности Булгаков вполне мог сам перейти в деникинскую армию при штурме Киева красными, когда твердо удостоверился уже, что родной город занят частями добровольцев, а не украинскими войсками Петлюры. Как увидим мы далее, основные идеи белого движения будущий писатель разделял.
ных в ходе штурма Киева 14 октября, во время которой пострадал штаб генерала А. М. Драгомирова. Следующие слова: «Кончено. Меня увозят... Из пушек... и...», принимая во внимание дальнейшие события, как будто означают, что герой был насильно увезен белыми частями. Это совсем не говорит в пользу того, что Булгаков на самом деле был захвачен белыми в плен, хотя это и возможный вариант: как мы помним, обозы красных, при которых должна была находиться медицинская служба, были введены в Киев, так что при поражении советских войск у Булгакова были все шансы попасть в плен. Однако версия о насильственном увозе автобиографического героя могла быть создана писателем в расчете на не по должности внимательных читателей, чтобы в случае чего подчеркнуть недобровольный характер его последующей службы у белых. В действительности Булгаков вполне мог сам перейти в деникинскую армию при штурме Киева красными, когда твердо удостоверился уже, что родной город занят частями добровольцев, а не украинскими войсками Петлюры. Как увидим мы далее, основные идеи белого движения будущий писатель разделял.
Очевидно, что Булгакову приходилось в дальнейшем скрывать не столько факт своей службы у белых (на это он вполне ясно намекал в «Необыкновенных приключениях доктора», да и службы у Скоропадского, упомянутой в «Белой гвардии» и других произведениях, в общем-то не скрывал), сколько свою предыдущую кратковременную службу в Красной Армии и последовавший за ним добровольный или насильственный переход к белым. Если бы факт такого перехода с определенностью обнаружился и был бы истолкован как добровольный, Булгакова могли признать активным идейным белогвардейцем с неизбежными в таком случае репрессиями. Таким же репрессиям он наверняка подвергся бы, обнаружь новая власть его публикации в деникинских газетах 1919—1920 годов... К счастью для Булгакова, подшивок кавказских газет того времени почти не сохранилось, и крамольные статьи нашли не современники — чекисты или литераторы, а исследователи, много деся-
тилетий спустя после смерти писателя, когда сама советская власть переживала агонию в конце 80-х (фельетон «Грядущие перспективы») или уже после ее краха (фельетон «В кафэ»).
Есть еще один интересный источник, который, на наш взгляд, подтверждает, что Булгаков служил у красных. Это роман его товарища по Владикавказу 1920— 1921 годов и первым годам московской жизни, известного в то время, но основательно забытого ныне писателя Юрия Слезкина «Девушка с гор» (другое название «Столовая гора»). Вышедшая в Москве в 1925 году, книга сохранилась в булгаковском архиве с дарственной надписью автора: «Дарю любимому моему герою Михаилу Афанасьевичу Булгакову». Действительно, один из главных героев романа бывший врач, а потом сотрудник подотдела искусств Владикавказского ревкома Алексей Васильевич, пишущий роман, своим бесспорным прототипом имеет Булгакова (показательно и совпадение его имени и отчества с именем и отчеством Алексея Васильевича Турбина — главного автобиографического героя «Белой гвардии» и «Дней Турбиных»).
Алексей Васильевич в «Девушке с гор» — совсем не симпатичный персонаж. В своем «Театральном романе» Булгаков сатирически изобразил Слезкина в образе писателя Ликоспастова, и за его рассказом «Жилец по ордеру» угадывается слезкинская «Девушка с гор». Вот что пишет Булгаков в «Театральном романе»: «В рассказе был описан... я! Брюки те же. Ну, я, одним словом! Но, клянусь всем, что было у меня дорогого в жизни, я описан несправедливо. Я вовсе не хитрый, не жадный, не лукавый, не карьерист и чепухи такой, как в том рассказе, никогда не произносил!» Критика того времени хвалила «Девушку с гор» за изображение процесса распада в среде «внутренней эмиграции», а образ Алексея Васильевича был основным из числа выведенных Слезкиным «внутренних эмигрантов», то есть лиц, не принимавших советскую власть и коммунистов. По отношению к Булгакову слезкинский роман сильно смахивал на литературный донос. К тому же там прямо говорилось и о наркомании Алексея Васильевича. После публикации «Девушки
108
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
глава з.
Михаил Булгаков в годы гражданской войны. 1918—1920
109


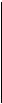 с гор» дружба Булгакова со Слезкиным сошла на нет. Юрий Леонидович мучительно завидовал булгаковскому таланту и успеху у публики, а нежелание Булгакова подлаживаться под власть и принимать существующие правила игры служило как бы укором Слезкину, который эти правила давно принял, и усиливало его неприязнь к автору «Белой гвардии». Тем не менее, памятуя былую близость писателей, можно допустить, что некоторые эпизоды биографии Алексея Васильевича восходят к булгаковским рассказам. Вот один из них — встреча в поезде с чекистом, сотрудником Особого отдела: «...случайно разговорился в дороге с одним молодым человеком, особистом. Как врачу, ему интересно было знать, как ведут себя те, которых должны расстреливать, и что чувствуют те, кому приходится расстреливать. Конечно, доктор подошел к этому вопросу осторожно. Ему кое-что было не совсем ясно. Но особист отвечал с полной готовностью и искренностью. Лично ему пришлось расстреливать всего лишь пять человек. Заведомых бандитов имерзавцев. Жалости он не чувствовал, но все же было неприятно. Стреляя, он жмурил глаза и потом всю ночь не мог заснуть.
с гор» дружба Булгакова со Слезкиным сошла на нет. Юрий Леонидович мучительно завидовал булгаковскому таланту и успеху у публики, а нежелание Булгакова подлаживаться под власть и принимать существующие правила игры служило как бы укором Слезкину, который эти правила давно принял, и усиливало его неприязнь к автору «Белой гвардии». Тем не менее, памятуя былую близость писателей, можно допустить, что некоторые эпизоды биографии Алексея Васильевича восходят к булгаковским рассказам. Вот один из них — встреча в поезде с чекистом, сотрудником Особого отдела: «...случайно разговорился в дороге с одним молодым человеком, особистом. Как врачу, ему интересно было знать, как ведут себя те, которых должны расстреливать, и что чувствуют те, кому приходится расстреливать. Конечно, доктор подошел к этому вопросу осторожно. Ему кое-что было не совсем ясно. Но особист отвечал с полной готовностью и искренностью. Лично ему пришлось расстреливать всего лишь пять человек. Заведомых бандитов имерзавцев. Жалости он не чувствовал, но все же было неприятно. Стреляя, он жмурил глаза и потом всю ночь не мог заснуть.
Но однажды ему пришлось иметь дело с интеллигентным человеком, юношей шестнадцати лет. Это — бывший кадет, деникинец, застрял в городе, когда пришли красные, и, скрываясь, записался в комячейку. Конечно, его разоблачили и приговорили к расстрелу. Это был заведомый, убежденный, активный контрреволюционер, ни о какой снисходительности не могло быть речи. Но вот, подите же, особист даже сконфузился, когда говорил об этом, — у него не хватило духу объявить приговор подсудимому». Отметим, что встреча с особистом могла состояться только на территории, контролируемой красными. Булгаков, если это место восходит к его рассказу, переезд по советской территории мог совершать только с конца 1917 года и до февраля 1918 года, когда он поселился в Киеве, где и пребывал безвыездно вплоть до августа 1919 года. Однако кадет, о котором идет речь в романе, назван деникинцем, а А. И. Деникин стал командующим Добровольческой армии в апреле 1918 года,
после гибели под Екатеринодаром Л. Г. Корнилова. Встреча Булгакова с особистом, таким образом, могла состояться как раз с конца августа до середины октября 1919 года — если будущий писатель тогда служил в Красной Армии.
Герой слезкинского романа сам пишет роман, который «он назвал бы «Дезертир», если бы только не эта глупая читательская манера всегда видеть в герое романа автора». Такое название становится понятным из следующей авторской характеристики Алексея Васильевича: «Но с того часа, как его выгнали из его собственной квартиры, дали в руки какой-то номерок и приказали явиться на место назначения, а потом перекидывали с одного фронта на другой, причем всех, кто его реквизировал, он должен был называть «своими», — с того часа он перестал существовать, он умер». Из этого следует, что герой, видимо, как и его прототип, покинул ряды по крайней мере нескольких чуждых ему армий. Булгаков, как мы помним, дезертировал из армии Петлюры, но, вполне вероятно, что он также дезертировал и из Красной Армии. Белую же армию и Булгаков и Алексей Васильевич покинули вынужденно и одинаково — заболев сыпным тифом и оставшись во Владикавказе, который после отхода белых был занят красными в марте 1920 года.
Сам Булгаков гораздо позднее, в октябре 1936 года, заполняя анкету при поступлении в Большой театр, написал: «В 1919 году, проживая в г. Киеве, последовательно призывался на службу в качестве врача всеми властями, занимавшими город». Фактически — это замаскированное признание того, что писатель был мобилизован не только армией Украинской Народной Республики, но также и красными, и белыми — именно эти власти сменяли друг друга в Киеве в 1919 году до отбытия Булгакова во Владикавказ.
Какие же мотивы могли заставить Булгакова покинуть Киев в конце августа 1919 года вместе с Красной Армией? Один из них — страх перед приходом петлюровцев, которые могли припомнить ему дезертирство из украинской армии в феврале. Т. Н. Лаппа признавала, что русские интеллигенты в Киеве «боялись Петлюру»,
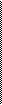 | |||
 |
| 111 |
| глава з. |
НО Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
хотя одновременно «страшно боялись большевиков, тем паче». Однако у Булгакова в конкретных обстоятельствах августа 1919 года вряд ли был какой-то реальный выбор, если его мобилизовали красные. Перед отступлением красный террор в Киеве усилился. Только 16 августа в местных «Известиях» был опубликован список 127 расстрелянных. Отказ служить в Красной Армии мог кончиться для Булгакова столь же печально, как и для безымянного мальчика-кадета из романа Слезкина. Бежать же от большевиков, чтобы остаться в Киеве, для будущего писателя особого смысла не имело. Ведь в тот момент в город уже ворвались петлюровцы, а они точно так же могли расстрелять его за дезертирство, останься он дома. Вероятно, Булгаков полагал в тот момент, что если не уйти с красными, то в родном городе все равно придется скрываться. Татьяна Николаевна прямо утверждает, что «в августе прошел слух, что возвращается Петлюра. Конечно, Михаилу бы не поздоровилось, и вот мы пошли прятаться в лес. Вера с Варей, братья и еще немец один военный, который за Варькой ухаживал. Михаил опять браслетку у меня брал (Тасину браслетку Булгаков считал талисманом удачи. — Б. С). И вот мы там несколько дней прятались в сарае или домике каком-то. Немного вещей у нас было и продукты. Готовили — там во дворе печка была. Там так страшно было, если бы вы знали! Но Петлюра так и не появился, боя не было, и пришли белые. Тогда мы вернулись».
Отметим сразу, что в рассказе Т. Н. Лаппа есть бросающиеся в глаза противоречия. Во-первых, она признала, что муж взял у нее браслетку — а он делал это, когда покидал ее на время. Но тут же Татьяна Николаевна пишет, что они прятались с Михаилом вместе, хотя убежище их описывает крайне неопределенно — то ли сарай, то ли домик, да еще с печкой на улице (это в лесу-то!). Она заявляет, что вернулись они в Киев уже после прихода белых, но о встрече генерала Бредова, прибывшего в город в первый день вступления туда добровольческих частей, повествует явно как непосредственная очевидица событий: «Генерала Бредова встречали хлебом-солью, он на белом коне... торжественно все так
Михаил Булгаков в годы гражданской войны. 1918—1920
было». Не могли же Булгаковы вернуться в Киев утром 31 августа, когда в город как раз входили петлюровцы. Все эти противоречия снимаются, если верна наша версия о том, что в конце августа 1919 Булгаков оставил Киев, опасаясь петлюровцев, так что писатель позднее сказал другу и органам сущую правду. Однако Михаил Афанасьевич не в лес ушел прятаться, а отступил, мобилизованный в Красную Армию, в то время как Татьяна Николаевна осталась в Киеве и наблюдала вступление туда корпуса Добровольческой армии во главе с генералом Н. Э. Бредовым. Рассказ же Т. Н. Лаппа, на наш взгляд, призван был лишь скрыть службу Булгакова в Красной Армии. Да и странно прятаться в лесу, когда вокруг Киева много банд.
В воспоминаниях Т. Н. Лаппа, связанных с обстоятельствами ухода будущего писателя в белую армию, есть еще одна существенная неувязка. Татьяна Николаевна сообщала, что она присоединилась к мужу во Владикавказе через одну-две недели после его отъезда из Киева, а уехал Булгаков будто бы в начале сентября. В этом случае они должны были воссоединиться на новом месте в период между 15 и 20 сентября, а уже через несколько дней, по словам Т. Н. Лаппа, Михаила «направили в Грозный, в перевязочный отряд». Татьяна Николаевна оставалась в Грозном, а Булгаков периодически выезжал в свой отряд, к передовым позициям, а «потом наши попалили там аулы, и все это быстро кончилось. Может, месяц мы были там». Если принять, что в Грозный они прибыли в 20-х числах сентября, то уехать оттуда должны были соответственно в 20-х числах октября, причем к тому времени восстание горцев уже' подавили. Однако это противоречит утверждению самого писателя о том, что в ноябре он участвовал в походе за Шали-аул (сам этот аул был взят 1 ноября). Кроме того, первый булгаковский фельетон «Грядущие перспективы» был опубликован в газете «Грозный» 13/26 ноября 1919 года, причем вырезка из газеты с частью этого фельетона сохранилась в булгаковском архиве, что предполагает присутствие Булгакова в Грозном по крайней мере до 26 ноября. Очевидно, они выехали из Грозного (через Бес-
БоРис С01™108 ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 3.
Михаил Булгаков в годы гражданской войны. 1918—1920
Из
 лан во Владикавказ, как вспоминает Татьяна Николаевна) в самом конце ноября или в начале декабря. Тогда, если верно сообщение Т. Н. Лаппа, что Булгаков с ней пробыл в Грозном около месяца, приехать в этот город они должны были в 20-х числах октября, незадолго До штурма Чечен-аула (напомним, он был взят 28—29 октября). Если допустить, что во Владикавказ перед этим Татьяна Николаевна прибыла на одну-две недели позже Михаила Афанасьевича, то Булгаков должен был выехать из Киева в промежутке между 9 и 16 октября, но уж никак не в начале сентября. Не исключено также, что Михаил вызвал Тасю во Владикавказ даже раньше, чем через неделю после своего отъезда, а в Грозном они могли пробыть и меньше месяца. В целом хронология не противоречит нашему утверждению, что Булгаков выехал из Киева во Владикавказ в конце или сразу после киевских событий 14—16 октября.
лан во Владикавказ, как вспоминает Татьяна Николаевна) в самом конце ноября или в начале декабря. Тогда, если верно сообщение Т. Н. Лаппа, что Булгаков с ней пробыл в Грозном около месяца, приехать в этот город они должны были в 20-х числах октября, незадолго До штурма Чечен-аула (напомним, он был взят 28—29 октября). Если допустить, что во Владикавказ перед этим Татьяна Николаевна прибыла на одну-две недели позже Михаила Афанасьевича, то Булгаков должен был выехать из Киева в промежутке между 9 и 16 октября, но уж никак не в начале сентября. Не исключено также, что Михаил вызвал Тасю во Владикавказ даже раньше, чем через неделю после своего отъезда, а в Грозном они могли пробыть и меньше месяца. В целом хронология не противоречит нашему утверждению, что Булгаков выехал из Киева во Владикавказ в конце или сразу после киевских событий 14—16 октября.
Встает вопрос, как именно мог попасть Булгаков от красных к белым. В конце августа 1919 года Киев оставляли части 44-й стрелковой дивизии и Днепровской флотилии. Они же совместо с 45-й и 47-й стрелковыми дивизиями фастовской группы участвовали в октябрьском наступлении на город. Никаких данных о службе Булгакова в этих соединениях в архивах пока обнаружить не удалось*. Однако, принимая во внимание краткость пребывания будущего писателя в составе Красной Армии (около полутора месяцев) и плохое состояние учета личного состава в советских войсках в то время, шансы найти такие данные очень невелики.
Поиски свидетельств пребывания Булгакова в Красной Армии на Киевском участке фронта в сентябре — октябре 1919 года, предпринятые по просьбе автора П. А. Аптекарем в Российском государственном военном архиве, не увенчались успехом. Надо учесть и то, что зна-
 * Так, в списках личного состава Днепровской военной флотилии за 1919 год нам удалось найти лишь одного Булгакова — Леонида Ивановича, рулевого сторожевого судна «Гордый», 1901 года рождения, уроженца г. Алешки Таврической губернии, холостого. Находился ли он в каком-либо родстве с Михаилом Булгаковым, выяснить пока не удалось.
* Так, в списках личного состава Днепровской военной флотилии за 1919 год нам удалось найти лишь одного Булгакова — Леонида Ивановича, рулевого сторожевого судна «Гордый», 1901 года рождения, уроженца г. Алешки Таврической губернии, холостого. Находился ли он в каком-либо родстве с Михаилом Булгаковым, выяснить пока не удалось.
чительная часть документов была утрачена во время поражения красных в Киеве в середине октября, когда добровольцам удалось захватить часть обозов.
Еще меньше надежды найти документальные данные о пребывании Булгакова в белой армии, лишь очень незначительная часть архивов которой сохранилась в эмиграции. Здесь остается принять во внимание то, что писатель сделал автобиографического героя рассказа «Необыкновенные приключения доктора» начальником медслужбы 3-го Терского казачьего полка, и считать, что сам он занимал ту же должность.
То, что Булгаков мог быть мобилизован белыми в Киеве и сразу же в начале сентября направлен на Северный Кавказ, как настаивала Т. Н. Лаппа, кажется весьма маловероятным. Дело в том, что осенью 1919 года к офицерам и чиновникам, призванным на территории, ранее находившейся под контролем Советов, деникинская армия относилась с большим недоверием. Разведсводки Красной Армии так рисовали обстановку в занятом белыми Киеве: мобилизованные офицеры «принижены и даже не допускаются в офицерскую столовую. Доверия к мобилизованным нет, и за ними учрежден надзор добровольцев»; «офицеры, служившие при советской власти, Деникиным лишаются всех чинов и отправляются в армию рядовыми». По многочисленным свидетельствам белых мемуаристов, при мобилизации в Киеве, как и в других местах, офицеры проходили длительную фильтрационную проверку в образованной контрразведкой судебно-следственной комиссии, и даже те из них, кто сочувствовал целям Добровольческой армии, далеко не сразу зачислялись в ее ряды; большинство офицеров, начавших проходить проверку сразу после вступления белых в Киев в начале сентября, так и не успели завершить ее до начала октябрьских боев. Часть из них участвовала в этих боях на стороне деникинцев, другие разошлись по домам или покинули город. Тот же Г. К. Лукомский, перечисляя ошибки белых в аграрном и национальном вопросах, особо подчеркивает «ошибки при проверке офицеров, шедших лавиной в армию (тогда как никакие проверки не помогли: в дроздовском отряде ока-
1X4 Б°РИС С01""108 ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
глава з.
Михаил Булгаков в годы гражданской войны. 1918—1920
115

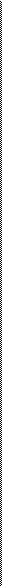 зался сильнейший большевик Тавровский)». Свидетельство такого рода есть и в воспоминаниях Т. Н. Лаппа: «...Когда пришли белые, то было разочарование. Страшное было разочарование у интеллигенции. Начались допросы, обыски, аресты... спрашивали, кто у кого работал...»
зался сильнейший большевик Тавровский)». Свидетельство такого рода есть и в воспоминаниях Т. Н. Лаппа: «...Когда пришли белые, то было разочарование. Страшное было разочарование у интеллигенции. Начались допросы, обыски, аресты... спрашивали, кто у кого работал...»
Несколько легче было положение в конных и пеших партизанских (летучих) отрядах, куда, по воспоминаниям современников, зачисляли без проверки. Если Булгаков попал в плен или перебежал в одну из боевых белых частей, особенно казачьих, где порядки были более вольными, его могли определить на должность военного врача при наличии вакансии сразу, не подвергая многодневной проверке. Кстати, разведорганы Красной Армии в сентябре недалеко от Киева зафиксировали Терский конный полк (но никак не 3-й, поскольку 3-й Терский полк был сформирован в составе местной Северо-Кавказской бригады и не покидал места своей дислокации), который в ходе октябрьских боев вполне мог быть переброшен в город. Если Булгаков сдался именно терским казакам, то его последующее перемещение на Северный Кавказ становится вполне объяснимым. Казаков логично было перебросить в родные места для подавления вспыхнувшего восстания горцев. Если бы Булгаков был просто в общем порядке мобилизован в Киеве, его скорее должны были направить на фронт в район Орел — Воронеж — Кромы, где шли главные бои, было особо много раненых и ощущалась острая нехватка медперсонала.
Можно с большой долей уверенности предположить также, что в очерке «Киев-город» запечатлены подробности октябрьских боев в Киеве: «Сказать, что „Печер-ска нет", — это будет, пожалуй, преувеличением. Печерск есть, но домов в Печерске на большинстве улиц нету. Стоят обглоданные руины, и в окнах кой-где переплетенная проволока, заржавевшая, спутанная. Если в сумерки пройтись по пустынным и гулким широким улицам, охватят воспоминания. Как будто шевелятся тени, как будто шорох из земли. Кажется, мелькают в перебежке цепи, дробно стучат затворы... вот-вот вырастет
из булыжной мостовой серая, расплывчатая фигура и ахнет сипло:
— Стой!
То мелькнет в беге цепь и тускло блеснут золотые погоны, то пропляшет в беззвучной рыси разведка, в жупанах, в шапках с малиновыми хвостами, то лейтенант в монокле, с негнущейся спиной, то вылощенный польский офицер, то с оглушающим бешеным матом пролетят, мотая колоколами-штанами, тени русских матросов» (несомненно, матросы Днепропетровской флотилии). Далее писатель переносится воспоминаниями в Мариин-ский парк — как и Печерск, место ожесточенных боев в октябре 1919 года: «Днем, в ярком солнце, в дивных парках над обрывами — великий покой. Начинают зеленеть кроны каштанов, одеваются липы. Сторожа жгут кучи прошлогодних листьев, тянет дымом в пустынных аллеях. Редкие фигуры бродят по Мариинскому парку, склоняясь, читают надписи на вылинявших лентах венков. Здесь зеленые боевые могилки. И щит, окаймленный иссохшей зеленью. На щите исковерканные трубки, осколки измерительных приборов, разломанный винт. Значит, упал в бою с высоты неизвестный летчик и лег в гроб в Мариинском парке.
В садах большой покой. В Царском светлая тишина. Будят ее только птичьи переклички да изредка доносящиеся из города звонки киевского коммунального трамвая».
Что ж, здесь Булгаков мастерски рисует батальные сцены. Это умение проявляется и в «Белой гвардии» и даже в немногих военных сценах «Мастера и Маргариты». Но что показательно, описываются главным образом бои в Печерске и Мариинском парке, местах, где решилась судьба октябрьского наступления красных. Только тогда мог видеть Булгаков на улицах города бегущих в атаку днепровских матросов (в 1919 году в феврале и августе советские войска заняли и оставили город без боя). Не вызывает сомнения, что описание октябрьских боев в «Киев-городе» дано очевидцем, находившимся рядом с боевыми порядками сражающихся.
И еще один важный момент. Уже в «Киев-городе» в
116 БоРис С01""10»- ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
глава з.
Михаил Булгаков в годы гражданской войны. 1918—1920
117

 1923 году Булгаков ужасам войны противопоставляет «светлый покой» природы — садов, парков, каштанов, лип. В этом словосочетании, по крайней мере, свет и покой не противостоят друг другу, а сливаются в некое органическое целое, как и в последнем булгаковском романе «Мастер и Маргарита».
1923 году Булгаков ужасам войны противопоставляет «светлый покой» природы — садов, парков, каштанов, лип. В этом словосочетании, по крайней мере, свет и покой не противостоят друг другу, а сливаются в некое органическое целое, как и в последнем булгаковском романе «Мастер и Маргарита».
После возвращения из Грозного, вероятно, в начале декабря 1919 года, Булгаков поселился во Владикавказе, где работал в местном военном госпитале. Т. Н. Лаппа так рассказывала об этом: «Мы приехали, и Михаил стал работать в госпитале. Там персонала поубавилось, и поговаривали, что скоро придут красные... Это еще зима 1919-го была. Поселили нас очень плохо: недалеко от госпиталя в Слободке, холодная очень комната, рядом еще комната — большая армянская семья жила. Потом в школе какой-то поселили — громадное пустое здание деревянное, одноэтажное... В общем, неуютно было. Тут мы где-то познакомились с генералом Гавриловым и его женой Ларисой. Михаил, конечно, тут же стал за ней ухаживать. Новый год мы у них встречали, 1920-й. Много офицеров было, много очень пили... «кизлярское» там было, водка или разведенный спирт, не помню я уже... И вот генерал куда-то уехал, и она предложила нам жить у них в доме. Дом, правда, не их был. Им сдавал его какой-то казачий генерал. Хороший очень дом, двор кругом был, и решеткой такой обнесен, которая закрывалась. Мне частенько через нее лазать приходилось. И стали мы жить там, в бельэтаже. Михаилу платили жалованье, а на базаре все можно было купить: муку, мясо, селедку... И еще он там в газету писал...» Булгаков в то время действительно начал публиковаться в местных газетах. Обстоятельства своего литературного дебюта он изложил в автобиографии 1924 года: «Как-то ночью в 1919 году, глухой осенью, едучи в расхлябанном поезде, при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под керосина, написал первый маленький рассказ. В городе, в который затащил меня поезд, отнес рассказ в редакцию
газеты. Там его напечатали. Потом напечатали несколько фельетонов. В начале 1920 года я бросил звание с отличием и писал». В другой биографии, написанной в 1937 году, Булгаков утверждал, что «в 1919 году окончательно бросил занятие медициной». П. С. Попов в первой булгаковской биографии сообщил: «По собственному свидетельству, Михаил Афанасьевич пережил душевный перелом 15 февраля 1920 года, когда навсегда бросил медицину и отдался литературе». Думается, биограф здесь ошибается. Дело в том, что как раз 15 февраля 1920 года (ст. ст.) во Владикавказе вышел первый номер газеты «Кавказ», где в числе ее сотрудников значилось и имя М. Булгакова (наряду с Ю. Слезкиным, Е. Венским и др.). Вероятно, это событие и вызвало душевное волнение писателя — он был объявлен журналистом ведущей местной газеты. Противоречие же в собственных булгаковских показаниях о том, когда он оставил медицину — в 1919 или 1920 году, можно примирить предположением, что это событие случилось по старому стилю в конце декабря 1919 года, а по новому — в начале января 1920-го. Факт оставления Булгаковым службы в госпитале признает и Т. Н. Лаппа, хотя при этом прямо и не пишет, на какую новую службу он поступил. Она вспоминала: «Когда госпиталь расформировали — в первых месяцах 1920 года, заплатили жалованье — «ленточками». Такие деньги были — кремовое поле, голубая лента». Маловероятно, что в разгар боевых действий могли расформировать целый госпиталь, зато вполне правдоподобно, что после увольнения из госпиталя Булгаков под расчет получил все причитающееся жалованье («ленточки» — это денежные знаки, выпущенные ростовской конторой Госбанка, называвшиеся поэтому «донскими» и бывшие, наряду с «царскими», или «николаевскими», кредитными билетами, самой устойчивой валютой на юге России в период гражданской войны). На наш взгляд, уход из госпиталя произошел в самом начале января 1920 года (н. ст.). Подтверждение этому можно усмотреть в булгаковском фельетоне «В кафэ», опубликованном в издававшейся во Владикавказе «Кавказской газете» 18(5) января 1920

| 119 |
| глава з. |
JJS Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
года. Там нет никаких доказательств того, что автор фельетона — военный врач, зато прямо говорится, что он имеет врачебное свидетельство, освобождающее от военной службы по болезни. Такой вывод можно сделать из воображаемого диалога автора с румяным, хорошо одетым штатским молодым человеком «в разгаре призывного возраста»: «Оказывается, этот цветущий, румяный молодой человек болен... Отчаянно, непоправимо, неизлечимо вдребезги болен! У него порок сердца, грыжа и самая ужасная неврастения. Только чуду можно приписать то обстоятельство, что он сидит в кофейной, поглощая пирожные, а не лежит на кладбище, в свою очередь поглощаемый червями.
И наконец, у него есть врачебное свидетельство!
— -Это ничего, — вздохнувши, сказал бы я, — у меня
у самого есть свидетельство, и даже не одно, а целых три.
И тем не менее, как видите, мне приходится носить анг
лийскую шинель (которая, к слову сказать, совершенно
не греет) и каждую минуту быть готовым к тому, чтоб
оказаться в эшелоне или еще в какой-нибудь неожидан
ности военного характера. Плюньте на свидетельства!
Не до них теперь! Вы сами только что так безотрадно
рисовали положение дел...
Тут господин с жаром залепетал бы дальше и стал бы доказывать, что он, собственно, уже взят на учет и работает на оборону там-то и там-то'.
— Стоит ли говорить об учете, — ответил бы я, —
попасть на него трудно, а сняться с него и попасть на
службу на фронт — один момент!»
При этом в воображаемой беседе Булгаков признавался: «Я не менее, а может быть, даже больше вас люблю спокойную мирную жизнь, кинематографы, мягкие диваны и кофе по-варшавски!
Но, увы, я не могу ничем этим пользоваться всласть!
И вам и мне ничего не остается, как принять участие так или иначе в войне, иначе нахлынет на нас красная туча, и вы сами понимаете, что будет...
Так говорил бы я, но, увы, господина в лакированных ботинках я не убедил бы».
Из сказанного в фельетоне можно предположить, что
Михаил Булгаков в годы гражданской войны. 1918—1920
Булгаков был уволен с должности военного врача по болезни, а упоминаемые три свидетельства, это, скорее всего, удостоверение Вяземской земской управы от 22 февраля 1918 года, выданное при увольнении из местной больницы на основе свидетельства Московского уездного воинского революционного штаба по части запасной, удостоверение Сычевской земской управы от 18 сентября 1917 года о службе в сычевском земстве (удостоверения из Вязьмы и Сычевки сохранились в булгаковском архиве) и третье — удостоверение об увольнении из Владикавказского госпиталя, тоже, скорее всего, по болезни. Это удостоверение, вероятно, датированное началом января 1920 года (если оно, конечно, существовало в природе) — Булгаков сохранить никак не мог — при красных оно подтверждало бы его службу у белых и могло указывать и на новое место службы — скорее всего, Осваг — Осведомительное агентство. Осваг выполнял функции отдела печати при деникинском правительстве и призван был организовать пропагандистское обеспечение войск и населения, издавая газеты и журналы. Булгакова могли счесть идейным белогвардейцем и репрессировать, так что службу в Осваге надо было таить пуще службы в военном госпитале белых (последняя скорее могла обернуться не репрессиями, а новой мобилизацией в качестве военного врача).
Можно допустить, что в кафе, описанном в фельетоне, Булгаков сидел вскоре после 8 января 1920 года — дня взятия Ростова-на-Дону Красной Армией, так как именно этот факт фигурирует в разговорах как причина паники в белом тылу. Скорее всего, к середине января военным врачом Булгаков уже не был.
Если предположить, что Булгаков служил в Осваге, то участие его в газете «Кавказ» становится понятным — он мог быть там штатным журналистом. Последние же выезды из Владикавказа по железной дороге, наверное, были связаны уже не с врачебной, а с журналистской деятельностью. Возможно, именно журналистика, которая тоже могла быть связана с фронтом, имеется в виду в фельетоне «В кафэ» в словах «принять участие так или иначе в войне». Здесь же Булгаков рассказывает и о
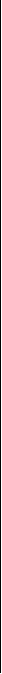 |
| 121 |
| глава з. |
220 Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
своем опыте владения оружием: «Что касается винтовки, то это чистые пустяки! Уверяю вас, что ничего нет легче на свете, чем выучиться стрелять из винтовки. Говорю вам это на основании собственного опыта. Что же касается военной службы, то что ж поделаешь! Я тоже не служил, а вот приходится... Уверяю вас, что меня нисколько не привлекает война и сопряженные с нею беспокойства и бедствия».
Думается, упоминание об обращении с винтовкой относится к тому времени в ноябре 1919-го, когда Булгаков в качестве военного врача принимал участие в карательных экспедициях против восставших чеченцев и даже, как мы помним, был контужен. Слова же «я тоже не служил, а вот приходится...» относятся, мы полагаем, уже к новой должности Булгакова. Ведь о службе военным врачом он так сказать не мог, поскольку ранее, в 1916 году, уже работал во фронтовых госпиталях. Но служба Булгакова в момент написания фельетона явно не была службой боевого офицера, зато была связана с постоянными железнодорожными разъездами как на фронт, так и в тыловые районы («каждую минуту быть готовым к тому, чтоб оказаться в эшелоне, или еще к какой-нибудь неожиданности военного характера» — может быть, спешной эвакуации из-за приближения красных?). В одной из таких поездок он подхватил тиф, что во многом предопределило дальнейшую судьбу писателя.
Что же касается призывов в воображаемом диалоге идти на фронт, обращенных автором и к самому себе, то они явно иллюзорны, ибо невозможно убедить тыловую кофейную публику идти на фронт ни угрозами, ни силой оружия, ни личным примером. Поэтому слова: «И вам и мне ничего не остается, как принять участие так или иначе в войне», — автор произносит лишь в фантастическом видении, которое быстро рассеивается под звуки танго. Будущий автор «Белой гвардии», «Дней Турбиных» и «Бега» уже давно понимал обреченность белого дела.
По рассказам Т. Н. Лаппа, последняя поездка Булгакова из Владикавказа при белых была в Пятигорск. Во время этой поездки он заразился возвратным тифом: «Михаил съездил — на сутки. Вернулся: «Кажется, я
Михаил Булгаков в годы гражданской войны. 1918—1920
заболел». Снял рубашку, вижу: насекомое. На другой день — головная боль, температура сорок. Приходил очень хороший местный врач, потом главный врач госпиталя (еще одно доказательство, что госпиталь не был расформирован. — Б. С). Он сказал, что у Михаила возвратный тиф: «Если будем отступать — ему нельзя ехать». К тому времени, очевидно, уже произошло последнее крупное сражение зимне-весенней кампании 1920 года у донской станицы Егорлыцкой (17—18 февраля), окончившееся полным поражением последних боеспособных частей Вооруженных Сил Юга России. Кроме того, ряды белых косил тиф. Катастрофа стала очевидной всем. В другой версии своего рассказа Татьяна Николаевна вспоминала: «А белые тут уже зашевелились, красных ждали. Я пошла к врачу, у которого Михаил служил, говорю, что он заболел. «Да что вы! Надо же сматываться!». Я говорю: «Не знаю как. У него температура высокая, страшная головная боль, он только стонет и всех проклинает. Я не знаю, что делать». Дал он мне адрес еще одного врача, владикавказского, тоже военный. Они его вместе посмотрели и сказали, что трогать и куда-то везти его нельзя. Тут приходят соседи, кабардинцы, приносят черкески: «Вот. Одевайтесь и давайте назад. Сегодня уходим». Я, конечно, никуда уйти не могу — Михаил лежит весь горячий, бредит, ерунду какую-то несет... Я безумно уставала. Как не знаю что. Все же надо было что-то делать — воду все время меняла, голову намачивала... лекарства врачи оставили, надо было давать... И вот, дня через два я выхожу — тут уж не до продуктов, в аптеку надо было — город меня поразил: пусто, никого. По улицам солома летает, обрывки какие-то, тряпки валяются, доски от ящиков... Как будто большой пустой дом, который бросили. Белые смылись тихо, никому ничего не сказали. По Военно-Грузинской дороге. Конечно, они глупо сделали — оставили склады с продовольствием. Ведь можно было как-то... в городе оставались люди, которые у них работали. В общем — никого нет. И две недели никого не было. Такая была анархия! Ингуши грабили город, где-то все время выстрелы... Я бегу, меня один за руку схватил. Ну, думаю,
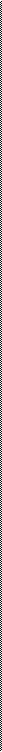 ]_22 БоРис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
]_22 БоРис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
конец. Но ничего, обошлось. И вот Михаил лежал. Один раз у него глаза закатились, я думала — умер. Но потом прошел кризис, и он медленно-медленно стал выздоравливать. Это когда уже красные стали».
То что военный врач, начальник Булгакова по госпиталю, узнал о его болезни только после прихода Татьяны Николаевны — лишнее доказательство, что Михаил Афанасьевич в госпитале уже не служил. Данные Т. Н. Лаппа помогают ориентировочно определить время, когда Булгаков заболел. По ее словам выходит, что это случилось дней за пятнадцать до прихода красных. Красные же — партизанские отряды Н. Гикало и других командиров появились во Владикавказе только 22 марта. Значит, Булгаков заболел тифом около 7 марта. Это подтверждается и публикацией в газете «Кавказ» 28 февраля его фамилии в числе авторов первого номера. Скорее всего, уже после выхода этого номера Булгаков стал собираться в Пятигорск. Что дело не было связано с медициной, доказывается и тем, что первоначально, по свидетельству Т. Н. Лаппа, он хотел отправить в Пятигорск только ее (зачем, Татьяна Николаевна точно не помнила: то ли отвезти что-то, то ли привезти). Возможно, Булгаков намеревался найти в Пятигорске какой-то материал для газеты или, наоборот, пытался отослать туда какие-то свои материалы для публикации. Несколько дней жена не могла достать билет до Пятигорска, и тогда-то Михаил решил сделать это сам.
Реконструированная хронология пребывания Булгакова на Северном Кавказе при белых позволяет предположить, что количество его публикаций в местных газетах ненамного превышает число уже известных. Вероятно, П. С. Попов перепутал 13 и 19 ноября, и на самом деле первый фельетон под названием «Грядущие перспективы» был напечатан 13 ноября (ст. ст.) 1919 года в газете «Грозный». Новые работы писателя могли появиться в газетах лишь в январе 1920-го, после ухода Булгакова из госпиталя. К ним относится и фельетон «В кафэ» в «Кавказской газете». Еще один рассказ «Дань восхищения», известный пока лишь во фрагментах, сохранившихся в булгаковском архиве, опубликован в одной из владикавказских газет в
| Михаил Булгаков в годы 7 'у О гражданской войны. 1918—1920 X jLJ |
| гражд; |
глава з.
первую неделю февраля (ст. ст.) 1920 года. Последующие материалы, если они были, не могли выйти позднее первой недели марта из-за болезни автора и отступления белой армии с Кавказа. Может быть, кому-то еще посчастливится найти неизвестные номера кавказских газет того времени, а в них — новые булгаковские тексты. Пожелаем же удачи будущим исследователям.
Булгаков, очнувшись от тифозного забытья, увидел, что очутился в другом мире, воспринимаемом как безусловно враждебный. По воспоминаниям Татьяны Николаевны, он не раз укорял жену: «Ты — слабая женщина, не могла меня вывезти!» Но его упреки были несправедливы. Вспомним, что говорили врачи: «Что же вы хотите — довезти его до Казбека и похоронить?» Кстати, местный врач, в отличие от начальника госпиталя, с белыми не ушел и, по свидетельству Татьяны Николаевны, именно он помог выходить Михаила Афанасьевича. Как знать, если бы не усилия этих людей, включая безымянного доктора, русская и мировая литература могла бы лишиться великого писателя. А не заболей Михаил Афанасьевич тифом перед уходом белых из Владикавказа, у него было бы очень мало шансов осуществить свое писательское предназначение. Булгаков мог умереть в дороге от болезни, погибнуть в бою, оказаться в плену и быть расстрелянным красными как офицер (кто бы стал разбираться, что он — военный чиновник, — все равно же в погонах!). Наконец, если бы Булгакову даже посчастливилось благополучно перейти грузинскую границу или добраться до черноморских портов и эвакуироваться в Крым, а потом, уже с Врангелем, в Турцию, на Галлипо-лийский полуостров, шансы на успешную литературную деятельность в эмиграции были бы не столь уж велики. Как знать, не пришлось бы Булгакову в этих условиях вновь обратиться к медицине или биологии — в этом нашел себя на чужбине его брат Николай.
Хотя И. П. Воскресенский, как мы помним, помог Булгакову избавиться от тяжкого недуга и Михаил об этом догадывался, его отношение к Ивану Павловичу не
| 125 |
| глава з. |
124 БоРис С°колов ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
изменилось. В 1918 году Варвара Михайловна вышла за Воскресенского замуж и переехала к нему на Андреевский спуск, в дом № 38, что по соседству с прежней квартирой, «домом Турбиных». По словам Т. Н. Лаппа, Булгаков «очень переживал» это событие. В «Белой гвардии», написанной уже после кончины матери, последовавшей в феврале 1922 года, ее похороны отнесены к маю 1918 года — времени, когда она окончательно оставила «дом Турбиных». Об отношениях матери с Воскресенским Булгаков не хотел упоминать даже в романе, и ее отсутствие в турбинской квартире предпочел объяснить иначе. К Воскресенскому он сохранил неприязнь до самой своей смерти. О том, что Варвара Михайловна стала Булгаковой-Воскресенской, как Михаил сам признавался уже будучи смертельно больным в беседе с Н. А. Земской, ему стало известно лишь после посещения могилы матери, из надписи на памятнике. При этом Булгаков заметил сестре: «Я достаточно отдал долг уважения и любви к матери, ее памятник — строки в «Белой гвардии». Речь здесь, несомненно, шла о знаменитых строках авторского монолога в романе: «Мама, светлая королева, где же ты?» И рядом с этим горькое: «Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение?» Очевидно, уход матери к Воскресенскому старший сын переживал особенно болезненно именно в мае 1918 года, еще и потому, что тогда казалось, что жизнь булгаковской семьи, почти все члены которой собрались вместе, наконец-то стала как-то налаживаться. Нелюбовь Михаила к новому мужу матери не разделялась его братьями и сестрами. Например, брат Николай 16 января 1922 года писал из Загреба, куда занесла его судьба вместе с армией Врангеля: «Милый, добрый Иван Павлович, как я счастлив сознанием, что Вы стали близким родным человеком нашей семье. Сколько раз я утешал себя мыслью, что Вы с Лелей поддержите мою добрую мамочку, и все волновался за Ваше здоровье. С Вашим образом у меня связаны самые лучшие, самые светлые воспоминания, как о человеке, приносившем нашему семейству утешение и хорошие идеи доброго русского сердца и примеры безукоризненного воспитания.
Михаил Булгаков в годы гражданской войны. 1918—1920
На словах мне трудно выразить все то, что Вы сделали маме в нашей трудной жизни, нашей семье и мне на заре моей учебной жизни. Бог поможет Вам, дорогой Иван Павлович».
Вероятно, после смерти отца Булгаков ощущал себя старшим мужчиной в семье. В автобиографическом рассказе «Красная корона» (1922) мать не случайно обращается к главному герою: «Ты старший, и я знаю, что ты любишь его. Верни Колю. Верни. Ты старший». Иван Павлович же, по мере сближения с матерью, грозил занять его место и, очевидно, вызывал симпатию младших братьев и сестер. Возможно, именно в этом крылась главная причина неприятия Михаилом Воскресенского.
Жизнь Булгаковых в Киеве осложнялась напряженными отношениями с домовладельцем. Квартиру на Андреевском спуске они снимали у инженера-архитектора Василия Павловича Листовничего. В «Белой гвардии» Булгаков вывел его в образе Василисы — инженера Василия Лисовича, человека жадного и несимпатичного. Вполне возможно, что прототип как раз был совсем неплохим человеком. Он купил дом, когда Булгаковы уже жили там, но оставил их в покое и сам поселился на нижнем этаже. Домовладельцу не нравился шум, который производили поздними вечерами собиравшиеся у Михаила друзья, не нравились и булгаковские пациенты — венерические больные, которых тому приходилось принимать на квартире. Т. Н. Лаппа вспоминала: «Иногда у Михаила возникали конфликты с хозяином дома Василием Павловичем, чаще всего из-за наших пациентов, которых он не хотел видеть в своем доме. Наверное, он боялся за дочь Инну».
Вскоре после прихода петлюровцев в дом на Андреевском спуске явились бандиты и, не найдя в квартире Булгаковых ценных вещей, зашли к Листовничим. По воспоминаниям Татьяны Николаевны и дочери Листовничего И. В. Кончаковской, они кое-чем смогли там поживиться. Так что соответствующий эпизод в «Белой гвардии» — это не плод булгаковской фантазии. Не выдуманы и сцены, где Турбины и Мышлаевский поют царский гимн. И. В. Кончаковская свидетельствовала,
12,6 Б°РИС С"*0"08- ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
глава з.
Михаил Булгаков в годы гражданской войны. 1918—1920
127

 что при петлюровцах, не при гетмане, нечто подобное было, хотя и не совсем так, как описано в романе: «Как-то у Булгаковых наверху были гости; сидим, вдруг слышим — поют: „Боже, царя храни..." А ведь царский гимн был запрещен. Папа поднялся к ним и сказал: „Миша, ты уже взрослый, но зачем же ребят под стенку ставить?" И тут вылез Николка: „Мы все тут взрослые, все сами за себя отвечаем!" А вообще-то, Николай у них был самый тактичный...»
что при петлюровцах, не при гетмане, нечто подобное было, хотя и не совсем так, как описано в романе: «Как-то у Булгаковых наверху были гости; сидим, вдруг слышим — поют: „Боже, царя храни..." А ведь царский гимн был запрещен. Папа поднялся к ним и сказал: „Миша, ты уже взрослый, но зачем же ребят под стенку ставить?" И тут вылез Николка: „Мы все тут взрослые, все сами за себя отвечаем!" А вообще-то, Николай у них был самый тактичный...»
В жизни судьба «Василисы» была трагичной, как домовладелец, «буржуй», он был взят красными в заложники и 31 августа 1919 года при эвакуации баржи с заложниками по Днепру бежал, после чего семья навсегда потеряла его из виду: то ли он погиб в днепровских водах, то ли смог пробраться за границу.
В Киеве Булгаков продолжал работать над рассказами, основанными на смоленских впечатлениях. Впоследствии, в апреле 1921 года, он просил Н. А. Земскую забрать оставшиеся в Киеве рукописи и сжечь их. В другом письме ей же в мае Михаил Афанасьевич повторил просьбу, делая исключение лишь для «Первого цвета». Все эти рукописи он характеризовал теперь одним словом: «хлам», хотя прежде в письме матери просил их сохранить.
Повторим, что первые публикации фельетонов и рассказов Булгаков смог осуществить на Кавказе в издаваемых Освагом газетах. Сегодня нам известны два фельетона и фрагменты рассказа той поры. Тогда у Булгакова уже сложилось твердое намерение стать профессиональным литератором, и первые шаги на этом пути он сделал в качестве журналиста. Однако первые опыты говорят еще не столько о литературном таланте, сколько о политической прозорливости автора. В рассказе «Дань восхищения» описывались события конца октября 1917 года, когда брат Николай и мать чуть не погибли в перестрелке у стен Инженерного училища. Этот рассказ послужил как бы зародышем «Белой гвардии». Здесь уже звучала памятная по пьесе «Дни Турбиных» песня: «Здравствуйте, дачники, Здравствуйте, дачницы, съемки у нас уже начались!»
Что же касается двух фельетонов — «Грядущие перспективы» и «В кафэ», то они в полной мере дают представление о политических взглядах писателя. «Грядущие перспективы», напомним, появились 26 ноября 1919 года. А к 9 ноября стало известно, что Вооруженные Силы Юга России проиграли генеральное сражение в районе Воронеж — Орел — Курск. Как мы помним, весть о том, что белые оставили Ростов, дошла до Владикавказа через десять дней. Следовательно, можно предположить, что и об этом поражении Булгаков знал по меньшей мере за неделю до публикации «Грядущих перспектив». Наверняка он уже тогда не строил иллюзий насчет возможности благоприятного для белых исхода гражданской войны. В фельетоне подчеркивалось, что «наша несчастная родина находится на самом дне ямы позора и бедствия, в которую ее загнала «великая социальная революция», что «настоящее перед нашими глазами. Оно таково, что глаза эти хочется закрыть. Не видеть!» Основываясь на недавно просмотренных номерах английского иллюстрированного журнала, Булгаков в пример России ставил Запад: «На Западе кончилась великая война великих народов. Теперь они зализывают свои раны.
Конечно, они поправятся, очень скоро поправятся!
И всем, у кого, наконец, прояснился ум, всем, кто не верит жалкому бреду, что наша злостная болезнь перекинется на Запад и поразит его, станет ясен тот мощный подъем титанической работы мира, который вознесет западные страны на невиданную еще высоту мирного могущества». Какое же будущее видел в тот момент Булгаков для России, как оценивает ее перспективы в сравнении с Западом? Весьма мрачно:
«Мы опоздаем...
Мы так сильно опоздаем, что никто из современных пророков, пожалуй, не скажет, когда же наконец мы догоним их и догоним ли вообще?
Ибо мы наказаны.
Нам немыслимо сейчас созидать. Перед нами тяжкая задача — завоевать, отнять свою собственную землю».
Писатель утверждал: «Безумство двух последних лет толкнуло нас на страшный путь, и нам нет остановки, нет

 12,8 Борис Соколов- трп ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
12,8 Борис Соколов- трп ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
передышки. Мы начали пить чашу наказания и выпьем ее до конца». Он провозглашал: «Расплата началась». Как и за что придется платить? На этот вопрос Булгаков отвечал так:
«Нужно будет платить за прошлое неимоверным трудом, суровой бедностью жизни. Платить и в переносном и в буквальном смысле слова.
Платить за безумство мартовских дней, за безумство дней октябрьских, за самостийных изменников, за развращение рабочих, за Брест, за безумное пользование станков для печатания денег... за все!
И мы выплатим.
И только тогда, когда будет уже очень поздно, мы вновь начнем кой-что созидать, чтобы стать полноправными, чтобы нас впустили опять в версальские залы (речь здесь идет о Версальской мирной конференции. — Б. С.).
Кто увидит эти светлые дни?
Мы?
О нет! Наши дети, быть может, а быть может, и внуки, ибо размах истории широк, и десятилетия она так же легко «читает», как и отдельные годы.
И мы, представители неудачливого поколения, умирая еще в чине жалких банкротов, вынуждены будем сказать нашим детям:
— Платите, платите честно и вечно помните социальную революцию!»
Перед нами текст, который, не будь он опубликован в конкретной газете в конкретный день, было бы непросто датировать, особенно если убрать из него несколько предложений, относящихся к первой мировой и гражданской войнам. Подобная статья могла появиться и в конце семнадцатого, и в конце девятнадцатого года, и в тридцатые годы (правда, только в эмигрантской печати), и в конце 80-х — в СССР, и в 1991-м, и в 1994-м — опять в России. Когда в 1988 году «Грядущие перспективы» были републикованы в журнале «Москва», нам довелось зачитывать фрагменты фельетона без указания автора и времени написания знакомым и друзьям. Практически все, может быть, введенные в заблуждение обложкой популярного журнала, считали, что автор — кто-то из извест-
| ГЛАВАЗ. |
Михаил Булгаков в годы 7 О (Л
гражданской войны. 1918—1920 1 Z У
ных современных публицистов. В одном случае даже было названо конкретно имя Вадима Кожинова (конечно же, в тот раз куски про Запад не зачитывались). Думается, что в «Грядущих перспективах» Булгаков обозначил основные проблемы российского общества всего XX века, к несчастью, оставшиеся актуальными и не разрешенными и сегодня. Фельетон выдает в писателе западника, не славянофила, ибо в Западе видит он для России образец развития. При этом содержание и тон написанного не оставляют сомнения, что Булгаков не верил в победу белых и сознавал, что власть коммунистов в стране установилась надолго, на несколько поколений, так что счастливая жизнь может быть лишь у внуков. Он разделял общую для большинства русской интеллигенции веру в светлое будущее, рождаемую мрачным настоящим. Булгаков предсказал печальную судьбу своего поколения, которое до войны и революции, как написано в «Киев-городе», казалось ему и всем сверстникам «беспечальным».
А вот причины мрачного послереволюционного настоящего названы автором когда совершенно верно, а когда и явно ошибочно. Можно согласиться с тем, что «безумное пользование станком для печатания денег» после февральской революции, а также полная недееспособность Временного правительства были одними из главных причин торжества большевиков. Писатель разделял лозунг белой гвардии о «единой и неделимой России» и потому осуждал «самостийных изменников». Однако именно отсутствие сколько-нибудь разумной национальной политики погубило Вооруженные Силы и правительство Юга России, равно как и отсутствие удовлетворительного для массы крестьянства решения аграрного вопроса. Кстати, в фельетоне Булгаков упоминает лишь «героев-добровольцев», не замечая двух других составляющих деникинской армии — казаков Дона и Кубани. Отказ Деникина от признания донской и кубанской автономий привел к резкому падению боеспособности казачьих частей и к началу катастрофы в ноябре 1919-го, в марте 1920 года завершившейся провальной новороссийской эвакуацией. Отказ белых от
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
глава з.
Михаил Булгаков вгоды 1 О 7
гражданской войны. 1918—1920 1 Л
признания Украинской Народной Республики и Польши привел к тому, что польские и украинские войска осенью 1919-го, в момент пика успехов Вооруженных Сил Юга России, временно прекратили борьбу против Красной Армии, что позволило командованию красных снять с этих фронтов основные силы и бросить их на разгром Деникина. Тыл же деникинской армии сотрясали массовые крестьянские повстанческие движения. В районе Екатеринослава действовали отряды Махно (Т. Н. Лаппа вспоминала, что она ехала во Владикавказ через Екате-ринослав и очень опасалась налета на поезд махновцев, но все обошлось). На Кубани с белыми сражались «зеленые», на Кавказе — горцы Чечни и Дагестана. Шансов на победу над большевиками не было, и Булгаков не мог тогда, в ноябре 1919-го, не сознавать этого. Недаром в отклике на фельетон Булгакова обвинили в пораженческих настроениях, несмотря на такие вот оптимистические пассажи: «Герои-добровольцы рвут из рук Троцкого пядь за пядью русскую землю.
И все, все — и они, бестрепетно совершающие свой долг, и те, кто жмется сейчас по тыловым городам юга, в горьком заблуждении полагающие, что дело спасения страны обойдется без них, все ждут страстно освобождения страны.
И ее освободят.
Ибо нет страны, которая не имела бы героев, и преступно думать, что родина умерла...
Мы будем завоевывать собственные столицы.
И мы завоюем их.
Англичане, помня, как мы покрывали поля кровавой росой, били Германию, оттаскивая ее от Парижа, дадут нам в долг еще шинелей и ботинок, чтобы мы могли скорее добраться до Москвы.
И мы доберемся.
Негодяи и безумцы будут изгнаны, рассеяны, уничтожены.
И война кончится».
Подобные строки в конце ноября 1919 года должны были восприниматься читателями как издевательство. Разгромленные под Орлом «герои-добровольцы» вместе с разгромленными под Воронежем донцами Мамонтова и
кубанцами Шкуро продолжали свой стремительный бег к морю, и думать забыв о походе на Москву. Булгаков, конечно же, просто уступал требованиям военной цензуры и редактора. В романе Слезкина «Девушка с гор» Алексей Васильевич вспоминает редактора деникинской газеты, «в английском френче», говорившего: «Мы должны пробуждать мужество в тяжелую минуту, говорить о доблести, о напряжении сил». Эти слова почти буквально совпадают с оптимистической частью «Грядущих перспектив», где еще утверждается, что «придется много драться, много пролить крови, потому что пока за зловещей фигурой Троцкого еще топчутся с оружием в руках одураченные им безумцы, жизни не будет, а будет смертная борьба». Все эти строки, точно отражающие редакторскую установку, явно не соответствуют взглядам Булгакова и не умаляют общего безрадостного чувства от фельетона, возникающего у читателей, а фраза насчет того, что «жизни не будет, а будет смертная борьба», скорее относится не к фантастическим победным сражениям с красными, а к будущей жизни автора и всей русской интеллигенции под пятой большевиков (именно так, «Под пятой», озаглавил Булгаков свой дневник 20-х годов). Писатель вполне мог повторить слова Алексея Васильевича, которому послужил прототипом, о том, что «не мог петь хвалебных гимнов Добр-армии, стоя на подмостках, как его популярный коллега, громить большевиков. Он слишком много видел...»
Булгаков действительно слишком много видел: бессмысленную бойню, трагедию мирного населения, жестокость контрразведки. Все это впоследствии отразилось на страницах его произведений. Вероятно, при переезде из Киева во Владикавказ он запомнил повешенного на фонаре в Бердянске рабочего «со щекой, вымазанной сажей», изображенного позднее в автобиографической «Красной короне». Рабочего повесили «после того, как нашли у него в сапоге скомканную бумажку с печатью». Автор ушел, «чтоб не видеть, как человека вешают». Этот эпизод стал причиной душевной болезни автора, как, вероятно, и болезни генерала, отдавшего приказ о казни. Здесь — истоки трагедии генерала Хлудова из «Бега» и Понтия Пилата из «Мастера и Маргариты».
J32 Б°РИС Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
глава з.
Михаил Булгаков в годы гражданской войны. 1918—1920
133
А в «Необыкновенных приключениях доктора», Булгаков как бы предупреждает об отмщении от имени себя, тогдашнего, участвовавшего в походах на Чечен-аул и Шали-аул: «Голову даю на отсечение, что все это кончится скверно. И поделом — не жги аулов».
И даже на казенный, подцензурный оптимизм нет намека в фельетоне «В кафэ». Здесь не осталось никаких надежд остановить «красную тучу», а власть, способная бросить на фронт раскормленную и наглую тыловую публику, существует лишь в авторском воображении. И не случайно в фельетоне упоминается «английская шинель (которая, к слову сказать, совершенно не греет)» — символ тщетности английской помощи, к которой взывал автор в «Грядущих перспективах». То, что журналист-автор тут в военной шинели, так же, как и редактор газеты у Слезки-на — «в английском френче», указывает на его принадлежность, по выражению одного из мемуаристов, Александра Дроздова, к «милитаризованному Освагу», а не к вольным корреспондентам газет, по выражению того же автора, не скованным кандалами «осважизма».
Дроздов, наблюдавший деятельность Освага в Ростове, оценивал ее так: «Осваг имел несчетное количество газет во всех уголках освобожденной от большевиков территории, в губернских городах, в тихих медвежьих городишках, задавленных сплином, неповоротливой и тяжеловесной уездной сплетней и тупым равнодушием ко всему белому и всему красному, на Черноморском побережье и на Кавказе. Во главе этих газет, где их хватало, стояли журналисты, где же не хватало журналистов, там стояли люди тех профессий, которые не учат ослушанию декретов, исходящих из центра. Газеты велись в том направлении, которое можно обозначить словами: ура, во что бы то ни стало и при каких бы то ни было обстоятельствах. ...Первое время, время победоносного наступления добровольческих армий, можно было писать о том, что волнует, что тревожит, о том, что подсказывает вам ваша писательская совесть. Но когда Троцкий собрал крепкий коммунистический кулак и Буденный, переброшенный с Волги, прорвал фронт у Купянска, прив.-доц. Ленский (заведующий информационной
частью Освага в Ростове. —Б. С.) правильно почувствовал, что ура, пожалуй, спадет на несколько тонов ниже, и потому ввел систему заказных статей. Я не хочу быть односторонним и потому должен сказать, что темы, вырабатываемые на совещаниях прив.-доц. Ленского, поручались для разработки тем, кто их хотел разрабатывать, чаще всего тем, кто их предлагал, и, таким образом, на этих совещаниях, к счастью, не пахло дурным запахом подвалов «Земщины», «Русского знамени» и других исторических газет из числа послушных.
Конечно, эта мера не привела ни к чему, и население не верило уже осважному ура, громыхавшему в те дни, когда обывателю хотелось кричать караул. Авторитет Освага дал глубокий и безнадежный крен, обыватель увидел, что король ходит нагишом и тело его безобразно, а в войсках об Осваге говорили не иначе как приплетая его имя к имени матушки. Поняла это и власть, и началась беспощадная чистка. Но печальная роль была сыграна, и сыграна с таким треском, который не забывается. Бюрократизм победил: интеллигенция капитулировала.
Что же все-таки было создано громоздким и многолюдным (по замечанию мемуариста, в Осведомительном агентстве присутствовал «обильный, так называемый уклоненческий элемент». — Б. С.) Освагом? Я говорю с чистым сердцем и с чистой душой: ничего, кроме вреда. Осважные плакаты казались жалкими рядом с великолепными плакатами большевиков, а ведь в художественной части работали такие имена, как И. Билибин и Е. Лансере. Из груды брошюр, писанных нарочито псевдонародным, т. е. бездарным и напыщенным языком, можно выделить лишь десяток брошюр Е. Чирикова, И. Наживина, И. Сургучева и кн. Е. Трубецкого. Вот этот-то десяток брошюр, написанных ярко, кровью души, эта горсточка нетенденциозной, искренней, правдивой агитации, агитации сердца, и есть одно и единственное светлое пятно на фоне синих обложек «дел за такими-то номерами», кип рапортов и отчетов, серой газетной тарабарщины, вялой и ненужной, годной лишь для того, чтобы базарные торговки, переругиваясь с покупателем,
I
234 Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
завертывали в них молодую картошку. Агитация хороша, когда она дерзка и напориста, она хороша, когда кажет юркую свою рожу из-за плеч оратора противника; нужно, чтобы за агитатором гонялись враги, подобно тому, как Лафайет гонялся за Жан-Поль Маратом под сводами заштатных францисканских монастырей. У большевиков за бронепоездом идет агитпоезд; у Деникина агитпоезд трухтел, жалобно и трусливо позванивая скрепами цепей, вслед за пассажирским».
Интеллигенция, оказавшаяся в лагере генерала Деникина, агитационную войну с большевиками проиграла. Среди проигравших был и Булгаков, но свою вину в поражении он тогда наверняка не ощущал. По словам того же Дроздова, «писала в газетах интеллигенция en masse*, адвокаты и врачи, студенты и офицеры, дамы скучающие и нескучающие, недоучившиеся юноши, слишком много учившиеся старцы, бездельники, зеваки и дельные, умные порядочные люди». Таким же журналистом военного времени стал и Михаил Булгаков, однако он, в отличие от большинства, обладал недюжинным литературным талантом. Конечно, в его решении уйти в журналистику было и стремление избавиться от опостылевшей уже службы военного врача. В романе Слезкина вернувшийся к большевикам редактор признается Алексею Васильевичу: «Я журналист, но в боевой обстановке». Думается, таким журналистом был и Булгаков, совершавший поездки на фронт и после ухода из госпиталя. Намек на это есть в фельетоне «В кафэ». Трусом Булгаков не был никогда, об этом свидетельствует и его участие в бою под Чечен-аулом и в последующем походе, где он получил контузию. Не исключено, что эта контузия и послужила причиной (или поводом) для увольнения с военно-медицинской службы. А может быть, болезнью, вызвавшей освобождение, стала названная в фельетоне неврастения (ни грыжей, ни сердечной недостаточностью писатель, насколько известно, ни страдал, а вот неврастения, и по его собственным призна-
 * В массе (фр-).
* В массе (фр-).
ГЛАВА 3. Михаил Булгаков в годы 1 О С
гражданской войны. 1918—1920 JLJJ
ниям, и по свидетельству близких, писателя в дальнейшем мучила).
Булгаков, конечно, не принадлежал к активным участникам белого движения. Он совсем не горел желанием принять участие в братоубийственной войне, признаваясь, что его «нисколько не привлекает война и сопряженные с нею беспокойства и бедствия». В противном случае у него была возможность значительно раньше, задолго до осени 1919-го, вступить в ряды добровольцев Корнилова и Деникина. Когда Булгаков начал писать в осваговских газетах, белые уже потерпели сокрушающий удар от конницы Буденного. Его статьи были правдивы, а не ура-патриотичны, хотя, конечно, приходилось Михаилу Афанасьевичу идти на уступки и цензуре, и осваговским редакторам. Характерно при этом, что в фельетоне «В кафэ», вышедшем после предпринятой властями, заинтересованными в более эффективной пропаганде, чистки Освага, подобных ура-патриотических мест и вовсе нет. Следует отметить язык булгаковских публикаций: простой, ясный, не вычурный и никак уж не простонародный, что выгодно отличает его статьи от большинства деникинских пропагандистских материалов.
В 1919—1920 годах Булгакову впервые пришлось сотрудничать в подцензурной печати в экстремальных условиях гражданской войны, да еще при кабальной зависимости от всемогущего Освага — фактического Министерства по делам печати при деникинском Особом совещании. Осваг контролировал бумагу и типографии, и независимое издание основать без его благословения было практически невозможно. Когда Александр Дроздов задумал выпускать самостоятельно еженедельную газету и многие сотрудники Освага поручились, что он не имеет касательства к большевикам, бумагу по нормированной цене, он так и не получил, поскольку «сильные мира сего» сочли, что у журналиста слишком либеральная репутация. Конечно, столь жесткой идеологической цензуры, как у большевиков, у белых никогда не было, но несвобода прессы ощущалась достаточно сильно. Однако Булгаков, как показывают его первые
136
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
-D-

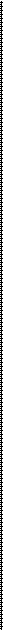 кавказские фельетоны, писал только «о том, что волнует, что тревожит», о том, что подсказывает «писательская совесть». И этому правилу он стремился неуклонно следовать и в дальнейшем, уже при Советах. При этом Булгаков признавал за большевиками определенное пропагандистское превосходство над другими. Достаточно вспомнить искусного большевистского агитатора в «Белой гвардии», который буквально иллюстрирует дроз-довский тезис о том, что «агитация хороша, когда она дерзка и напориста, она хороша, когда кажет юркую свою рожу из-за плеч оратора противника». В булгаков-ском романе оратор-большевик выдает себя за сторонника Петлюры, а его сообщники Шур и Шполянский, прикрывая его исчезновение, подставляют полиции как карманника незадачливого украинского поэта со смешной фамилией Горболаз, который пытался задержать большевика. В «Мастере и Маргарите» Коровьев тем же приемом, крича: «Держи вора!», — останавливает Бездомного, преследующего Воланда.
кавказские фельетоны, писал только «о том, что волнует, что тревожит», о том, что подсказывает «писательская совесть». И этому правилу он стремился неуклонно следовать и в дальнейшем, уже при Советах. При этом Булгаков признавал за большевиками определенное пропагандистское превосходство над другими. Достаточно вспомнить искусного большевистского агитатора в «Белой гвардии», который буквально иллюстрирует дроз-довский тезис о том, что «агитация хороша, когда она дерзка и напориста, она хороша, когда кажет юркую свою рожу из-за плеч оратора противника». В булгаков-ском романе оратор-большевик выдает себя за сторонника Петлюры, а его сообщники Шур и Шполянский, прикрывая его исчезновение, подставляют полиции как карманника незадачливого украинского поэта со смешной фамилией Горболаз, который пытался задержать большевика. В «Мастере и Маргарите» Коровьев тем же приемом, крича: «Держи вора!», — останавливает Бездомного, преследующего Воланда.
Знакомство с деникинской армией сначала в пору успехов, а потом — разгрома, убедило Булгакова в изначальной обреченности белого дела, которое неспособно было спасти геройство отдельных его участников. Разложение тыла и бесчинства контрразведки отвагой нельзя было остановить, заменить героизмом отсутствие позитивных программ в аграрном и национальном вопросе тоже не удалось. И полковнику Най-Турсу в «Белой гвардии», которого Булгаков характеризовал П. С. Попову как «идеал русского офицерства», даны перед смертью программные слова, которые повторит потом любимый булгаковский герой полковник Алексей Турбин в «Днях Турбиных» в предсмертной речи к брату Николке: «Унтер-офицер Турбин, брось геройство к чертям!»
В 1918—1920 годах Михаил Булгаков приобрел богатый опыт, став очевидцем и участником гражданской войны. На протяжении всех 20-х годов осмысление трагедии революции и братоубийственной борьбы стало ведущей темой его творчества.

"Верхом на пьесе в Тифлис."
МИХАИЛ БУЛГАКОВ НА КРАСНОМ КАВКАЗЕ
1920—1921
-D □ D-

 -D-Q-o
-D-Q-o
мену власти во Владикавказе Булгаков, как уже говорилось, пережил в тифозном бреду. Заболел еще при белых, очнулся уже при красных. Т. Н. Лаппа рассказывала: «Он уже выздоровел, но еще очень слабый был. Начал вставать понемногу. А во Владикавказе уже красные были. Так вот мы у них и оказались. Он меня потом столько раз пилил за то, что я не увезла его с белыми: „Ну как ты не могла меня увезти!" И вот уже решили выйти погулять. Он так с трудом... на руку мою опирается и на палочку. Идем, и я слышу: „Вон белый идет. В газете ихней писал". Я говорю: „Идем скорей отсюда". И вот пришли, и какой-то страх на нас напал, что должны прийти и нас арестовать. Кое-кого уже арестовали. Но как-то нас это миновало, не вызывали даже никуда. Врачом он больше, сказал, не будет. Будет писать». Юрий Слезкин в «Девушке с гор» заставил Алексея Васильевича проболеть полтора месяца, другие источники, в том числе Т. Н. Лаппа, говорят о трех неделях, хотя за буквальное совпадение сроков, конечно, ручаться нельзя. Сам Слезкин с 27 марта 1920 года работал заведующим подотдела искусств отдела народного образования Терского ревкома во Владикавказе, Булгаков с начала апреля стал заведовать литературной секцией этого подотдела. Очевидно, он пошел туда сразу после выздоровления, чтобы добыть средства к существованию.
Т. Н. Лаппа утверждала, что со Слезкиным Булгаков познакомился уже при большевиках в ревкоме, где представился как профессиональный журналист. На самом деле они при белых вместе сотрудничали в газете «Кавказ», так что специально представляться не было нужды. В своем романе Слезкин отмечал, что в то время само по себе сотрудничество с белыми не было наказуемо, вне закона ставили только тех, кто отступил вместе с белой армией из Владикавказа. Юрий Львович в 1932 году
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 4.
Михаил Булгаков на 7 А ^
Красном Кавказе. 1920—1921 1 ЧL

 вспоминал обстоятельства своего знакомства с Булгаковым: «С Мишей Булгаковым я знаком с зимы 1920 г. Встретились мы во Владикавказе при белых. Он был военным врачом и сотрудничал в газете в качестве корреспондента. Когда я заболел сыпным тифом, его привели ко мне в качестве доктора. Он долго не мог определить моего заболевания, а когда узнал, что у меня тиф — испугался... и сказал, что не уверен в себе... позвали другого.
вспоминал обстоятельства своего знакомства с Булгаковым: «С Мишей Булгаковым я знаком с зимы 1920 г. Встретились мы во Владикавказе при белых. Он был военным врачом и сотрудничал в газете в качестве корреспондента. Когда я заболел сыпным тифом, его привели ко мне в качестве доктора. Он долго не мог определить моего заболевания, а когда узнал, что у меня тиф — испугался... и сказал, что не уверен в себе... позвали другого.
По выздоровлении я узнал, что Булгаков болен паратифом. Тотчас же, еще едва держась на ногах, пошел к нему с тем, чтобы ободрить его и что-нибудь придумать на будущее. Все это описано у Булгакова в его „Записках на манжетах". Белые ушли — организовался ревком, мне поручили заведование подотделом искусств, Булгакова я пригласил в качестве зав. литературной секцией. Там же, во Владикавказе, он поставил при моем содействии свои пьесы: „Самооборона" — в одном акте, „Братья Турбины" — бледный намек на теперешние „Дни Турбиных". Действие происходит в революционные дни 1905 г. в семье Турбиных — один из братьев был эфироманом, другой революционером. Все это звучало весьма слабо. Я, помнится, говорил к этой пьесе вступительное слово.
По приезде в Москву мы опять встретились с Булгаковым, как старые приятели, хотя последнее время во Владикавказе между нами пробежала черная кошка (Булгаков переметнулся на сторону сильнейшую)».
Слезкин уже долго и мучительно завидовал булгаков-скому успеху у публики. Поэтому он стремился наградить бывшего друга своими собственными пороками, в частности стремлением стать на сторону победителей. Не вполне можно поэтому полагаться на слезкинский рассказ о том, как Булгаков из-за боязни заразиться отказался лечить его от тифа. Да и как мог запомнить это Слезкин, если сам лежал в бреду. В остальном же его воспоминаниям можно доверять. Не вызывает сомнения, что именно благодаря знакомству со Слезкиным Булгаков устроился в подотдел искусств. Об этом говорится и в автобиографической бул-гаковской повести «Записки на манжетах» (1922—1924), рассказывающей о событиях, связанных с пребыванием автора во Владикавказе и первых месяцах жизни в Москве, где
Булгаков работал секретарем Литературного отдела (ЛИТО) Главполитпросвета. Здесь, в частности, описан визит Слезкина к Булгакову во время болезни последнего: «Беллетрист Юрий Слезкин сидел в шикарном кресле. Вообще, все в комнате было шикарно, и поэтому Юра казался в ней каким-то диким диссонансом. Голова, оголенная тифом, была точь-в-точь описанная Твеном мальчишкина голова (яйцо, посыпанное перцем). Френч, молью обгрызенный, а под мышкой — дыра. На ногах — серые обмотки. Одна — длинная, другая — короткая. Во рту — двухкопеечная трубка. В глазах — страх с тоской в чехарду играют.
— Что же те-перь бу-дет с нами? — спросил я и не
узнал своего голоса. После второго приступа он был
слаб, тонок и надтреснут». Тогда, если верить булгаков-
ской повести, Слезкин и предложил создать подотдел
искусств, в котором Булгаков мог бы возглавить ЛИТО.
Судя по всему, разговор происходил еще до официаль
ного назначения Слезкина на эту должность и, возмож
но, даже еще до прихода в город красных, ибо собесед
ники опасались грабежей со стороны ингушей и осетин.
Когда Булгаков встал с постели и окреп, он приступил к работе в подотделе искусств. В «Девушке с гор» рассказано о первом появлении Алексея Васильевича на службе при большевиках: «Он улыбался, когда вышел впервые на улицу. В ушах шумело, как в раковине, ноги подвертывались, но он улыбался.
В редакции на месте редактора сидел юноша с бородой, в бурке, с револьвером — член ревкома.
— До прихода законной власти газета поступила в
распоряжение временного революционного комитета, —
говорит он, сверля глазами Алексея Васильевича. —
Старые сотрудники могут оставаться на своих местах,
если...
Юноша смотрит на свой револьвер. Алексей Васильевич тоже смотрит на него.
— Да, конечно, если...
— Объявлены вне закона только те, кто эвакуи
ровался с Добрармией. Остальные будут амнисти
рованы...
J 42 Б°РИС С01""108 ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 4.
Михаил Булгаков на Красном Кавказе. 1920—1921
143

 — Я вас знаю, — снова мрачно начинает юноша, —
— Я вас знаю, — снова мрачно начинает юноша, —
вы писатель...
Алексей Васильевич съеживается. В улыбке его сейчас только любезность. Но внезапно лицо юноши расплывается. Все его черное, бородатое лицо сияет, глаза из-под сросшихся бровей смотрят смущенно, по-детски. Он заканчивает.
— Я тоже поэт... Осетинский поэт... Авалов...
Улыбка явственней играет на губах Алексея Васильевича. Они протягивают друг другу руки. На столе между ними все еще лежит револьвер».
В «Девушке с гор» нет героя, прямым прототипом которого послужил бы автор, так что Слезкин некоторые черты своей биографии передал Алексею Васильевичу (например, грудной ребенок, как и у героя, у Слез-кина был — сын Юра). Сегодня трудно сказать, в какой мере эта сцена относится к Булгакову, а в какой — к Слезкину. Писателем член ревкома мог скорее назвать известного беллетриста 1910-х годов, а не бывшего врача, вся литературная продукция которого к тому времени состояла из нескольких фельетонов. Кстати, редактор Авалов тоже имел вполне конкретного прототипа — редактора местной газеты «Коммунист» Г. С. Астахова, в дальнейшем немало сделавшего для изгнания и Слезки-на, и Булгакова из подотдела искусств. Вполне возможно, что в диалоге Авалова с Алексеем Васильевичем переплелись факты первого прихода в ревком обоих писателей. Но атмосферу тех дней во Владикавказе — «рукопожатие через револьвер» коммунистов с интеллигенцией — писатель передает вполне достоверно.
Первое время жизнь Булгаковых во Владикавказе при красных была очень тяжела. Жили они по-прежнему у Гавриловых. Генерал ушел с белыми, Лариса же осталась, но затем исчезла и она. Служебные обязанности Михаила Афанасьевича заключались в организации литературных вечеров, концертов, спектаклей, диспутов, где он выступал со вступительным словом перед началом представления. Т. Н. Лаппа вспоминала: «...Он выступал перед спектаклями, рассказывал все. Но гово-
рил он очень хорошо. Прекрасно говорил... Но денег не платили. Рассказывали, кто приезжал, что в Москве есть было нечего, а здесь при белых было все что угодно. Булгаков получал жалованье, и все было хорошо, мы ничего не продавали. При красных, конечно, не так стало. И денег не платили совсем. Ни копейки! Вот, спички дадут, растительное масло и огурцы соленые (спичками платили жалованье и Короткову в «Дьяволиаде». — Б. С). Но на базаре и мясо, и мука, и дрова были. Одно время одним балыком питались. У меня белогвардейские деньги остались. Сначала, как белые ушли, я пришла в ужас: что с ними делать? А потом в одной лавке стала на балык обменивать (быть может, отсюда и балыки, которые прихватывает с собой Арчибальд Арчибальдович в «Мастере и Маргарите», покидая обреченный Дом Грибоедова; балыки здесь — единственное, что остается от погибающего ресторана МАССОЛИТа, а для Булгакова балыки стали единственным материально осязаемым результатом его пребывания на белом Кавказе — в них обратилось его военное жалованье. — Б. С). Еще у меня кое-какие драгоценности были... цепочка вот эта толстая золотая. Вот я отрублю кусок и везу арбу дров, печенки куплю, паштет сделаю... Иначе бы не прожили».
Чтобы заработать на пропитание, Булгаков стал писать пьесы. Кроме названных Слезкиным «Самообороны» и «Братьев Турбиных», были еще «Глиняные женихи», «Сыновья муллы» и «Парижские коммунары». Все эти пьесы, написанные второпях и по «революционному заказу», Булгаков впоследствии в письмах родным заслуженно именовал «хламом» и рукописи сжег. Позднее, уже в 60-е годы, отыскался суфлерский экземпляр «Сыновей муллы», подтвердивший справедливость булгаковской самокритики. За пьесы, если они ставились на сцене одной из местных театральных трупп, русской, осетинской или ингушской (в 1930 году был опубликован осетинский перевод «Сыновей муллы»), деньги платили, хотя и не очень большие, а по случаю премьеры «Братьев Турбиных», по воспоминаниям Татьяны Николаевны, был устроен банкет.
J 44 Б°РИС Соколов ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 4.
Михаил Булгаков на 1 А С
Красном Кавказе. 1920—1921 1 4-J

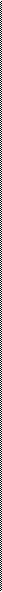 В мае 1921 года во Владикавказе открылся Горский народный художественный институт, куда Булгаков был приглашен деканом театрального факультета. Однако тогда же, в мае, произошло ужесточение коммунистической власти в городе (14-го Владикавказ был объявлен на военном положении). К тому времени ни Слезкин, ни Булгаков уже не работали в подотделе искусств, где последний с конца мая 1920 года возглавлял уже не литературную, а театральную секцию. На обложке разгромного «Доклада комиссии по обследованию деятельности подотдела искусств» от 28 октября 1920 года сохранилась запись, датированная 25 ноября: «Изгнаны: 1. Гатуев, 2. Слезкин, 3. Булгаков (бел.), 4. Зильберминц». Трудно сказать, расшифровывалось ли таинственное «бел.» как «белый», или, что вероятнее, как «беллетрист». Во всяком случае, и после изгнания из подотдела Булгаков еще мог ставить пьесы и выступать на сцене. Пьесы иной раз имели успех, а драматург все более утверждался в выборе профессии. В письме двоюродному брату К. П. Булгакову 1 февраля 1921 года он сообщал: «Это лето я все время выступал с эстрад с рассказами и лекциями. Потом на сцене пошли мои пьесы... Бог мой, чего я еще не делал: читал и читаю лекции по истории литературы (в Университ. народа и драмат. студии), читаю вступит, слова и проч., и проч. .. .я запоздал на 4 года с тем, что я должен был давно начать делать — писать». Булгаков уже бесповоротно считал себя писателем и драматургом. Однако продолжать эту деятельность во Владикавказе стало опасно.
В мае 1921 года во Владикавказе открылся Горский народный художественный институт, куда Булгаков был приглашен деканом театрального факультета. Однако тогда же, в мае, произошло ужесточение коммунистической власти в городе (14-го Владикавказ был объявлен на военном положении). К тому времени ни Слезкин, ни Булгаков уже не работали в подотделе искусств, где последний с конца мая 1920 года возглавлял уже не литературную, а театральную секцию. На обложке разгромного «Доклада комиссии по обследованию деятельности подотдела искусств» от 28 октября 1920 года сохранилась запись, датированная 25 ноября: «Изгнаны: 1. Гатуев, 2. Слезкин, 3. Булгаков (бел.), 4. Зильберминц». Трудно сказать, расшифровывалось ли таинственное «бел.» как «белый», или, что вероятнее, как «беллетрист». Во всяком случае, и после изгнания из подотдела Булгаков еще мог ставить пьесы и выступать на сцене. Пьесы иной раз имели успех, а драматург все более утверждался в выборе профессии. В письме двоюродному брату К. П. Булгакову 1 февраля 1921 года он сообщал: «Это лето я все время выступал с эстрад с рассказами и лекциями. Потом на сцене пошли мои пьесы... Бог мой, чего я еще не делал: читал и читаю лекции по истории литературы (в Университ. народа и драмат. студии), читаю вступит, слова и проч., и проч. .. .я запоздал на 4 года с тем, что я должен был давно начать делать — писать». Булгаков уже бесповоротно считал себя писателем и драматургом. Однако продолжать эту деятельность во Владикавказе стало опасно.
Т. Н. Лаппа, подрабатывавшая статисткой в местном театре, а до этого — секретаршей в уголовном розыске, утверждала: «Оставаться больше было нельзя. Владикавказ же маленький городишко, там каждый каждого знает. Про Булгакова говорили: „Вон, белый идет!" ...В общем, если бы мы там еще оставались, нас бы уже не было. Ни меня, ни его. Нас бы расстреляли. Там же целое белогвардейское гнездо было: сын генерала Гаври-лова, Дмитрий, предлагал в их подполье работать, но я отказалась. Потом хотел завербовать медсестру из детского дома, который в их особняке был (после того, как
особняк Гавриловых был превращен в детский дом, Булгаковым дали комнату, на Слепцовской, 9, рядом с театром. — Б. С), а она его выдала. Тут и начальника милиции арестовали, где я раньше работала. Он тоже контрреволюционером оказался. Ну, и надо было сматываться».
Новая волна репрессий грозила докатиться до Булгакова, которому, несмотря на амнистию, могли припомнить прошлую службу у белых или объявить участником действительного или мнимого заговора. Уехать из Владикавказа помогла удачная постановка в мае «Сыновей муллы», давшая средства на отъезд. Михаил Афанасьевич решил ехать в Тифлис, причем добирался туда через Баку. Владикавказ он покинул в конце мая 1921 года один, рассчитывая выписать жену позднее, когда устроится с работой. В день отъезда он писал сестре Надежде: «...Сегодня я уезжаю в Тифлис — Батум. Тася пока остается во Владикавказе. Выезжаю спешно, пишу коротко». Булгаков не очень надеялся на успешную постановку своих пьес на новом месте, да и с публикациями в газетах было тяжело, не говоря уже о штатной должности журналиста. Спешность отъезда может служить еще одним указанием на то, что писатель всерьез опасался ареста. Еще в апреле 1921 года, посылая Наде газетные вырезки и программы спектаклей, он оговаривался: «Если я уеду и не увидимся, — на память обо мне». Очевидно, Булгаков думал о возможности эмигрировать. В том же письме Надежде, написанном в день отъезда в Тифлис, он предупреждал: «В случае отсутствия известий от меня больше полугода, начиная с момента получения тобой этого письма, брось рукописи в печку... Сколько времени проезжу, не знаю». Одновременно Михаил просил: «В случае появления в Москве Таси, не откажи в родственном приеме и совете на первое время по устройству ее дел». 2 июня из гостиницы «Пале-Рояль» в Тифлисе он отправил письмо Тасе, вызывая ее к себе. В тот же день он писал сестре Наде и двоюродному брату Косте, что вместе с женой собирается в Батум, а потом, «может быть, окажусь в Крыму...». При этом Булгаков горестно сетовал: «Не удивляйтесь моим скитани-
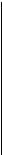
| 147 |
J 46 БоРие Сокол™>- ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ям, ничего не сделаешь. Никак нельзя иначе. Ну и судьба! Ну и судьба!»
Об этой поездке вспоминала и Т. Н. Лаппа: «Я приехала по Военно-Грузинской дороге на попутной машине — было такое специальное место, где людей брали, а в Тифлисе было место, куда приезжали. И вот Михаил меня встретил. Хорошая такая гостиница, и главное — клопов нету. Он все хотел где-то устроиться, но никак не мог. Нэп был, там все с деньгами, а у нас пусто. Ну никакой возможности не было заработать, хоть ты тресни! Он говорил: „Если устроюсь — останусь. Нет — уеду". Месяц примерно мы там пробыли. Он бегал с высунутым языком. Вещи все продали, цепочку уже съели, и он решил, что поедем в Батум». Однако их несчастья продолжались. Чтобы ехать в Батум, пришлось продать обручальные кольца, в свое время купленные в знаменитом ювелирном магазине Маршака на Крещатике. Татьяна Николаевна хорошо запомнила эти кольца: «Они были не дутые, а прямые, и на внутренней стороне моего кольца было выгравировано: „Михаил Булгаков" и дата — видимо, свадьбы, а на его: „Татьяна Булгакова".
Когда мы приехали в Батум, я осталась сидеть на вокзале, а он пошел искать комнату. Познакомился с какой-то гречанкой, она указала ему комнату. Мы пришли, я тут же купила букет магнолий — я впервые их видела — и поставила в комнату (здесь проглядывает довоенная беззаботная Тася, когда они с Михаилом готовы были потратить последний рубль на цветы, пирожные или театр. — Б. С). Легли спать — и я проснулась от безумной головной боли. Зажгла свет — закричала: вся постель была усыпана клопами... Мы жили там месяца два, он пытался писать в газеты, но у него ничего не брали. Очень волновался, что службы нет, денег нет, комнаты нет». К врачебной практике Булгаков возвращаться не желал ни при каких обстоятельствах, а неудачи на журналистском попроще, возможно, объяснялись его неготовностью писать в требуемом советском стиле. В какой-то момент эмиграцию он стал рассматривать как единственный выход. О планах такого рода и их крахе поведала Татьяна Николаевна: «Тогда Михаил
| ГЛАВА 4. |
Михаил Булгаков на
Красном Кавказе. 1920—1921
говорит: „Я поеду за границу. Но ты не беспокойся, где бы я ни был, я тебя выпишу, вызову». Я-то понимала, что это мы уже навсегда расстаемся. Ходили на пристань, в порт он ходил, все искал кого-то, чтоб его в трюме спрятали или еще как, но тоже ничего не получалось, потому что денег не было. А еще он очень боялся, что его выдадут. Очень боялся... В общем, он говорит: „Нечего тут сидеть, поезжай в Москву". Поделили мы последние деньги, и он посадил меня на пароход в Одессу. Я была уверена, что он уедет, и думала, что мы уже навсегда прощаемся».
Булгаков, однако, за границу так и не уехал. В «Записках на манжетах» запечатлены последние дни пребывания в Батуме.
«Через час я продал шинель на базаре. Вечером идет пароход. Он не хотел меня пускать. Понимаете? Не хотел пускать!..
Довольно! Пусть светит Золотой Рог. Я не доберусь до него. Запас сил имеет предел. Их больше нет. Я голоден, я сломлен! В мозгу у меня нет крови. Я слаб и боязлив. Но здесь я больше не останусь. Раз так... значит... значит...
Домой. По морю. Потом в теплушке. Не хватит денег— пешком. Но домой. Жизнь погублена. Домой!.. В Москву! В Москву!»
Думается, эмигрировать Булгакову в этот раз помешало не только отсутствие денег и боязнь быть пойманным при попытке нелегально отплыть из Батума в Константинополь. Тут скорее был страх перед незнакомой, совсем другой жизнью. К тому же за рубежом перспективы литературного и театрального творчества были еще туманнее, чем на родине. Конечно, русская эмиграция знала писателей, состоявшихся вне родины. Так произошло, например, с Набоковым. Но он уехал из России, будучи на десяток лет моложе Булгакова, и психологически ему было гораздо легче приспособиться к жизни на чужбине. Михаилу Афанасьевичу шел уже тридцать первый год, и решимости начинать жизнь сначала у него явно недоставало, хотя революция и последующие события отняли у него буквально все, до последних
148
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 4.
Михаил Булгаков на Красном Кавказе. 1920—1921
149
 вещей, которые пришлось продать, чтобы не умереть с голоду.
вещей, которые пришлось продать, чтобы не умереть с голоду.
Булгаков, вероятно, решил уже тогда, когда отправлял Тасю из Батума, обосноваться в Москве, если отъезд за границу не состоится. Потому-то герой «Записок на манжетах», как и героини «Трех сестер», восклицает: «В Москву! В Москву!» — и столицу называет домом. А ведь домом его был дом на Андреевском спуске в Киеве! Почему же Булгаков даже не рассматривал возможность хотя бы на время обосноваться в родном городе?
Опять-таки, можно предположить, что причина крылась в обстоятельствах, связанных с гражданской войной и с происшедшими политическими переменами. Киев стал из русского города, по крайней мере формально, городом украинским, но столицей советской Украины не сделался — предпочтение отдали пролетарскому Харькову. Украинский язык играл существенную роль в Киеве до конца 20-х годов, пока коммунисты не развернули активную борьбу с так называемым «украинским буржуазным национализмом». Конечно, для русского литератора, к тому же отнюдь не пролетарского происхождения и не коммунистического мировоззрения, обстановка в городе, низведенном со статуса «матери городов русских» до положения украинской провинции, была бы далеко не самой благоприятной. Но и в Москве, не имея связей в литературно-театральном мире, начинающему драматургу и писателю пробиться было не легче — ведь и конкуренция в столице была острее. В других же отношениях Киев должен был иметь перед Москвой в глазах Булгакова целый ряд неоспоримых преимуществ. Еще во Владикавказе Михаил и Тася хорошо знали от приезжих, что в Москве очень голодно. Киев находился ближе к хлебным районам, и продовольственное положение там было получше. Здесь семья Булгаковых располагала двумя большими квартирами — на Андреевском спуске, 13 и 38. Правда, неприязнь Булгакова к И. П. Воскресенскому могла быть еще одной причиной, почему он не хотел осесть тут. Но в Москве жилищные перспективы для Таси и Михаила были совсем мрачные. Речь могла
идти только о комнате А. М. и Н. А. Земских и квартире Н. М. Покровского, причем, надо полагать, Николай Михайлович совсем не горел желанием селить у себя родственников на неопределенно долгий срок. Показательно, что, отправляя жену из Батума в Москву, Булгаков не рекомендовал ей заходить к Покровским (Николай Михайлович жил с братом Михаилом). Татьяна Николаевна свидетельствовала: «К дядьке идти мне не хотелось, и Михаил говорил: «Ты к нему не ходи». Что же касается Земских, то Надя в то время была в Киеве, а вскоре после приезда Михаила Андрей тоже уехал к ней, оставив Булгаковым комнату в знаменитой «нехорошей квартире» на Садовой, 10, тем самым хоть на время решив их жилищную проблему. Отъезд Земских в Киев, кстати, служит еще одним доказательством, что там в ту пору жилось легче, чем в Москве. Но Михаил Булгаков упорно стремился в столицу.
Думается, он просто боялся долго жить в Киеве. Там могло обнаружиться, что, будучи мобилизован врачом в Красную Армию, Булгаков так или иначе оставил ее ряды и очутился у белых, а за такое могли и репрессировать. Характерно, что и в 1921 году во Владикавказе он почти маниакально продолжал скрывать свою причастность к медицине. Так, в письме к Н. А. Земской 26 апреля 1921 года, переданном с владикавказской знакомой О. А. Мишон, Михаил предупреждал, чтобы с Мишон не вели никаких лекарских разговоров, «которые я и сам не веду с тех пор, как окончил естественный и занимаюсь журналистикой». Медицинский факультет на естественный Булгаков заменил и в анкете при поступлении в ЛИТО Главполитпросвета в Москве. А ведь гражданская война уже кончилась, в Красной Армии шло сокращение, и Булгакову непосредственно мобилизация в качестве военного врача не угрожала. Скрывать, что он был врачом на территории, занятой белыми армиями, тоже особого смысла не имело. Проще было сказать, что работал врачом в гражданском, а не в военном госпитале и лечил мирных обывателей, а не солдат и офицеров деникинской армии. Что же касается Булгакова-журналиста, то во Владикавказе вовсе не была тайной работа
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 4.
Михаил Булгаковна КрасномКавказе. 1920—1921
151

 его, как и других сотрудников подотдела искусств, в белогвардейских изданиях, просто до поры до времени это лыко не ставили в строку. Например, уже упоминавшаяся газета «Коммунист» 20 апреля 1920 года характеризовала адвоката Б. Р. Беме, вместе с Булгаковым работавшего в подотделе искусств, вполне в жанре литературного доноса: «...Выступавший перед началом концерта лектор, известный „товарищ" Борис Ричардович Беме, привыкший выступать перед аудиториями знаменитого „Освага" чуть-чуть да не под „Боже царя", неудачно, может быть, на первый раз, пытался акклиматизироваться в новых условиях». Непонятно, чем в глазах местных коммунистов работа врачом в белой армии должна была быть хуже работы журналистом в белых газетах. Другое дело, если бы вскрылось, что Булгаков сперва служил медиком у красных, а потом у белых. Тогда пришлось бы давать объяснения, при каких обстоятельствах он покинул Красную Армию, а это грозило обвинением в дезертирстве. Не случайно в «Девушке с гор» роман Алексея Васильевича по смыслу предлагается назвать «Дезертир».
его, как и других сотрудников подотдела искусств, в белогвардейских изданиях, просто до поры до времени это лыко не ставили в строку. Например, уже упоминавшаяся газета «Коммунист» 20 апреля 1920 года характеризовала адвоката Б. Р. Беме, вместе с Булгаковым работавшего в подотделе искусств, вполне в жанре литературного доноса: «...Выступавший перед началом концерта лектор, известный „товарищ" Борис Ричардович Беме, привыкший выступать перед аудиториями знаменитого „Освага" чуть-чуть да не под „Боже царя", неудачно, может быть, на первый раз, пытался акклиматизироваться в новых условиях». Непонятно, чем в глазах местных коммунистов работа врачом в белой армии должна была быть хуже работы журналистом в белых газетах. Другое дело, если бы вскрылось, что Булгаков сперва служил медиком у красных, а потом у белых. Тогда пришлось бы давать объяснения, при каких обстоятельствах он покинул Красную Армию, а это грозило обвинением в дезертирстве. Не случайно в «Девушке с гор» роман Алексея Васильевича по смыслу предлагается назвать «Дезертир».
Так или иначе, но выбор в пользу Москвы Булгаков сделал, хотя Киев он и тогда и потом любил больше всех других городов и хранил в архиве рисунок листьев с киевских каштанов. Москву, как это ни покажется странным тем, кто знаком с булгаковским творчеством, особенно с «Мастером и Маргаритой», писатель так до конца и не полюбил. Уже будучи смертельно больным, он признался в этом сестре Наде. 7 января 1940 года Н. А. Земская зафиксировала в дневнике беседу с братом: «Разговор о нелюбви к Москве: даже женские голоса не нравятся». Тем не менее Булгакову суждено было стать одним из самых «московских» писателей в русской литературе, а роман «Мастер и Маргарита» сделался настольной книгой москвоведов. С Москвой оказалась неразрывно связана его судьба, здесь были созданы все главные булга-ковские произведения.
Из Батума Булгаков направился в Москву через Киев. 18 сентября Н. А. Земская писала мужу: «У Воскресенских очень интересно жить: вчера приехал Миша. Едет в
Москву. Скоро и ты его увидишь. Итак, Тася может быть спокойна (Т. Н. Лаппа прибыла в Москву еще в начале сентября, утратив по дороге почти все вещи и получив в Киеве от Варвары Михайловны лишь минимум белья, поскольку ее киевские вещи давно были проданы. — Б. С.)». В Москву Булгаков прибыл 24 сентября 1921 года. Накануне Надя сообщила в Москву: «Дорогой Андрик, теперь ты будешь иметь удовольствие видеть в Москве и Мишу».
Булгаковские странствия кончились навсегда. Теперь ему лишь изредка придется на короткое время покидать Москву, всякий раз возвращаясь обратно. Начался новый период биографии писателя.
Булгаков, в отличие от многих коллег во Владикавказе, принять большевистскую революцию и убедить себя в ее необходимости и полезности не мог. Потому-то, наверное, уже тогда пробежала черная кошка между ним и Юрием Слезкиным, спешившим доказать новой власти полную свою лояльность. Показательно, как критикует Алексея Васильевича героиня «Девушки с гор»: «Вы хотите смутить меня? Вы хотите сказать, что страна, где невинные люди месяцами сидят по тюрьмам, не может быть свободной... Я до сих пор помню ваш рассказ о гуманном человеке. Вы нанизываете один случай за другим, собираете их в своей памяти и ничего уж не можете видеть, кроме этого. Вы приходите в ужас от созданной вами картины и заставляете бояться других. Только грязь, разорения, убийства видите вы в революции, как на войне вы видели только искалеченные тела, разорванные члены и кровь. А зачем была кровь, во имя чего люди шли и умирали, вы не хотите видеть, потому что это, по-вашему, глупо. Откуда разорение, грязь, предательство — этого вы знать не хотите. Как этому помочь, как это изжить — вы тоже не думаете. Голод, вши, убийства — говорите вы, пряча голову, как страус. Значит, я должна ненавидеть Россию и революцию и отвернуться от того, что мне кажется необычайным. Но вам это не
152
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 4.
МихаилБулгаков на Красном Кавказе. 1920—1921
153
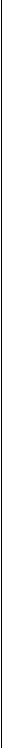 удастся. Слышите — не удастся! Я сама слишком замучилась, слишком передумала, чтобы иметь свое мнение. И если кто-нибудь виноват в том, что происходит тяжелого и дурного, так это вы — вы все, стонущие, ноющие, злобствующие, критикующие и ничего не делающие для того, чтобы скорее изжить трудные дни. Одни взяли на себя всю тяжесть труда, а вы смотрите и вместо того, чтобы помочь, говорите — они не выдержат, они упадут, труд их бессмыслен. У вас остались только слова. Вы ни холодные, ни горячие, вы — ничто. И вы еще смеете осуждать...»
удастся. Слышите — не удастся! Я сама слишком замучилась, слишком передумала, чтобы иметь свое мнение. И если кто-нибудь виноват в том, что происходит тяжелого и дурного, так это вы — вы все, стонущие, ноющие, злобствующие, критикующие и ничего не делающие для того, чтобы скорее изжить трудные дни. Одни взяли на себя всю тяжесть труда, а вы смотрите и вместо того, чтобы помочь, говорите — они не выдержат, они упадут, труд их бессмыслен. У вас остались только слова. Вы ни холодные, ни горячие, вы — ничто. И вы еще смеете осуждать...»
Тут явно слышатся отголоски споров с Булгаковым самого Слезкина. Автор «Девушки с гор» готов был оправдать пролитую революцией кровь, возлагая вину не на большевиков, а на интеллигенцию, которая не хочет работать на благо нового общества. Будущий же автор «Белой гвардии» ставил вопрос, кто ответит за кровь, но не находил ответа, хотя кровопролития не оправдывал. Вот только надежд на скорое падение советской власти Булгаков явно не питал.
«Революционный заказ» во Владикавказе Булгаков выполнял несколько своеобразно. Он никак не прославлял Октябрьскую революцию, а сосредоточивал внимание на революционных событиях, ей предшествовавших. Так, в «Братьях Турбиных» действие происходит во время революции 1905 года (а к ее конституционным идеям сочувственно относился, как мы помним, еще отец Булгакова), в «Сыновьях муллы», как благо для Кавказа, показана победа февральской революции. В «Грядущих перспективах» писатель осудил февраль, справедливо видя в нем лишь преддверие октябрьских событий. Но теперь, при красных, когда выбора не было и требовалось написать что-нибудь «революционное», чтобы не умереть с голода, Булгаков готов был славить скорее февральскую, чем октябрьскую революцию. Наконец, можно предположить, что в «Парижских коммунарах», текст которых не сохранился, он наверняка с симпатией писал о Парижской коммуне 1871 года, хотя сам уж точно не разделял социалистических идей. Вероятно, сочувствие к коммунарам могло быть вызвано жестокой рас-
правой, учиненной над ними правительственными войсками. Из письма, посланного Н. А. Земской в конце мая 1921 года, можно судить о том, что в «Парижских коммунарах» отразились и собственные впечатления драматурга. Отсюда такие реплики героев, как: «Да, я голодный как собака, с утра ничего не ел»; «Да ты не можешь себе представить, до чего я голоден. У меня живот совсем пустой...»; «Но как ловко я его срезал. Умер, не никнув, и себе такой же смерти желаю»; «А хорошо я командира взвода подстрелил... Как сноп упал. Дай Бог каждому из нас так помереть...» (возможно, здесь Булгаков вспомнил мучительно умиравшего полковника, раненного в живот).
В начале июля 1920 года во Владикавказе состоялся диспут о Пушкине. О выступлении на нем Булгакова сохранился целый ряд свидетельств. Явно недружественный рецензент М. Вокс из журнала «Творчество» отметил булгаковские пафос и красноречие, усугубляющие, по его мнению, вину выступавшего, и «дословно» перечислил основные тезисы Булгакова: «Бунт декабристов был под знаком Пушкина, и Пушкин ненавидел тиранию (смотри письма к Жуковскому: „Я презираю свое отечество, но не люблю, когда говорят об этом иностранцы»); Пушкин теоретик революции, но не практик — он не мог быть на баррикадах. Над революционным творчеством Пушкина закрыта завеса: в этом глубокая тайна его творчества. В развитии Пушкина наблюдается «феерическая кривая». Пушкин был «и ночь и лысая гора» — приводит Булгаков слова поэта Полонского, и затем — творчество Пушкина божественно, лучезарно; Пушкин — полубог, евангелист, интернационалист (sic!). Он перевоплощался во всех богов Олимпа: был и Вакх, и Бахус; и в заключение: на всем творчестве Пушкина лежит печать глубокой человечности, гуманности, отвращение к убийству, к насилию и лишению жизни человека — человеком (на эту минуту Булгаков забывает о пушкинской дуэли). И в последних словах сравнивает Пушкина с тем существом, которое заповедало людям: «не убий».
В «Записках на манжетах» Булгаков о выступлении на
Ъорпс Соколов. ТРИЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 4.
Михаил Булгаков на Красном Кавказе. 1920—1921
155

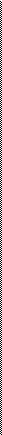 Пушкинском диспуте, вероятно из-за цензуры, говорит весьма глухо, утверждая лишь, что положил на обе лопатки докладчика — Г. С. Астахова, на славу обработавшего Пушкина «за белые штаны», за «вперед гляжу я без боязни», за камер-юнкерство и холопскую стихию, вообще за «псевдореволюционность и ханжество», за неприличные стихи и ухаживание за женщинами», а в заключение предложившего «Пушкина выкинуть в печку». В ходе диспута герой булгаковской повести был награжден нелестными эпитетами «волк в овечьей шкуре», «господин» и «буржуазный подголосок». Действительно, тот же М. Вокс считал, что «все было выдержано у литератора Булгакова в духе несколько своеобразной логики буржуазного подголоска», и превозносил Астахова, утверждая, что «кощунственная» рука докладчика имела полное право бросить Пушкина в очистительный огонь революции, в котором весь этот хлам должен сгореть, крупинки золота, если они есть, останутся». Астахов безапелляционно провозглашал, что «камер-юнкерство, холопская стихия овладела Пушкиным, и написать подлинно революционных сочинений он не мог». По мнению докладчика, «о нравственной чистоте личности Пушкина лучше бы оппоненты помолчали» (далее следовала ссылка на эротические стихотворения поэта). Доклад назывался «Пушкин и его творчество с революционной точки зрения».
Пушкинском диспуте, вероятно из-за цензуры, говорит весьма глухо, утверждая лишь, что положил на обе лопатки докладчика — Г. С. Астахова, на славу обработавшего Пушкина «за белые штаны», за «вперед гляжу я без боязни», за камер-юнкерство и холопскую стихию, вообще за «псевдореволюционность и ханжество», за неприличные стихи и ухаживание за женщинами», а в заключение предложившего «Пушкина выкинуть в печку». В ходе диспута герой булгаковской повести был награжден нелестными эпитетами «волк в овечьей шкуре», «господин» и «буржуазный подголосок». Действительно, тот же М. Вокс считал, что «все было выдержано у литератора Булгакова в духе несколько своеобразной логики буржуазного подголоска», и превозносил Астахова, утверждая, что «кощунственная» рука докладчика имела полное право бросить Пушкина в очистительный огонь революции, в котором весь этот хлам должен сгореть, крупинки золота, если они есть, останутся». Астахов безапелляционно провозглашал, что «камер-юнкерство, холопская стихия овладела Пушкиным, и написать подлинно революционных сочинений он не мог». По мнению докладчика, «о нравственной чистоте личности Пушкина лучше бы оппоненты помолчали» (далее следовала ссылка на эротические стихотворения поэта). Доклад назывался «Пушкин и его творчество с революционной точки зрения».
Т. Н. Лаппа также запомнила эту дискуссию: «Диспут о Пушкине я помню. Была там. Это в открытом летнем театре происходило. Народу очень много собралось, в основном — молодежь, молодые поэты были. Что там делалось! Это ужас один! Как они были против, Боже мой! Я в зале сидела, где-то впереди, а рядом Булгаков и Беме, юрист, такой немолодой уже. Как там Пушкина ругали! Потом Булгаков пошел выступать и прямо с пеной у рта защищал его. И Беме тоже. А портрет Пушкина хотели уничтожить, но мы не дали. Но многие были и за Булгакова».
Слезкинский Алексей Васильевич тоже выступает на Пушкинском диспуте, где произносит речь в защиту поэта и называет его «революционером духа». Вероятно,
Булгаков мог считать Пушкина революционером только в этом смысле, а совсем не в политическом или социальном. Однако для защиты Пушкина и всего классического наследия от пролеткультовских призывов сбросить их с корабля современности приходилось «революционизировать» творчество и личность поэта, в частности подчеркивая его связь с декабристами. Для Булгакова пушкинская тема явилась поводом утвердить принципы гуманности, осудить убийство и насилие, призвать к соблюдению христианской заповеди «не убий». Однако общественный резонанс его выступления, восторженный прием булгаковской речи значительной частью публики имел для литератора печальные последствия. Астахов в своей газете назвал Булгакова «волком в овечьей шкуре» и весьма зловеще описал отношение аудитории к своему
оппоненту:
«Что стало с молчаливыми шляпками и гладко выбритыми лицами, когда заговорил литератор Булгаков.
Все пришли в движение. Завозились, заерзали от наслаждения: «Наш-то, наш-то выступил! Герой!» Благоговейно раскрыли рты, слушают.
Кажется, ушами захлопали от неистового восторга.
А бывший литератор разошелся (здесь, конечно, «бывший» не в том смысле, что уже оставивший литературную деятельность, а как относящийся к категории «бывших», утративших свое положение в результате революции. — Б. С).
Свой почуял своих, яблочко от яблони должно было упасть, что называется, в самую точку.
И упало.
Захлебывались от экстаза девицы.
Хихикали в кулачок «пенсистые» солидные физиономии.
— Спасибо, товарищ Булгаков! — прокричал один.
Кажется, даже рукопожатия были.
В общем, искусство вечное, искусство прежних людей полагало свой «триумф».
Булгаков был прав, когда в «Записках на манжетах» свое изгнание из подотдела искусств и позднейший спешный отъезд из Владикавказа связал с выступлением на
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 4.
Михаил Булгаков на Красном Кавказе. 1920—1921
157

 Пушкинском диспуте, после которого власти стали считать его не только «бывшим», но и, если так можно выразиться, «общественно опасным». Безвестный провинциальный пролеткультовец, по словам Слезкина, — футурист, последователь Маяковского, Астахов, благодаря истории с Булгаковым и сохранившийся в памяти потомства, еще тогда не только почувствовал враждебность своего оппонента новой власти, но и впервые описал тот феномен полного единения автора со зрителем, который поражал потом многих на спектаклях «Дней Турбиных». Уже во Владикавказе Булгаков стал выразителем настроений тех достаточно многочисленных слоев общества, отнюдь не только одних владельцев недвижимости и капиталов, у которых революция отняла все, ничего не предоставив взамен. Этим была обусловлена и его определенная политическая роль в Москве 20-х годов, этим и объясняется столь ожесточенная травля его в подконтрольной прессе. А начиналось все еще в 20-м, во Владикавказе.
Пушкинском диспуте, после которого власти стали считать его не только «бывшим», но и, если так можно выразиться, «общественно опасным». Безвестный провинциальный пролеткультовец, по словам Слезкина, — футурист, последователь Маяковского, Астахов, благодаря истории с Булгаковым и сохранившийся в памяти потомства, еще тогда не только почувствовал враждебность своего оппонента новой власти, но и впервые описал тот феномен полного единения автора со зрителем, который поражал потом многих на спектаклях «Дней Турбиных». Уже во Владикавказе Булгаков стал выразителем настроений тех достаточно многочисленных слоев общества, отнюдь не только одних владельцев недвижимости и капиталов, у которых революция отняла все, ничего не предоставив взамен. Этим была обусловлена и его определенная политическая роль в Москве 20-х годов, этим и объясняется столь ожесточенная травля его в подконтрольной прессе. А начиналось все еще в 20-м, во Владикавказе.
Несомненно, что Булгаков никаких теплых чувств к Астахову не испытывал, политических и эстетических теорий молодого революционного поэта не разделял. А вот в смысле художественной формы «стиль эпохи» готов был испробовать, и «Записки на манжетах» написаны той же короткой, фрагментарной, «рубленой» прозой, идущей от «Петербурга» Андрея Белого, что и цитированный выше астаховский отчет о Пушкинском диспуте.
Наиболее «революционную» из своих пьес, «Сыновья муллы», Булгаков, по его собственному признанию в автобиографическом рассказе «Богема», написал всего за семь с половиной дней. У драматурга был соавтор — помощник присяжного поверенного, из «туземцев». В «Записках на манжетах» он безымянен, а в «Богеме» назван Гензулаевым. Пьесу писали, по булгаковскому признанию, втроем: «Я, помощник поверенного и голодуха». Хотя благодаря успеху «Сыновей муллы» Булгаков смог уехать «верхом на пьесе в Тифлис», имея деньги и надежды на постановку этого «революционного опуса» (и то и другое быстро иссякло), к своему соавтору, чья роль,
очевидно, свелась к этнографическим подробностям местного быта (на сохранившемся суфлерском экземпляре и в осетинском переводе автор указан один — Булгаков), теплых чувств, очевидно, не питал. Как установил ингушский исследователь Д. А. Гиреев, пьесу помог создать кумык Туаджин Пейзуллаев, по профессии — юрист. Он будто бы был соавтором не только «Сыновей муллы», но и «Самообороны» — юморески из советского быта, когда для защиты от бандитов жильцам приходилось вооружаться и объединяться в домовые группы самообороны. Позднее Пейзуллаев переселился в Москву. Неизвестно, встречался ли Булгаков с Пейзул-лаевым в московские годы, но присяжный поверенный послужил одним из прототипов незабвенного Степы Лиходеева в «Мастере и Маргарите». В первой редакции романа, созданной в 1929 году, директора Варьете звали Гарася Пензулаев, и Воланд выбрасывал его из Москвы не в Ялту, а во Владикавказ. Ялта же появилась лишь в последней редакции, писавшейся в конце 30-х годов. Появилась не без влияния рассказа М. Зощенко «Землетрясение» (1929). Герой рассказа Снопков накануне Большого крымского землетрясения «выкушал полторы бутылки русской горькой», заснул и был раздет до подштанников. Очнувшись и пройдя несколько верст от Ялты, «он присел на камушек и загорюнился. Местности он не узнает, и мыслей он никаких подвести не может. И душа и тело у него холодеют. И жрать чрезвычайно
хочется.
Только под утро Иван Яковлевич Снопков узнал, как и чего. Он у прохожего спросил.
Прохожий ему говорит:
— А ты чего тут, для примеру, в кальсонах ходишь?
Снопков говорит:
— Прямо и сам не понимаю. Скажите, будьте любез
ны, где я нахожусь?
Ну, разговорились. Прохожий говорит:
— Так что до Ялты верст, может, тридцать будет.
Эва, куда ты зашел».
Снопков возвратился и «через всю Ялту... прошел в своих кальсонах. Хотя, впрочем, никто не удивился по
158
олов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 4.
Михаил Булгаков на Красном Кавказе. 1920—1921
159


 случаю землетрясения. Да, впрочем, и так никто бы не поразился».
случаю землетрясения. Да, впрочем, и так никто бы не поразился».
Герой Зощенко — это жертва не только пьянства, но и стихии — землетрясения. Булгаковский Лиходеев тоже наказан за пьянство, но совсем другой стихией — потусторонними силами. Кстати, как и зощенковский герой, щеголяет по Москве в кальсонах Иван Бездомный, а по Парижу — генерал Чарнота в «Беге».
Возможно, Булгаков узнал о смерти своего соавтора (он умер в 1936 году) и потому решил затемнить «владикавказский след» в образе директора Варьете. Как мы увидим дальше, зощенковским героям еще придется прикрывать куда более рискованные параллели в булгаков-ских произведениях.
Видимо, во Владикавказе при красных произошла еще одна запомнившаяся Булгакову встреча — с Н. Н. Покровским, бывшим редактором газеты «Кавказ», ранее работавшим в сытинском «Русском слове». В «Записках на манжетах» это «сотрудник покойного „Русского слова", в гетрах и с сигарой», автор стишка: «До Тифлиса сорок миль... Кто продаст автомобиль?» Есть основания полагать, что через некоторое время Покровский вернулся из Тифлиса во Владикавказ. Во всяком случае, заметка об открытии Горского народного художественного института в местном «Коммунисте» 17 мая 1921 года подписана: Н. Покровский. И Слезкин в «Девушке с гор» приводит диалог Алексея Васильевича с вернувшимся во Владикавказ бывшим редактором в английском френче Петром Ильичом, за которым явственно угадывается фигура Н. Н. Покровского. Петр Ильич собирался эмигрировать по документу от итальянского консульства (в «Записках на манжетах» редактор тоже собирается бежать с итальянским удостоверением), но тяготы интернирования в Грузии быстро его разочаровали: «Вы не видали, как отступали наши доблестные войска? О, вы много потеряли. Это была картина, доложу я вам. Когда тысячи людей в арбах, верхом, пехтурою бежали по снегу в горы за месяц до того, как пришли советские войска. И в Ларсе их разоружили кин-
тошники, раньше чем пустить в обетованную землю. Многие возвращались назад, многие стрелялись или стреляли в других», — рассказывает он Алексею Васильевичу. А вот как объясняет Петр Ильич причины своего возвращения в замечательном монологе, который стоит того, чтобы быть воспроизведенным полностью: «Вы юморист, дорогой мой! Положительно юморист! Я всегда говорил вам это. Но позвольте узнать, что бы я стал делать за границей? Что бы я стал там делать? Ответьте мне. Гранить мостовую Парижа, Лондона или Берлина, курить сигары, витийствовать в кафе, разносить бабьи сплетни или писать пифийские статьи в русских газетах? Но ведь это не по мне. Я сдох бы от скуки через месяц, зарезал бы свою любовницу, ограбил бы банкирскую контору и глупо закончил бы свои дела в тюрьме, как мелкий жулик. Составлять новую армию для похода на Россию? Занятно. Но дело в том, что я хорошо знаю, чем может кончиться такая история. Скучнейшей чепухой, родной мой! Не скрою от вас, потому что вы сами это знаете, — я авантюрист и не люблю играть впустую. В конечном счете громкими словами меня не прошибешь, дудки. Я слишком хорошо знаю цену всем этим идеям, общественным мнениям, благородным порывам. Война учит, уверяю вас. В ней я нашел свою стихию. Мне претит спокойная жизнь, как может только претить законная жена. Политика меня нисколько не интересует, как идейная борьба, — это юбка, которую надевают для того, чтобы каждый любовник думал, что он ее первый снимает. Я журналист, но в боевой обстановке. Добровольцы, сознаюсь вам, всегда были противны мне своей наглостью и своей глупостью, но я работал с ними, редактировал их газету, объединяя каких-то горцев, пока это было интересно. Красные мне не очень приятны, но за ними я чувствую силу умелых игроков, и с ними любопытно сесть за один стол — сразиться. И я еду назад. И иду ва-банк. Уверяю вас, только в России сейчас можно жить. Только в Эрэсэфэсэр. Здесь один день не похож на другой, сегодня не знаешь, что будет завтра, и если тебя не расстреляют, то у тебя все шансы расстреливать самому. Не так ли?»
 |
| 161 |
160 БоРис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
Мы не знаем дальнейшей судьбы Н. Н. Покровского. Не знаем даже, был ли у него подобный разговор в красном Владикавказе с Булгаковым или Слезкиным. Но можно быть уверенным в том, что либо сам Покровский, либо слезкинский Петр Ильич повлияли на целый ряд булгаковских героев (так или иначе решивших сотрудничать с большевиками): от несимпатичного Тальберга до симпатичного Мышлаевского и несимпатичного в романе, но симпатичного в пьесе Шервинского. Слова Покровского (или Слезкина) могли также поколебать намерение Булгакова эмигрировать.
Строго говоря, не все пьесы владикавказского периода Булгаков считал совсем уж слабыми. «Парижских коммунаров» он посылал на конкурс в Москву, пьеса была встречена конкурсной комиссией достаточно благосклонно, и 8 мая 1921 года владикавказский «Коммунист» сообщал, что пьеса намечена к постановке в Москве. Однако комиссия требовала переделок, на которые Булгаков не согласился, и вопрос с постановкой отпал*. Более же других Булгаков ценил пьесу «Глиняные женихи». Сестре Вере 26 апреля 1921 года он писал: «Лучшей моей пьесой подлинного жанра я считаю 3-актную комедию-буфф салонного типа „Вероломный папаша" („Глиняные женихи"). И как раз она не идет, да и не пойдет, несмотря на то что комиссия, слушавшая ее, хохотала в продолжение всех трех актов... Салонная! Салонная! Понимаешь». Вероятно, именно эту пьесу уже в Москве в середине 20-х годов писатель пробовал восстановить вместе со второй женой Л. Е. Белозерской. В своих мемуарах Любовь Евгеньевна вспоминала: «...Пришел оживленный М. А. и сказал, что мы будем вместе писать пьесу из французской жизни (я несколько лет прожила во Франции) и что у него уже есть название: „Белая глина". Я очень удивилась и спросила, что это такое — „белая глина", зачем она нужна и что из нее делают.
— Мопсов из нее делают, — смеясь, ответил он.
 * Впрочем, в письме к Н. А. Земской от 2 июня 1921 года Булгаков отмечал, что «Парижские коммунары» годятся к постановке лишь в качестве спектакля к празднику, а «как пьеса они никуда».
* Впрочем, в письме к Н. А. Земской от 2 июня 1921 года Булгаков отмечал, что «Парижские коммунары» годятся к постановке лишь в качестве спектакля к празднику, а «как пьеса они никуда».
| ГЛАВА 4. |
Михаил Булгаков на Красном Кавказе. 1920—1921
Эту фразу потом говорило одно из действующих лиц пьесы.
Много позже, перечитывая чеховский „Вишневый сад", я натолкнулась на рассказ Симеонова-Пищика о том, что англичане нашли у него в саду белую глину, заключили с ним арендный договор на разработку ее и дали ему задаток. Вот откуда пошло такое необычайное название! В результате я так и не узнала, что, кроме мопсов, из этой глины делают.
Зато сочиняли мы и очень веселились.
Схема пьесы была незамысловата. В большом и богатом имении вдовы Дюваль, которая живет там с 18-летней дочерью, обнаружена белая глина.
Эта новость волнует всех окрестных помещиков: никто толком не знает, что это за штука. Мосье Поль Ив, тоже вдовец, живущий неподалеку, бросается на разведку в поместье Дюваль и сразу же попадает под чары хозяйки.
И мать, и дочь необыкновенно похожи друг на друга. Почти одинаковым туалетом они еще более усугубляют это сходство: их забавляют постоянно возникающие недоразумения на этой почве. В ошибку впадает мсье Ив, затем его сын Жан, студент, приехавший из Сорбонны на каникулы, и, наконец, инженер-геолог, эльзасец фон Трупп, приглашенный для исследования глины и тоже сразу бешено влюбившийся в мадам Дюваль. Он — классический тип ревнивца. С его приездом в доме начинается кутерьма. Он не расстается с револьвером.
— Проклятое сходство! — кричит он. — Я хочу застрелить мать, а целюсь в дочь...
Тут и объяснения, и погоня, и борьба, и угрозы самоубийства. Когда наконец обманом удается отнять у ревнивца револьвер, оказывается, что он не заряжен... В третьем действии все кончается общим благополучием. Тут мы применили принцип детской скороговорки: „Ях женился на Цип, Яхциндрах на Циппидрип... Поль Ив женится на Дюваль-матери, его сын Жан — на Дюваль-дочери, а фон Трупп — на экономке мсье Ива мадам Мелани.
162 Б°РИС Соколов ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 4.
Михаил Булгаков на Красном Кавказе. 1920—1921
163
ы мечтали увидеть „Белую глину" у Корша, в роли мсье Ива — Радина, а в роли фон Труппа — Топоркова.
Два готовых действия мы показали Александру Николаевичу Тихонову (Сереброву) (в будущем — руководителю вместе с Горьким серии „ЖЗЛ" и одному из губителей булгаковской биографии Мольера. — Б. С). Он со свойственной ему грубоватой откровенностью сказал:
— Ну подумайте сами, ну кому нужна сейчас светская комедия?
Так третьего действия мы и не дописали».
Не исключено, что в «Глиняных женихах» тот же сюжет разрабатывался не на французском, а на местном материале. В пьесе могли отразиться и домашние водевили Булгаковых киевской поры, в частности «Поездка Ивана Павловича в Житомир», в которой И. П. Воскресенский, считая булгаковского двоюродного брата Костю виновным в смерти пациента, целится в него из револьвера, но по ошибке попадает в Муика — тетку Булгакова Ирину Лукиничну, которая умирает со словами «пианино Леле», ставшими крылатыми в семье, поскольку сестра Елена (Леля) увлекалась музыкой.
Водевильная стихия, как видим, издавна привлекала Булгакова, но в конкретных советских условиях это направление творчества не могло полноценно реализоваться. Ни во Владикавказе, ни в Москве никому не были нужны «салонные», или «светские», комедии (разумеется, речь идет о тех, от кого зависело, ставить или не ставить пьесу).
«Братьей Турбиных» Булгаков уже тогда, как он писал Н. А. Земской 2 июня 1921 года, начал переделывать в «большую драму», почему и просил сестру сжечь рукопись. Возможно, это была уже самая ранняя редакция «Дней Турбиных» с перенесением действия в эпоху гражданской войны. Параллельно Булгаков стал писать роман, о чем сообщал двоюродному брату Константину 1 февраля 1921 года: «Пишу роман, единственная за все время продуманная вещь. Но печаль опять: ведь это индивидуальное творчество, а сейчас идет совсем дру-
гое»; 16 февраля уточнял: «Сейчас я пишу большой роман по канве „Недуга"». Вероятно, в новом романе речь шла о герое-наркомане. Не исключено также, что это был самый ранний вариант «Белой гвардии» или что здесь соединялись темы «Морфия» и событий 1918— 1919 годов в Киеве, а под «Недугом» понималась не только болезнь героя, но и болезнь общества — революция.
В красном Владикавказе, похоже, был опубликован лишь один фельетон Булгакова — «Неделя просвещения» — в «Коммунисте» 1 апреля 1921 года (на «день смеха» публикация пришлась, вероятно, случайно). В письме сестре Вере автор характеризовал его как «вещь совершенно ерундовую». В «Богеме» Булгаков назвал этот фельетон одним из трех своих преступлений (в юмористическом, конечно, смысле. Два других «преступления» — это растрата в 1907 году полутора рублей, данных для покупки учебника физики, на кинематограф и женитьба в 1913 году вопреки воле матери). Серьезные произведения во Владикавказе он публиковать не мог. Тексты некоторых из них остались в Киеве. В письмах родным из Владикавказа Булгаков называет «Наброски земского врача», «Недуг», «Первый цвет», «Зеленый змий». Эти рукописи он впоследствии уже в Москве уничтожил, но некоторые идеи и мотивы воплотил в «Записках юного врача», «Морфии», а также, быть может, в «Белой гвардии» и «Ханском огне».
В письме двоюродному брату Константину от 1 февраля 1921 года Булгаков признавался: «Жизнь моя — мое страдание. Ах, Костя, ты не можешь себе представить, как бы я хотел, чтобы ты был здесь, когда „Турбины" шли в первый раз. Ты не можешь себе представить, какая печаль была у меня в душе, что пьеса идет в дыре захолустной, что я запоздал на 4 года с тем, что я должен был давно начать делать — писать.
В театре орали: „Автора" и хлопали, хлопали... Когда меня вызвали после 2-го акта, я выходил со смутным чувством... Смутно глядел на загримированные лица актеров, на гремящий зал. И думал: „А ведь это моя мечта исполнилась... но как уродливо: вместо московской
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
-D-

|
сцены сцена провинциальная, вместо драмы об Алеше Турбине, которую я лелеял, наспех сделанная, незрелая вещь".
Судьба — насмешница».
Несомненно, желание явить себя столице было одним из побудительных мотивов переезда в Москву. И судьбе было угодно, чтобы булгаковские «Дни Турбиных» прогремели вскоре с мхатовской сцены на всю страну.
5
 "Ничем иным я быть не могу, я могу быть одним — писателем"
"Ничем иным я быть не могу, я могу быть одним — писателем"
МИХАИЛ БУЛГАКОВ —
ЖУРНАЛИСТ, ДРАМАТУРГ,
ПРОЗАИК
1921 — 1929
-П D П-
улгаков прибыл в Москву в 20-х числах сентя- бря 1921 года воссоединился здесь с женой. Первое время они жили в Тихомировском сту- денческом общежитии, куда их устроил киевский друг студент-медик Николай Леонидович Гладырев-ский (его брат Юрий послужил одним из прототипов Шервинского в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных»). Вскоре, как мы уже говорили, они переселились в комнату А. М. Земского в квартиру № 50 в доме 10 по Большой Садовой. В октябре Андрей уехал к Наде в Киев и оставил квартиру Булгаковым. Михаилу и Тасе пришлось познать все прелести коммунального быта. В письме сестре Наде 23 октября 1921 года Михаил привел шуточные стихи о своей квартире:
На Большой Садовой
Стоит дом здоровый.
Живет в доме наш брат,
Организованный пролетариат.
И я затерялся между пролетариатом
Как какой-нибудь, извините за выражение, атом.
Жаль, некоторых удобств нет.
Например — испорчен в<ате>р-кл<озе>т.
С умывальником тоже беда —
Днем он сухой, а ночью из него на пол течет вода.
Питаемся понемножку:
Сахарин и картошка.
Свет электрический — странной марки —
То потухнет, а то опять ни с того
Ни с сего разгорится ярко.
Теперь, впрочем, уже несколько дней горит подряд.
И пролетариат очень рад.
За левой стеной женский голос
Выводит: «бедная чайка...»
А за правой играют на балалайке...
Начало нэпа, или, вернее, период перехода к нэпу от политики военного коммунизма был очень тяжелым для населения, особенно городского. Продуктов еще не хва-
 168 Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
168 Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
тало, а безработица свирепствовала вовсю. Булгакова с 1 октября 1921 года назначили секретарем Литературного отдела (ЛИТО) Главполитпросвета, который просуществовал недолго: 23 ноября отдел был ликвидирован, и с 1 декабря Булгаков считался уволенным. Пришлось искать работу. Михаил начал сотрудничать в частной газете «Торгово-промышленный вестник». Но вышло всего шесть номеров, и к середине января 1922 года Булгаков вновь оказался безработным. Конец января и первая половина февраля были самыми тяжелыми в жизни писателя. Он записал в дневнике 9 февраля: «Идет самый черный период моей жизни. Мы с женой голодаем. Пришлось взять у дядьки (Н. М. Покровского. — Б. С.) немного муки, постного масла и картошки. У Бориса (брата А. М. Земского. —Б. С.) — миллион. Обегал всю Москву — нет места. Валенки рассыпались». 16 февраля появилась надежда устроиться в газету «Рабочий» — орган ЦК ВКП(б). С начала марта Булгаков стал ее сотрудником. Параллельно с середины февраля с помощью Б. М. Земского Михаил Афанасьевич получил место заведующего издательством в Научно-техническом комитете Военно-воздушной академии имени Жуковского (сам Б. М. Земский состоял постоянным членом комитета). Это давало хоть какую-то возможность жить. 24 марта 1922 года Булгаков сообщал Н. А. Земской: «На двух службах получаю всего 197 руб. (по курсу Наркомфина за март около 40 миллионов) в месяц, т. е. 1/2 того, что мне требуется для жизни (если только жизнью можно назвать мое существование за последние два года) с Тасей. Она, конечно, нигде не служит и готовит на маленькой железной печке. (Кроме жалованья у меня плебейский паек. Но боюсь, что в дальнейшем он все больше будет хромать.)».
Первого февраля 1922 года умерла, заразившись сыпным тифом, мать Булгакова. Михаил и Тася на похороны не приехали. Об обстоятельствах, связанных с этим печальным событием, вспоминала Т. Н. Лаппа: «У нас ни копейки не было... Понимаете, даже разговора не было об этом... Я немножко как-то удивилась, но он как раз в этот день должен был идти куда-то играть. Он устроил-
| ГЛАВА5. |
Михаил Булгаков — журналист драматург, прозаик. 1921—1929
ся... какая-то бродячая труппа была (26 января 1922 года Булгаков записал в дневнике: «Вошел в бродячий коллектив актеров: буду играть на окраинах. Плата 125 (тыс.) за спектакль. Убийственно мало. Конечно, из-за этих спектаклей писать будет некогда. Заколдованный круг». — Б. С), и мы получили телеграмму. Как раз это вечером было. Ну, как вы думаете, откуда мы могли взять деньги? Пойти к дяде Коле просить?.. Очень трудно было доставать билеты. Это ж 22-й год был. Он нигде не работал, я нигде не работала, одними вещами жили, и те уж на исходе были. Бывало так, что у нас ничего не было — ни картошки, ни хлеба, ничего. Михаил бегал голодный». Мать Булгаков любил, хотя нередко и конфликтовал с ней. Ее памяти он посвятил самые добрые слова в романе «Белая гвардия». Да и сама смерть матери явилась одним из толчков к реализации замысла романа.
Постепенно улаживались жилищные дела. Соседи Булгакова с помощью жилтоварищества пытались выселить его из квартиры. Спасло обращение на имя руководителя Главполитпросвета Н. К. Крупской. По ее распоряжению Булгакова прописали на Б. Садовой. Ряд исследователей относит это важное событие к октябрю — ноябрю 1921-го, справедливо увязывая его с работой писателя в ЛИТО Главполитпросвета. Т. Н. Лаппа же утверждает, что обращение к Крупской было в период работы Булгакова в «Рабочем», то есть в марте 1922 года. Эту историю он изложил в очерке «Воспоминание...», появившемся в связи со смертью Ленина, и там относит заступничество Крупской к концу 1921 года. «Нехорошая квартира» дала богатую пищу для булгаков-ских фельетонов и рассказов 20-х годов, а одна из самых скандальных соседок, Аннушка Чума, перекочевала и в «Мастера и Маргариту».
Материальное положение семьи стало постепенно улучшаться, чему способствовали публикации репортажей и статей Булгакова. 4 февраля 1922 года в газете «Правда» был напечатан первый московский репортаж Булгакова «Эмигрантская портняжная фабрика». Затем репортажи и статьи под разными псевдонимами стали
 270 Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
270 Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
появляться в «Рабочем» и других газетах. Некоторые рассказы, в частности «Необыкновенные приключения доктора», были напечатаны в журнале «Рупор», других московских изданиях. С начала апреля, по рекомендации бывшего товарища по ЛИТО А. И. Эрлиха, Булгаков поступает литературным обработчиком в газету железнодорожников «Гудок». В его задачу входит придание литературной формы корреспонденциям из провинции, не отличавшимся элементарной грамотностью. Параллельно он пишет для «Гудка» репортажи, рассказы и фельетоны — к настоящему времени их выявлено в этой газете за 1922—1926 годы 112. Эта продукция для «Гудка», «Рабочего» и других советских газет и журналов не приносила морального и творческого удовлетворения, хотя и обеспечивала писателя хлебом насущным. И все же средств постоянно не хватало. 18 апреля 1922 года Булгаков сообщал сестре, что, помимо прочего, работает еще конферансье в небольшом театре. В том же письме свои совокупные доходы он оценивал за первую половину апреля более чем в 70 млн. рублей, не считая пайка, то есть его положение по сравнению с мартом, даже с учетом инфляции, значительно улучшилось.
Добрые отношения сложились у Булгакова с Б. М. Земским, который в письме сестре Наде 24 марта был охарактеризован очень тепло: «Живет он хорошо. Как у него уютно кажется, в особенности после кошмарной квартиры № 50!.. Он редкий товарищ и прелестный собеседник... Оседлость Боба, его гомерические пайки и неистощимое уменье М<арии> Д<аниловны> (жены Б. М. Земского. — Б. С.) жить наладят их существование всегда. От души желаю ему этого». Борис Михайлович, в свою очередь, писал 9 апреля 1922 года Н. А. и А. М. Земским: «Булгаковых мы очень полюбили и видимся почти каждый день. Миша меня поражает своей энергией, работоспособностью, предприимчивостью и бодростью духа. Мы с ним большие друзья и неразлучные собеседники. Он служит в газете и у меня в Научно-техническом) комитете. Можно с уверенностью сказать, что он поймает свою судьбу, — она от него не уйдет...» Благополучие семьи Б. М. Земского, достигнутое за счет напря-
| ГЛАВА 5. |
| Михаил Булгаков — журналист к. 1921—19 |
| драматург, прозаик. |
171
женного интеллектуального труда (глава семьи трудился сразу на нескольких службах: помимо Научно-технического комитета, он состоял заведующим Летным отделом ЦАГИ и читал лекции по механике в Институте инженеров воздушного флота), в какой-то мере было для Булгакова образцом. Он различал благополучие тружеников, подобных Борису, и благополучие нэпманов и новых коммунистических начальников, часто погрязших в совместных с «новой буржуазией» махинациях. Последних он зло высмеивал в своих фельетонах, в комедии «Зой-кина квартира».
Еще в письме к матери 17 ноября 1921 года Булгаков заявлял: «Труден будет конец ноября и декабрь, как раз момент перехода на частные предприятия (тут он немного ошибся: тяжелее всего пришлось позже — в феврале. — Б. С). Но я рассчитываю на огромное количество моих знакомств и теперь уже с полным правом на энергию, которую пришлось проявить volens-nolens*. Знакомств масса и журнальных, и театральных, и деловых просто. Это много значит в теперешней Москве, которая переходит к новой, невиданной в ней давно уже жизни — яростной конкуренции, беготне, проявлению инициативы и т. д. Вне такой жизни жить нельзя, иначе погибнешь. В числе погибших быть не желаю». Своей целью Булгаков в том же письме провозглашал «в 3 года восстановить норму — квартиру, одежду, пищу и книги». И действительно, за три года писателю удалось во многом реализовать намеченное (вот только получение квартиры потребовало более длительного срока — окончательно этот вопрос был решен только в 1934 году с приобретением кооперативной квартиры в Нащокин-ском переулке, 35).
С введением нэпа жизнь в Москве постепенно налаживалась. Изобилие в московских магазинах и кафе, наряду с нарастающей «спекулянтской волной», постоянным ростом цен Булгаков отмечал в письме к матери. Этой теме был посвящен и написанный в январе 1922 года фельетон «Торговый ренессанс», так и не опубликован-
 Волей-неволей (лат.).
Волей-неволей (лат.).
 | |||||
 | |||||
 |
| 173 |
1 У2, БоРис Сок°лов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ный при жизни автора. Правда, к 1924 году — сроку, намеченному для себя Булгаковым, — частное предпринимательство уже подвергается очень жестким ограничениям. Этот процесс, параллельно сопровождаемый ростом советской бюрократии, окончательно завершился в 1929-м — «году великого перелома», среди прочего, переломившему хребет нэпу. Но в период 1922— 1924 годов благодаря нэпу несколько облегчается положение литераторов, не придерживающихся коммунистических воззрений и не готовых плясать под дудку Пролеткульта. В общественной жизни страны появилось новое идеологическое течение — «сменовеховство», родившееся в эмиграции, но оказавшее свое влияние и на метрополию. Несколько лет Булгаков печатался в «сменовеховских» изданиях. Это и дало повод впоследствии враждебной критике (в общем-то безосновательно) име-нозать его «сменовеховцем».
Свое название течение получило от сборника «Смена вех», вышедшего в июле 1921 года в Праге. В нем участвовал ряд видных деятелей эмиграции, в том числе и бывшие министры правительства Колчака — Ю. В. Ключников, Е. В. Устрялов, А. В. Бобрищев-Пушкин, Ю. Н. Потехин и др. Сменовеховцы верили, что нэп — серьезный признак эволюции большевизма в сторону нормального цивилизованного общества, и потому советскую власть эмиграция может принять и с ней работать, способствуя дальнейшему развитию эволюционного процесса. Конечно же, они трагически (прежде всего для самих себя) заблуждались. Нэп был не более чем временной мерой, призванной способствовать получению вложений с Запада в концессии (чтобы потом прибрать их к рукам) и дать возможность населению, прежде всего крестьянству, мелким и средним ремесленникам и предпринимателям, «обрасти шерстью и нагулять жирок», чтобы потом их сподручнее было «резать или стричь». Ни сменовеховцам, ни Булгакову не было известно секретное письмо наркома внешней торговли, полпреда и торгпреда в Великобритании Л. Б. Красина Председателю Совнаркома В. И. Ленину от 19 августа 1921 года, в котором «наш новый курс» откровенно охарактеризован как
| ГЛАВА 5. |
Михаил Булгаков — журналист драматург, прозаик. 1921—1929
«столь успешно начатое втирание очков всему свету». Среди тех, кому успешно втерли очки, оказались и лидеры сменовеховства. Булгаков же обмануть себя не дал. Правда, похоже, некоторые коммунистические вожди рассматривали нэп как политику, рассчитанную на более длительное и серьезное обустройство советского плацдарма, с которого в случае нового кризиса можно будет развернуть новое наступление на Запад для торжества мировой революции. Сменовеховцы представлялись им возможными союзниками. Так, вскоре после выхода сборника «Смена вех», председатель Реввоенсовета и наркомвоенмор Л. Д. Троцкий следующим образом определял его значение: «Люди, которые давали министров Колчаку, поняли, что Красная Армия не есть выдумка эмигрантов, что это не разбойничья банда, — она является национальным выражением русского народа в настоящем фазисе развития. Они абсолютно правы... Наше несчастье, что страна безграмотная, и, конечно, годы и годы понадобятся, пока исчезнет безграмотность и русский трудовой человек приобщится к ку!ьтуре». Однако сразу после смерти Ленина в январе 1924 года Троцкий фактически был лишен существенного влияния на правительственную политику, что не преминул отметить Булгаков в дневниковой записи 8 января 1924 года, сделанной в связи с публикацией в газетах бюллетеня о состоянии здоровья Троцкого. Бюллетень заканчивался информацией о том, что председателю Реввоенсовета и формально второму после Ленина лицу в большевистской иерархии предоставлен «отпуск с полным освобождением от всех обязанностей, на срок не менее 2 месяцев». Писатель так прокомментировал происшедшее: «Итак, 8-го января 1924 года Троцкого выставили. Что будет с Россией, знает один Бог. Пусть он ей поможет!» Вероятно, Булгаков все-таки уважал своего бывшего противника по гражданской войне, хотя бы за готовность широко привлекать на службу специалистов из числа интеллигенции. Главное же, почему автор дневника негативно оценивал устранение Троцкого (и это еще более показательно в свете свойственного Булгакову и широко отразившегося в дневнике бытового анти-
Борис Соколов.ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 5.
Михаил Булгаков — журналист драматург, прозаик. 1921—1929

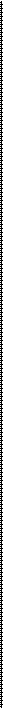 семитизма)*, заключалось, думается, в том, что даже призрачная свобода в выражении общественного мнения, сохранявшаяся в первой половине 20-х годов, обязана была во многом продолжавшейся скрытой борьбе между различными фракциями в коммунистическом руководстве. С устранением фракций и установлением единоличной диктатуры Сталина (трудно сказать, сознавал ли тогда Булгаков, что именно Сталин — единственный реальный кандидат на пост диктатора) открывалась возможность для еще большего ужесточения тотального идеологического контроля и неограниченных репрессий. С устранением «левой» и «правой» оппозиции в партии и состоялся «великий перелом», после чего оказалась подавлена всякая несанкционированная партией и государством (или, вернее, партией-государством, настолько тесно сплелись они в одно целое) инициатива как в экономической, так и в идеологической области. Большинство сменовеховцев, увидевших в Сталине «сильную власть», способную создать мощное национальное государство, и вернувшихся на родину в конце 20-х и начале 30-х, пали жертвами волны репрессий 1937—1938 годов. Исключение было сделано для некоторых, активно участвовавших в идеологических начинаниях режима еще в 20-е годы или публично порвавших с эмиграцией деяте-
семитизма)*, заключалось, думается, в том, что даже призрачная свобода в выражении общественного мнения, сохранявшаяся в первой половине 20-х годов, обязана была во многом продолжавшейся скрытой борьбе между различными фракциями в коммунистическом руководстве. С устранением фракций и установлением единоличной диктатуры Сталина (трудно сказать, сознавал ли тогда Булгаков, что именно Сталин — единственный реальный кандидат на пост диктатора) открывалась возможность для еще большего ужесточения тотального идеологического контроля и неограниченных репрессий. С устранением «левой» и «правой» оппозиции в партии и состоялся «великий перелом», после чего оказалась подавлена всякая несанкционированная партией и государством (или, вернее, партией-государством, настолько тесно сплелись они в одно целое) инициатива как в экономической, так и в идеологической области. Большинство сменовеховцев, увидевших в Сталине «сильную власть», способную создать мощное национальное государство, и вернувшихся на родину в конце 20-х и начале 30-х, пали жертвами волны репрессий 1937—1938 годов. Исключение было сделано для некоторых, активно участвовавших в идеологических начинаниях режима еще в 20-е годы или публично порвавших с эмиграцией деяте-
 * В ряде дневниковых записей Булгаков демонстрирует неприязненное отношение к евреям. Так, в дневниковой записи в ночь с 20 на 21 декабря 1924 года не встретившие поддержку писателя действия французского премьера Э. Эррио, который «этих большевиков допустил в Париж», объясняются исключительно мнимо еврейским происхождением политика: «У меня нет никаких сомнений, что он еврей. Люба (Л. Е. Белозерская. — Б. С.) мне это подтвердила, сказав, что она разговаривала с людьми, лично знающими Эррио. Тогда все понятно». Также подчеркивается и еврейская национальность не понравившегося Булгакову драматического тенора Большого театра В. Я. Викторова, а неодобрительно отзываясь о публике, посещавшей литературные «Никитинские субботники», писатель подчеркивает, что это — «затхлая, советская, рабская рвань, с густой примесью евреев». Булгаков явно разделял бытовой антисемитизм, выразившийся в негативном стереотипе евреев, со своей средой — русской православной интеллигенцией Киева, причем этот стереотип был усугублен значительной ролью, которую сыграли в революции лица еврейского происхождения. Однако автор «Белой гвардии» и «Дней Турбиных» смог подняться над предрассудками: именно евреи выступают у него безвинными жертвами гражданской войны.
* В ряде дневниковых записей Булгаков демонстрирует неприязненное отношение к евреям. Так, в дневниковой записи в ночь с 20 на 21 декабря 1924 года не встретившие поддержку писателя действия французского премьера Э. Эррио, который «этих большевиков допустил в Париж», объясняются исключительно мнимо еврейским происхождением политика: «У меня нет никаких сомнений, что он еврей. Люба (Л. Е. Белозерская. — Б. С.) мне это подтвердила, сказав, что она разговаривала с людьми, лично знающими Эррио. Тогда все понятно». Также подчеркивается и еврейская национальность не понравившегося Булгакову драматического тенора Большого театра В. Я. Викторова, а неодобрительно отзываясь о публике, посещавшей литературные «Никитинские субботники», писатель подчеркивает, что это — «затхлая, советская, рабская рвань, с густой примесью евреев». Булгаков явно разделял бытовой антисемитизм, выразившийся в негативном стереотипе евреев, со своей средой — русской православной интеллигенцией Киева, причем этот стереотип был усугублен значительной ролью, которую сыграли в революции лица еврейского происхождения. Однако автор «Белой гвардии» и «Дней Турбиных» смог подняться над предрассудками: именно евреи выступают у него безвинными жертвами гражданской войны.
лей сменовеховства, вроде писателей Ильи Эренбурга и Алексея Толстого (последнего Булгаков зло именовал «трудовым графом» и «грязным, бесчестным шутом»).
Сам Булгаков крайне скептически относился к возможности перерождения или эволюции советского режима в эпоху нэпа в провозглашенный Устряловым путь «эволюции умов и сердец». В дневнике 26 октября 1923 года писатель крайне негативно отозвался о берлинской сменовеховской газете «Накануне», где вынужден был печатать свои лучшие рассказы, очерки и фельетоны (в советских газетах они не проходили): «Мои предчувствия относительно людей никогда меня не обманывают. Никогда. Компания исключительной сволочи группируется вокруг «Накануне». Могу себя поздравить, что я в их среде. О, мне очень туго придется впоследствии, когда нужно будет соскребать накопившуюся грязь со своего имени. Но одно могу сказать с чистым сердцем перед самим собой. Железная необходимость вынудила меня печататься в нем. Не будь «Накануне», никогда бы не увидали света ни «Записки на манжетах», ни многое другое, в чем я могу правдиво сказать литературное слово. Нужно было быть искг очительным героем, чтобы молчать в течение четырех лет, молчать без надежды, что удастся открыть рот в будущем. Я, к сожалению, не герой». В записи же от 23 декабря 1924 года он абсолютно точно предсказал и политическое будущее сменовеховства, и личную судьбу отдельных его деятелей: «Все они настолько считают, что партия безнадежно сыграна, что бросаются в воду в одежде. Василевский (муж второй жены Булгакова Л. Е. Белозерской, видный сменовеховец, писавший под псевдонимом Не-Бук-ва. — Б. С.) одну из книжек выпустил под псевдонимом. Насчет первой партии совершенно верно. И единственная ошибка всех Павлов Николаевичей (речь идет о П. Н. Милюкове. — Б. С.) и Пасманников (видный либеральный журналист Д. С. Пасманник. — Б. С), сидящих в Париже, что они все еще доканчивают первую, в то время как логическое следствие —^ за первой партией идет совершенно другая, вторая. Какие бы ни сложились в ней комбинации — Бобрищев (А. В. Бобрищев-Пушкин, крайне
 | |||
 | |||
| 177 |
J 76 Б°РИС Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
правый публицист, сделавшийся сменовеховцем. — Б. С.) погибнет».
Булгаков, как он сам признавался, героем не был (да и не должен писатель обязательно быть героем, он же не солдат), но неприятие сменовеховства проглядывало в его произведениях, может быть, даже помимо писательской воли и не осталось не замеченным критикой. Так, Е. Мустангова, одна из «непримиримых» по отношению к булгаковскому творчеству, еще в 1927 году совершенно верно подметила, что «идеология самого автора неподвижней приспособляющейся идеологии Турбиных. Булгаков не хочет приспособиться. Обывательский скепсис по отношению к организующей силе нового хозяина жизни остается основной чертой его мироощущения. О сменовеховстве Булгакова можно говорить очень условно». Будто знал критик о нелюбви Филиппа Филипповича (из «Собачьего сердца») к пролетариату (а может, и слышал, когда Булгаков в 1925 году читал повесть на литературных «субботниках» у Е. Ф. Никитиной). На самом деле писатель, как он сам признавался в дневнике, на определенные компромиссы, вроде публикаций в «Накануне» скрепя сердце соглашался. Он готов был максимально маскировать свою критику советской власти. Границей компромисса была, без сомнения, поддержка новой власти даже в качестве «меньшего из зол», как это делали сменовеховцы, и открытое одобрение сделанного ею. С такими принципами в середине 20-х годов еще можно было печатать прозу и ставить пьесы, а в конце 20-х — уже нет.
Выход в свет относительно больших булгаковских произведений — повестей — связан с издательством «Недра», возглавлявшимся старым большевиком, литературным критиком Н. С. Ангарским (Клестовым). В 1924 году в альманахе «Недра» была напечатана повесть «Дья-волиада» — о безумии и гибели гоголевского «маленького человека» в колесах советской бюрократической машины. Повесть прошла почти незамеченной; только
| ГЛАВА 5. |
Михаил Булгаков — журналист драматург, прозаик. 1921—1929
известный писатель Евгений Замятин, с которым Булгаков впоследствии подружился, уделил ей внимание в статье «О сегодняшнем и современном»: «Единственное модерное ископаемое в «Недрах» — «Дьяволиада» Булгакова. У автора, несомненно, есть верный инстинкт в выборе композиционной установки: фантастика, корнями врастающая в быт, быстрая, как в кино, смена картин — одна из тех (немногих) формальных рамок, в какие можно уложить наше вчера —19, 20-й год. Термин «кино» — приложим к этой вещи тем более, что вся повесть плоскостная, двухмерная, все — на поверхности и никакой, даже вершковой, глубины сцен — нет... Абсолютная ценность этой вещи Булгакова — уж очень какой-то бездумной — не так велика, но от автора, по-видимому, можно ждать хороших работ».
Прогноз Замятина оправдался. Уже следующая повесть Булгакова, «Роковые яйца», оконченная в октябре 1924 года и опубликованная в шестом выпуске альманаха «Недра» в 1925-м, привлекла внимание критики и была расценена как острая сатира на советскую власть. Чем же замечательны «Роковые яйца»? 28 декабря 1924 года, еще до публикации повести, Булгаков размышлял о ней в дневнике: «Что это? Фельетон Или дерзость? А может быть, серьезное? Тогда невыпеченное». В чем же была дерзость?
Главный герой повести — профессор Владимир Ипатьевич Персиков, изобретатель красного «луча жизни». Однако с помощью этого луча порождаются чудовищные пресмыкающиеся, создающие угрозу гибели страны. Красный луч здесь символизирует социалистическую революцию в России, совершенную под лозунгами построения лучшего будущего, но на поверку принесшую народу террор и диктатуру. Булгаков хорошо видел трагические последствия социалистического эксперимента. Гибель Персикова во время стихийного бунта толпы, возбужденной угрозой нашествия на Москву полчищ непобедимых гадов, олицетворяет ту угрозу, которую таил начатый Лениным и большевиками эксперимент по внедрению «красного луча» революции сперва в России, а потом, как они надеялись, и во всем мире.
1 78 БоРис С0™»10»- ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 5.
Михаил Булгаков — журналист 7 *7Q драматург, прозаик. 1921—1929 J. / s

 Между прочим, есть серьезные основания полагать, что в первой редакции повести финал был не таким оптимистичным, как в опубликованном тексте, где полчища гадов гибнут на подступах к Москве от чудесным образом наступивших в августе двадцатиградусных морозов. 6 января 1925 года в берлинской газете «Дни» в рубрике «Российские литературные новости» сообщалось: «Молодой писатель Булгаков читал недавно авантюрную повесть «Роковые яйца». Хоть она литературно незначительна, но стоит познакомиться с ее сюжетом, чтобы составить себе представление об этой стороне российского литературного творчества.
Между прочим, есть серьезные основания полагать, что в первой редакции повести финал был не таким оптимистичным, как в опубликованном тексте, где полчища гадов гибнут на подступах к Москве от чудесным образом наступивших в августе двадцатиградусных морозов. 6 января 1925 года в берлинской газете «Дни» в рубрике «Российские литературные новости» сообщалось: «Молодой писатель Булгаков читал недавно авантюрную повесть «Роковые яйца». Хоть она литературно незначительна, но стоит познакомиться с ее сюжетом, чтобы составить себе представление об этой стороне российского литературного творчества.
Действие происходит в будущем. Профессор изобретает способ необыкновенно быстрого размножения яиц при помощи красных солнечных лучей... Советский работник, Семен Борисович Рокк, крадет у профессора его секрет и выписывает из-за границы ящики куриных яиц. И вот случилось так, что на границе спутали яйца гадов и кур, и Рокк получил яйца голоногих гадов. Он развел их у себя в Смоленской губернии (там и происходит все действие), и необозримые полчища гадов двинулись на Москву, осадили ее и сожрали. Заключительная картина — мертвая Москва и огромный змей, обвившийся вокруг колокольни Ивана Великого.
Тема веселенькая! Заметно, впрочем, влияние Уэллса («Пища богов»). Конец Булгаков решил переработать в более оптимистическом духе! Наступил мороз и гады вымерли...» Аналогичный «пессимистический» финал повести вспоминает и бывший сосед Булгакова по «нехорошей квартире» В. А. Левшин (Манасевич). По его словам, однажды в телефонном разговоре с сотрудником «Недр» писатель сымпровизировал финал, где будто бы «повесть заканчивалась грандиозной картиной эвакуации Москвы, к которой подступают полчища гигантских удавов». Интересно, что подобные варианты финала «Роковых яиц» совпали с тем, который предлагал в качестве лучшего М. Горький, уже прочтя опубликованную повесть. 8 мая 1925 года он писал М. Слонимскому: «Булгаков очень понравился мне, очень, но он не сделал конец рассказа. Поход пресмыкающихся на Москву не
использован, а подумайте, какая это чудовищно интересная картина!» Булгакову этот отзыв остался неизвестен, так же как Горький не узнал, что Булгаков 6 ноября 1923 года дал ему в своем дневнике весьма высокую оценку как писателю и весьма низкую как человеку: «Я читаю мастерскую книгу Горького «Мои университеты».
Теперь я полон размышлений и ясно как-то стал понимать — нужно мне бросить смеяться. Кроме того, — в литературе вся моя жизнь. Ни к какой медицине й никогда больше не вернусь.
Несимпатичен мне Горький как человек, но какой это огромный, сильный писатель и какие страшные и важные вещи говорит он о писателе».
Очевидно, Горький из своего «прекрасного далека» не вполне представлял себе абсолютную невозможность публикации по цензурным соображениям варианта финала с оккупацией Москвы полчищами чудовищ. Показать, что красный луч социалистической революции в конечном счете привел к власти в Москве голоногих гадов — за такое пророчество могли и посадить. В ночь на 28 декабря 1924 года, после чтения «Роковых яиц» на «Никитинских субботниках» в присутствии 30 чело^ век (очевидно, именно об этом чтении и рассказано в «Днях», а значит, читался вариант с гибелью Москвы от нашествия гадов), Булгаков с тревогой записал в дневнике: «Боюсь, как бы не саданули меня за все эти подвиги «в места не столь отдаленные». Потому-то и был написан новый, достаточно искусственный финал с появлением «бога из машины» в виде нежданных морозов. Можно также заметить, что в «Роковых яйцах», в отличие от газетных фельетонов, Булгаков уже почти не смеется над своими героями.
Но вернемся к Владимиру Ипатьевичу Персикову. Что известно о нем? Будущий профессор родился 16 апреля 1870 года, поскольку в день начала действия повести 16 апреля 1928 года ему исполняется 58 лет, то есть главный герой — ровесник Ленина. Не случайна и дата, 16 апреля, когда Персиков открыл красный луч жизни. Именно в этот день (по н. ст.) в 1917 году вождь большевиков вернулся в Петроград и на следующий день высту-
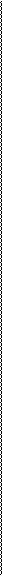 180 БоРис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
180 БоРис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
пил со знаменитыми Апрельскими тезисами, где изложил план перерастания «буржуазно-демократической революции в России в социалистическую. Характерно также, что в первой редакции следующей булгаковской повести «Собачье сердце» калоши у профессора Преображенского исчезли из прихожей как раз в апреле 1917 года, что содержало прямой намек на Апрельскую конференцию большевиков (в последующих редакциях апрель был заменен на более нейтральный в этом отношении март, что все равно не спасло повесть от запрета). Показательно, что заключительный «узел» эпопеи А. Солженицына «Красное колесо» назван «Апрель Семнадцатого» — приезд Ленина из эмиграции и Апрельские тезисы оба писателя, разделенные многими десятилетиями, одинаково сочли переломным моментом, после которого октябрьский переворот стал неизбежен.
Обратимся к портрету профессора Персикова. «Голова замечательная, толкачом, лысая, с пучками желтоватых волос, торчащими по бокам. Лицо гладко выбритое, нижняя губа выпячена вперед. От этого персиков-ское лицо вечно носило на себе несколько капризный отпечаток. На красном носу старомодные маленькие очки в серебряной оправе, глазки блестящие, небольшие, росту высокого, сутуловат. Говорил скрипучим, тонким, квакающим голосом и среди других странностей имел такую: когда говорил что-либо веско и уверенно, указательный палец правой руки превращал в крючок и щурил глазки. А так как он говорил всегда уверенно, ибо эрудиция в его области у него была совершенно феноменальная, то крючок очень часто появлялся перед глазами собеседников профессора Персикова».
От Ленина здесь слишком много знакомых черт, чтобы счесть это простой случайностью: и характерная лысина, и специфические ораторские жесты, и манера говорить, и сутулость, и вошедший в мифологизированный облик вождя знаменитый прищур глаз. Отличные же от ленинского портрета детали в облике Персикова, очевидно, восходят к другим прототипам героя — известным ученым зоологу А. Г. Северцову и биологу и патологоанатому А. И. Абрикосову, чья фамилия спародиро-
| ГЛАВА 5. |
Михаил Булгаков — журналист 1 $21 драматург, прозаик. 1921—1929 1 О1
вана в фамилии Персиков. И спародирована не случайно, ибо именно Абрикосов анатомировал труп Ленина и, в частности, извлекал его мозг*. У Булгакова получается, что мозг Ленина в повести как бы передан профессору-ученому, лишенному, подчеркнем, ленинской беспощадности.
Добавим, что отчество Персикова в полной форме: «Ипатьевич» употреблено лишь на первой странице повести, в дальнейшем же окружающие обращаются к профессору: «Владимир Ипатьич» — что звучит почти как Владимир Ильич. Кроме того, в первом газетном сообщении об открытии красного луча жизни (кстати, в сокращенной журнальной публикации в «Красной панораме» «Роковые яйца» имели другое название — «Луч жизни») репортер со слуха перевирает фамилию изобретателя, передавая ее как Певсиков, что свидетельствует о картавости профессора. Эта черта еще больше сближает Персикова с Лениным. Эрудиция одинаково обширна что у профессора, что у председателя Совнаркома, и даже иностранные языки они знают одни и те же. Наконец, время и место завершения повести, обозначенные в конце текста, — «Москва, 1924 г., октябрь», указывают, помимо прочего, на место и год смерти вождя большевиков и на месяц, навсегда ассоциированный с его именем благодаря Октябрьской революции. Отметим, что в этот год Булгаков опубликовал три очерка, посвященных Ленину, — «В часы смерти», «Часы жизни и смерти» и «Воспоминание...». Там его образ дан вполне канонически, да иначе и быть не могло в подцензурной печати.
Профессор Владимир Ипатьевич Персиков во многом —■ пародия на Владимира Ильича Ленина: Ленин — председатель Совнаркома, Персиков — почетный товарищ председателя Доброкура, вымышленной организации,
 * Не исключено, что Булгаков знал об открытии в 1921 году биологом А. Г. Гурвичем митогенетического излучения, под влиянием которого происходит митоз (деление) клетки (фактически это то же самое, что теперь называют модным термином «биополе»), В 1922 или 1923 году А. Г. Гурвич переехал из Симферополя в Москву, и автор «Роковых яиц» мог быть с ним знаком.
* Не исключено, что Булгаков знал об открытии в 1921 году биологом А. Г. Гурвичем митогенетического излучения, под влиянием которого происходит митоз (деление) клетки (фактически это то же самое, что теперь называют модным термином «биополе»), В 1922 или 1923 году А. Г. Гурвич переехал из Симферополя в Москву, и автор «Роковых яиц» мог быть с ним знаком.
JS2 Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА5.
Михаил Булгаков—журналист 7 О Э драматург, прозаик. 1921—1929 -L OJ


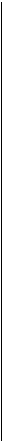
 призванной помочь ликвидировать последствия охватившего Союз Республик куриного мора. Вся повесть пародийно воспроизводит события революции и гражданской войны в России (поход прибывших из-за границы гадов на красную Москву — это, в том числе, и пародия на иностранную военную интервенцию, санитарные кордоны, которые не смогла преодолеть куриная зараза на границах СССР — намек на политику «санитарного кордона», проводившуюся странами Антанты против большевиков, и т. д.). Куриный мор — страшный голод 1921 года в Поволжье. Доброкур же явно произошел от Комитета помощи голодающим, созданного в июле 1921 года группой общественных деятелей и ученых, оппозиционных большевикам, во главе с бывшими министрами Временного правительства С. Н. Прокоповичем, Н. М. Кищки-ным и видной деятельницей партии меньшевиков Е. Д. Кусковой. Большевики использовали Комитет для получения иностранной помощи, которая в большинстве своем так и не дошла до голодающих, а была употреблена на другие нужды Советского государства. Уже в конце августа деятельность комитета была прекращена, руководители и многие его члены арестованы. У Булгакова Персиков погибает тоже в августе, только не 21-го, а 28-го, и его гибель символизирует в том числе и крах попыток непартийной интеллигенции наладить цивилизованное сотрудничество с властью. Стоящий вне политики интеллигент, — это одна из ипостасей Персикова, еще больше оттеняющая другую — пародию на Ленина. Но есть еще и третья ипостась: Персиков — гениальный ученый-творец. И здесь писатель выходит в «Роковых яйцах» на общефилософский уровень, ставя проблему ответственности ученого и государства за использование открытия, могущего нанести вред человечеству, опасности того, что плоды науки могут присвоить люди непросвещенные и самоуверенные, да еще обладающие неограниченной властью в той государственной системе, которую позднее, уже после смерти писателя, назовут тоталитарной. В их руках открытие может привести не к всеобщему благоденствию, а к катастрофе. В связи с этим Булгаков в цитированной выше дневниковой запи-
призванной помочь ликвидировать последствия охватившего Союз Республик куриного мора. Вся повесть пародийно воспроизводит события революции и гражданской войны в России (поход прибывших из-за границы гадов на красную Москву — это, в том числе, и пародия на иностранную военную интервенцию, санитарные кордоны, которые не смогла преодолеть куриная зараза на границах СССР — намек на политику «санитарного кордона», проводившуюся странами Антанты против большевиков, и т. д.). Куриный мор — страшный голод 1921 года в Поволжье. Доброкур же явно произошел от Комитета помощи голодающим, созданного в июле 1921 года группой общественных деятелей и ученых, оппозиционных большевикам, во главе с бывшими министрами Временного правительства С. Н. Прокоповичем, Н. М. Кищки-ным и видной деятельницей партии меньшевиков Е. Д. Кусковой. Большевики использовали Комитет для получения иностранной помощи, которая в большинстве своем так и не дошла до голодающих, а была употреблена на другие нужды Советского государства. Уже в конце августа деятельность комитета была прекращена, руководители и многие его члены арестованы. У Булгакова Персиков погибает тоже в августе, только не 21-го, а 28-го, и его гибель символизирует в том числе и крах попыток непартийной интеллигенции наладить цивилизованное сотрудничество с властью. Стоящий вне политики интеллигент, — это одна из ипостасей Персикова, еще больше оттеняющая другую — пародию на Ленина. Но есть еще и третья ипостась: Персиков — гениальный ученый-творец. И здесь писатель выходит в «Роковых яйцах» на общефилософский уровень, ставя проблему ответственности ученого и государства за использование открытия, могущего нанести вред человечеству, опасности того, что плоды науки могут присвоить люди непросвещенные и самоуверенные, да еще обладающие неограниченной властью в той государственной системе, которую позднее, уже после смерти писателя, назовут тоталитарной. В их руках открытие может привести не к всеобщему благоденствию, а к катастрофе. В связи с этим Булгаков в цитированной выше дневниковой запи-
си, очевидно, допускал, что «Роковые яйца» могут быть истолкованы как пародия на социалистическую действительность. Однако сам он признавал, что его повесть еще «невыпечена», сыровата.
Надежды, что находящаяся на службе у власти критика, в отличие от вдумчивых и сочувствующих автору читателей, не уловит антикоммунистической направленности «Роковых яиц» и не поймет, кто именно спародирован в образе главного героя, не оправдались (хотя целям маскировки должны были служить и перенесение действия в фантастическое будущее и явные заимствования из романов Г. Уэллса «Пища богов» и «Война миров»). Бдительные критики поняли все.
Так, в статье М. Лирова (М. И. Литвакова) о творчестве Булгакова, опубликованной в 1925 году сразу в двух журналах — «Новый мир» и «Печать и революция», прямо говорилось, что повесть «Роковые яйца» — «это уже действительно нечто замечательное для «советского альманаха», и настойчиво указывалось, что изобретателя красного луча зовут Владимир Ипатьевич, чтобы власть предержащие поняли, кто же имеется в виду (критик впоследствии сам сгинул в потоке репрессий, захлестнувших страну в 30-е годы). В архиве Булгакова сохранилась машинописная копия этой статьи, где писатель голубым карандашом подчеркнул цитированную выше фразу, а красным - словосочетание Владимир Ипатьевич, употребленное Лировым семь раз, из них лишь один раз — с фамилией Персиков. Критик, пересказывая содержание повести, обращал внимание на то, что «в Москве произошел страшный бунт, во время которого погиб и сам «изобретатель» красного луча, Владимир Ипатьевич. Толпы народные ворвались в его лабораторию и с возгласами: «Бей его. Мировой злодей. Ты распустил гадов», —- растерзали его». Тут «мировой злодей» мог ассоциироваться и с мировой революцией, идеологом которой был Ленин, да и «распустил гадов» в адрес мифологизированного вождя звучало весьма нелестно, равно как и гибель «изобретателя красного луча» от рук возмущенных «толп народных» (у Булгакова такого возвышенного выражения нет) вряд ли могла понравиться сто-
J $4 Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 5.
МихаилБулгаков — журналист драматург, прозаик. 1921—1929
185

 ящим у власти коммунистам. Лиров боялся открыто заявить, что в повести спародирован Ленин (самого могли привлечь за столь неуместные ассоциации), но намекал на это, повторим, весьма прямо и прозрачно. Уэллс же его не обманул. Критик утверждал, что «от упоминания имени его прародителя Уэллса, как склонны сейчас делать многие, литературное лицо Булгакова нисколько не проясняется. И какой же это, в самом деле, Уэллс, когда здесь та же смелость вымысла сопровождается совершенно иными атрибутами? Сходство чисто внешнее...» Лиров, как и другие булгаковские недоброжелатели, стремился, конечно, прояснить не литературное, а политическое лицо писателя.
ящим у власти коммунистам. Лиров боялся открыто заявить, что в повести спародирован Ленин (самого могли привлечь за столь неуместные ассоциации), но намекал на это, повторим, весьма прямо и прозрачно. Уэллс же его не обманул. Критик утверждал, что «от упоминания имени его прародителя Уэллса, как склонны сейчас делать многие, литературное лицо Булгакова нисколько не проясняется. И какой же это, в самом деле, Уэллс, когда здесь та же смелость вымысла сопровождается совершенно иными атрибутами? Сходство чисто внешнее...» Лиров, как и другие булгаковские недоброжелатели, стремился, конечно, прояснить не литературное, а политическое лицо писателя.
На «Роковые яйца» появились любопытные отклики и за рубежом. В архиве Булгакова сохранилась машинописная копия сообщения ТАСС от 24 января 1926 года под названием «Черчилль боится социализма». В нем говорилось, что 22 января министр финансов Черчилль, выступая с речью, отметил, что «ужасные условия, существующие в Глазго, порождают коммунизм», но: «Мы не желаем видеть на нашем столе московские крокодиловы яйца (подчеркнуто Булгаковым. — Б. С). Я уверен, что наступит время, когда либеральная партия окажет всемерную помощь консервативной партии для искоренения этих доктрин. Я не боюсь большевистской революции в Англии, но боюсь попытки социалистического большинства самочинно ввести социализм. Одна десятая социализма, который разорил Россию, окончательно погубила бы Англию (и Ланкашир)» (справедливость этих слов Черчилля мы вполне осознаем сегодня).
В целом булгаковская повесть воспринималась не только как резкий памфлет на социалистическую идею, но и как пародия на уже канонизированного вождя большевиков. Неизвестно, заметили ли враги Булгакова другие достаточно едкие выпады против власти, содержащиеся в «Роковых яйцах». Например, бойцы Первой Конной выступают в поход против гадов с блатной песней, исполняемой на мотив «Интернационала»:
Ни туз, ни дама, ни валет, Побьем мы гадов без сомненья, Четыре сбоку — ваших нет,..
Здесь, кстати, отразился реальный случай (или, по крайней мере, широко распространившийся слух). 2 августа 1924 года Булгаков записал в дневнике: «Свен (писатель И. Л. Кремлев. — J5. С.) рассказывал, что полк ГПУ шел на демонстрацию с оркестром, который играл «Это девушки все обожают». В повести ГПУ предусмотрительно заменено на Первую Конную.
Так или иначе, но после «Роковых яиц» цензура стала гораздо внимательнее относиться к творчеству Булгакова. Уже следующая его сатирическая повесть «Собачье сердце», предназначенная для публикации в «Недрах», была запрещена и так и не увидела свет при жизни автора. Но прежде чем перейти к ней, попробуем понять, как относился лично к Ленину сам Булгаков.
На первый взгляд, отношение Булгакова к Ленину достаточно благожелательное, если судить только по образу Персикова и подцензурным очеркам. Профессор вызывает явное сочувствие и своей трагической гибелью, и неподдельным горем при получении известия о смерти давно бросившей его, но все еще любимой жены, и своей приверженностью строгому научному знанию, и нежеланием следовать политической конъюнктуре. Но это — wio не от ленинской ипостаси Персикова, а от двух других — русского интеллигента и ученого-творца. У Персикова был ведь еще один прототип — дядька Булгакова хирург Николай Михайлович Покровский. Отсюда, наверное, и высокий рост Персикова, и холостяцкий образ жизни, и многое другое. Н. М. Покровский послужил основным прототипом и главного героя «Собачьего сердца» профессора хирурга Филиппа Филипповича Преображенского. К Ленину же Булгаков, как мы сейчас увидим, относился совсем не позитивно.
Дело в том, что булгаковская лениниана на Перси-кове отнюдь не закончилась. Попробуем забежать немного вперед и отыскать ленинский след в «Мастере и Маргарите», начатом писателем в 1929 году, то есть через пять лет после «Роковых яиц». Новый роман хро-
186
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 5.
Михаил Булгаков — журналист драматург, прозаик. 1021—1929
187
 нологически как бы продолжил повесть, ибо действие его, как мы покажем позже, происходит тоже в 1929 году — наступившем, как и полагается, сразу после 1928-го — того близкого будущего, в котором разворачиваются события в повести. Только в «Мастере и Маргарите» Булгаков описывает уже не будущее, а настоящее.
нологически как бы продолжил повесть, ибо действие его, как мы покажем позже, происходит тоже в 1929 году — наступившем, как и полагается, сразу после 1928-го — того близкого будущего, в котором разворачиваются события в повести. Только в «Мастере и Маргарите» Булгаков описывает уже не будущее, а настоящее.
Чтобы понять, прототипом какого героя «Мастера и Маргариты» стал Ленин, обратимся к сохранившейся в архиве Булгакова вырезке из «Правды» от 6—7 ноября 1921 года с воспоминаниями охранявшего в свое время Ленина А. Шотмана «Ленин в подполье». Там описывалось, как вождь большевиков летом и осенью 1917 года скрывался от Временного правительства, объявившего его немецким шпионом. Шотман, в частности, отмечал, что «не только контрразведка и уголовные сыщики были поставлены на ноги, но даже собаки, в том числе знаменитая собака-ищейка Треф, были мобилизованы для поимки Ленина» и им помогали «сотни добровольных сыщиков среди буржуазных обывателей». Эти строки заставляют вспомнить эпизод романа, когда знаменитый милицейский пес Тузбубен безуспешно ищет Воланда и его подручных после скандала в Варьете. Кстати, полиция после февраля 1917 года была Временным правительством официально переименована в милицию, так что ищейку Треф, как и Тузбубена, правильно называть милицейской.
События, описываемые Шотманом, очень напоминают своей атмосферой поиски Воланда и его свиты (после сеанса черной магии) и, в еще большей степени действия в эпилоге романа, когда обезумевшие обыватели задерживают десятки и сотни подозрительных людей и котов. Мемуарист также цитирует слова Я. М. Свердлова на VI съезде партии о том, что «хотя Ленин и лишен возможности лично присутствовать на съезде, но невидимо присутствует и руководит им». Точно таким же образом Воланд, по его собственному признанию Берлиозу и Бездомному, незримо лично присутствовал при суде над Иешуа, «но только тайно, инкогнито, так сказать», а писатели в ответ заподозрили, что их собеседник... немецкий шпион.
Шотман рассказывает, как, скрываясь от врагов, изменили внешность Ленин и находившийся вместе с ним в Разливе Г. Е. Зиновьев: «Тов. Ленин в парике, без усов и бороды был почти неузнаваем, а у тов. Зиновьева к этому времени отросли усы и борода, волосы были острижены, и он был совершенно неузнаваем». Возможно, именно поэтому бриты у Булгакова и профессор Персиков и профессор Воланд, а сходство с Зиновьевым в «Мастере и Маргарите» внезапно обретает кот Бегемот — любимый шут Воланда, наиболее близкий ему из всей свиты. Полный, любивший поесть, Зиновьев, в усах и бороде, должен был приобрести нечто кошачье в облике, а в личном плане он в самом деле был самым близким Ленину из всех лидеров большевиков. Кстати, сменивший Ленина Сталин к Зиновьеву и относился как к шуту, хотя впоследствии, в 30-е годы, не пощадил его.
Шотман, бывший вместе с Лениным и в Разливе, и в Финляндии, вспоминал одну из бесед с вождем: «Я очень жалею, что не изучил стенографии и не записал тогда все то, что он говорил. Но... я убеждаюсь, что многое из того, что произошло после Октябрьской революции, Владимир Ильич еще тогда предвидел». В «Мастере и Маргарите» подобным даром предвидения наделен Воланд.
А. В. Шотман, написавший воспоминания, питавшие творческую фантазию Булгакова, в 1937 году был репрессирован, и его мемуары оказались под запретом. Михаил Афанасьевич, конечно же, помнил, что прототип Ьерсикова в свое время был выявлен довольно легко. Правда, потом, после смерти Булгакова, когда «Роковые яйца» десятилетиями не переиздавались, даже для людей, профессионально занимающихся литературой, связь главного героя повести с Лениным сделалась уже далеко не очевидной, да и все равно не могла быть оглашена из-за жесткой цензуры. Впервые, насколько нам известно, такая связь была открыто обыграна в инсценировке «Роковых яиц», поставленной Е. Еланской в московском театре «Сфера» в 1989 году. Но булгаковские современники были куда более непосредственно заинтересованы сбором компромата, чем потомки, да и цензура

околов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
была бдительнее. Так что ленинские концы в романе надо было прятать тщательнее, в ином случае всерьез рассчитывать на публикацию не приходилось. В 1923 году появился рассказ М. Зощенко «Собачий случай». В нем речь шла о старичке профессоре, проводящем научные опыты с предстательной железой у собак (подобные опыты ставит и профессор Преображенский в «Собачьем сердце»), причем по ходу действия фигурировала и уголовная ищейка Трефка. Рассказ был достаточно хорошо известен современникам, и с ним, а не с запретными мемуарами Шотмана они скорее бы сопоставили булгаковского пса Тузбубена. Так что у романа Булгакова появилось своеобразное прикрытие.
Сама пародия в рассказе Зощенко основана на том, что трефа — это казенная масть, отчего полицейских (равно как и милицейских) собак часто нарекали подобным именем. Бубновый же туз до революции нашивали на спину уголовным преступникам (сразу приходит на ум блоковская характеристика революционеров из «Двенадцати»: «На спину б надо бубновый туз»).
Конечно, Воланд может претендовать на звание самого симпатичного дьявола в мировой литературе, но дьяволом-то он при этом остается. И уж любые сомнения насчет отношения Булгакова к Ленину совсем исчезают, когда выясняется имя еще одного персонажа «Мастера и Маргариты», прототипом которого также был Ильич.
Вспомним драматического артиста, убеждавшего управдома Босого и других арестованных добровольно сдать валюту и иные ценности. В окончательном тексте он именуется Саввой Потаповичем Куролесовым, но в предшествовавшей редакции 1937—1938 годов назван куда прозрачнее — Илья Владимирович Акулинов (как вариант — еще и Илья Потапович Бурдасов). Вот как описан этот малосимпатичный персонаж:
«Обещанный Бурдасов не замедлил появиться на сцене и оказался пожилым, бритым, во фраке и белом галстуке.
Без всяких предисловий он скроил мрачное лицо, сдвинул брови и заговорил ненатуральным голосом, глядя на золотой колокольчик:
ГЛАВА 5. Михаил Булгаков — журналист 1 QQ драматург, прозаик. 1921—1929 m(JS
— Как молодой повеса ждет свиданья с какой-нибудь
развратницей лукавой...
Далее Бурдасов рассказал о себе много нехорошего. Никанор Иванович, очень помрачнев, слышал, как Бурдасов признавался в том, что какая-то несчастная вдова, воя, стояла перед ним на коленях под дождем, но не тронула черствого сердца артиста. Никанор Иванович совсем не знал до этого случая поэта Пушкина, хотя и произносил, и нередко, фразу: «А за квартиру Пушкин платить будет?», и теперь, познакомившись с его произведением, сразу как-то загрустил, задумался и представил себе женщину с детьми на коленях и невольно подумал: «Сволочь этот Бурдасов!» А тот, все повышая голос, шел дальше и окончательно запутал Никанора Ивановича, потому что вдруг стал обращаться к кому-то, кого на сцене не было, и за этого отсутствующего сам же себе отвечал, причем называл себя то «государем», то «бароном», то «отцом», то «сыном», то на «вы», а то на «ты».
Понял Никанор Иванович только одно, что помер артист злою смертью, прокричав: «Ключи! Ключи мои!», повалившись после этого на пол, хрипя и срывая с себя галстук.
Умерев, он встал, отряхнул пыль с фрачных коленей, поклонился, улыбнувшись фальшивой улыбкой, и при жидких аплодисментах удалился, а конферансье заговорил так:
— Ну-с, дорогие валютчики, вы прослушали в заме
чательном исполнении Ильи Владимировича Акулинова
«Скупого рыцаря».
Женщина с детьми, на коленях молящая «скупого рыцаря» о куске хлеба, — это не просто пушкинская цитата, но и намек на известный эпизод из жизни Ленина. По всей вероятности, Булгаков был знаком с содержанием статьи «Ленин у власти», опубликованной в популярном русском эмигрантском парижском журнале «Иллюстрированная Россия» в 1933 году, автором, скрывшимся под псевдонимом «Летописец» (возможно, это был бежавший на Запад бывший секретарь Оргбюро и Политбюро Борис Бажанов). В этой статье мы находим следующий любопытный штрих к портрету вождя боль-
 |
| 191 |
190 Б°РИС Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
шевиков: «Он с самого начала отлично понимал, что крестьянство не пойдет ради нового порядка не только на бескорыстные жертвы, но и на добровольную отдачу плодов своего каторжного труда. И наедине со своими ближайшими сотрудниками Ленин, не стесняясь, говорил как раз обратное тому, что ему приходилось говорить и писать официально. Когда ему указывали на то, что даже дети рабочих, то есть того самого класса, ради которого и именем которого был произведен переворот, недоедают и даже голодают, Ленин с возмущением парировал претензию:
— Правительство хлеба им дать не может. Сидя здесь, в Петербурге, хлеба не добудешь. За хлеб нужно бороться с винтовкой в руках... Не сумеют бороться — погибнут с голода!..»
Трудно сказать, говорил ли такое вождь большевиков в действительности, или мы имеем дело с еще одной легендой, но настроение Ленина здесь передано достоверно.
Илья Владимирович Акулинов — это пародия на Владимира Ильича Ульянова (Ленина). Соответствия здесь очевидны: Илья Владимирович — Владимир Ильич, Ульяна — Акулина (последние два имени устойчиво сопрягаются в фольклоре). Значимы и сами имена, составляющие основу фамилий. Ульяна — это искаженная латинская Юлиана, то есть относящаяся к роду Юлиев, из которого вышел и первый монарх Рима Юлий Цезарь, чье прозвище (Цезарь — царь) в измененном виде восприняли русские цари. Акулина же — искаженная латинская Аки-лина, то есть орлиная, а орел, как известно, — символ монархии. Вероятно, в этом же ряду и отчество Перси-кова — Ипатьевич. Оно появилось не только из-за созвучия Ипатьич — Ильич, но, скорее всего, и потому, что в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге в июле 1918 года по приказу Ленина уничтожили семью Романовых. Вспомним и о том, что первый Романов перед венчанием на царство нашел убежище в Ипатьевском монастыре. Таким образом, Булгаков вызывает ассоциации с Лениным, с одной стороны, как с могильщиком династии Романовых, а с другой стороны — как с правителем, установившим новое самодержавие в России. Писатель
| ГЛАВА 5. |
Михаил Булгаков — журналист драматург, прозаик. 1921—1929
подчеркивал монархический характер режима, во главе которого стоял Ульянов-Ленин.
«Собачье сердце» написано вслед за «Роковыми яйцами» в январе — марте 1925 года. Повесть не смогла пройти цензуру, и Н. С. Ангарский обратился к члену Политбюро Л. Б. Каменеву с просьбой прочесть рукопись и помочь в ее публикации. В начале сентября Каменев вернул рукопись, отозвавшись о ней так: «Это острый памфлет на современность, печатать ни в коем случае нельзя». Что же так напугало и цензуру, и одного из наиболее видных большевиков?
Фабула «Собачьего сердца» заимствована до некоторой степени у того же Уэллса из романа «Остров доктора Моро» и связана с идеей очеловечивания животных. Присутствует в повести и идея омоложения, ставшая популярной в 20-е годы в СССР и ряде европейских стран. У Булгакова эксперимент добрейшего профессора Филиппа Филипповича Преображенского по очеловечиванию собаки оканчивается провалом: милый и добрый пес Шарик воспринимает худшие черты своего человеческого донора, пьяницы-пролетария, и превращается в зловещего Полиграфа Полиграфовича Шарикова. Тот быстро вписывается в советскую действительность, занимает руководящую должность — начальник подотдела очистки Москвы от бродячих животных (наверно, Булгаков, когда писал повесть, недобрым словом поминал свою службу во владикавказском подотделе искусств и в Московском ЛИТО) и даже угрожает погубить доносом своего создателя и благодетеля. Филиппу Филипповичу приходится вернуть нового монстра в прежнее собачье состояние. В «Роковых яйцах» рассматривалась возможность реализации социалистической идеи в России при существующем уровне культуры и просвещения. Вывод неутешителен. В «Собачьем сердце» пародируются попытки большевиков сотворить нового человека, призванного стать строителем коммунистического общества. В 1918 году в своей работе «На пиру богов» видный философ и богослов С. Н. Булгаков отмечал: «Признаюсь вам, что „товарищи" кажутся мне иногда существами, вовсе лишенными духа и обладающими только низ-
192 Б°РИС Соколов три ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 5.
Михаил Булгаков — журналистдраматург, прозаик. 1921—1929
193


 шими душевными способностями, особой разновидностью дарвиновских обезьян — homo socialisticus». Автор «Собачьего сердца», как мы увидим дальше, с этой работой был знаком. У него «хомо социалистикус» оказывается вполне жизнеспособным субъектом. Раз породив, устранить его в дальнейшем можно лишь насильственным путем. Шариковым, которым покровительствует и на которых опирается новая власть, не составляет труда вытеснить из общества Преображенских. Но эти новые люди абсолютно девственны в отношении культуры и ничего не имеют за душой, кроме идеи грубого уравни-тельства — взять все и поделить! Неудивительно, что коммунистам не доставляло радости видеть в сатирическом зеркале столь лелеемого ими «нового человека», о котором кричала пропаганда, и «Собачье сердце» окончательно и бесповоротно запретили — на родине писателя повесть была опубликована лишь в 1987 году. Однако, как свидетельствует запись в дневнике третьей жены писателя Е. С. Булгаковой 12 июля 1936 года, он тогда, одиннадцать лет спустя, считал, что «повесть грубая». И «Роковые яйца», и «Собачье сердце», не говоря уж о «Дьяволиаде», Булгаков рассматривал лишь в качестве подготовительного этапа к осуществлению по-настоящему крупных замыслов.
шими душевными способностями, особой разновидностью дарвиновских обезьян — homo socialisticus». Автор «Собачьего сердца», как мы увидим дальше, с этой работой был знаком. У него «хомо социалистикус» оказывается вполне жизнеспособным субъектом. Раз породив, устранить его в дальнейшем можно лишь насильственным путем. Шариковым, которым покровительствует и на которых опирается новая власть, не составляет труда вытеснить из общества Преображенских. Но эти новые люди абсолютно девственны в отношении культуры и ничего не имеют за душой, кроме идеи грубого уравни-тельства — взять все и поделить! Неудивительно, что коммунистам не доставляло радости видеть в сатирическом зеркале столь лелеемого ими «нового человека», о котором кричала пропаганда, и «Собачье сердце» окончательно и бесповоротно запретили — на родине писателя повесть была опубликована лишь в 1987 году. Однако, как свидетельствует запись в дневнике третьей жены писателя Е. С. Булгаковой 12 июля 1936 года, он тогда, одиннадцать лет спустя, считал, что «повесть грубая». И «Роковые яйца», и «Собачье сердце», не говоря уж о «Дьяволиаде», Булгаков рассматривал лишь в качестве подготовительного этапа к осуществлению по-настоящему крупных замыслов.
В 20-е годы произошли значительные перемены в личной жизни писателя. Его брак с Т. Н. Лаппа постепенно приближался к крушению. Татьяна Николаевна вспоминала, что ощущала надвигающийся разрыв еще в Батуме, когда Булгаков собирался эмигрировать. Встреча же в Москве подтвердила, что былой близости между супругами уже нет: «Когда я жила в медицинском общежитии, то встретила в Москве Михаила. Я очень удивилась, потому что думала, мы уже не увидимся. Я была больше чем уверена, что он уедет. Не помню вот точно, где мы встретились... То ли с рынка я пришла, застала его у Гла-дыревского (жившего в Москве киевского товарища Булгакова — Б. С), ... то ли у Земских. Но, вот, знаете,
ничего у меня не было — ни радости никакой, ничего. Все уже как-то... перегорело».
Михаил и Тася провели вместе самые тяжелые месяцы — с осени 1919 до весны 1922 года, в 1917—1918 годах жена много сделала, чтобы избавить Булгакова от губительного недуга — пристрастия к наркотикам. Однако уже во Владикавказе Михаил целиком отдался своему призванию писателя и драматурга. Татьяна Николаевна же была достаточно равнодушна к литературной деятельности мужа, своих работ он ей вообще не показывал. Булгаков теперь стремился войти в другую, литературно-театральную московскую среду, к которой Т. Н. Лаппа не принадлежала. Да и супружеской верностью Михаил не отличался, а Тася, предчувствуя надвигавшийся разрыв, пристрастилась к вину, что в итоге еще более отдалило супругов друг от друга. 30 мая 1923 года у своих друзей супругов Коморских Булгаков устроил ужин в честь вернувшегося из Берлина Алексея Толстого, редактировавшего литературное приложение к газете «Накануне». Этот вечер Татьяна Николаевна хорошо запомнила: «Мне надо было гостей угощать. С каждым надо выпить, и я так наклюкалась, что не могла по лестнице подняться. Михаил взвалил меня на плечи и отнес на пятый этаж, домой». Вспоминала она и другой эпизод: «Я была у Коморского, пришел его приятель, адвокат, приглашать к себе на дачу, и меня тоже пригласил. А Володька (В. Е. Коморский. —Б. С.) говорит: «Смотри, водку не пей. Он тургеневских женщин любит». — «Нет, — говорю, — для этого я не подхожу». Пагубная привычка развивалась у Т. Н. Лаппа под влиянием семейных неурядиц, да и новая среда столичной богемы этому способствовала, но Булгаков ничего не сделал, чтобы помочь некогда близкому человеку. Татьяна Николаевна свидетельствовала, что муж тогда к славе «очень рвался, очень рвался. Он все рассчитывал, и со мной из-за этого разошелся. У меня же ничего не было больше. Я была пуста совершенно. А Белозерская приехала из-за границы, хорошо была одета, и вообще у нее что-то было, и знакомства его интересовали, и ее рассказы о Париже... Толстой так похлопывал его по плечу и говорил: «Жен
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 5.
Михаил Булгаков — журналист драматург, прозаик. 1921—1929
195
 менять надо, батенька. Жен менять надо». Чтобы быть писателем, надо три раза жениться, говорил». Сам Толстой, как известно, эту программу даже перевыполнил, будучи женат не три, а четыре раза. Булгаков же женился точно трижды.
менять надо, батенька. Жен менять надо». Чтобы быть писателем, надо три раза жениться, говорил». Сам Толстой, как известно, эту программу даже перевыполнил, будучи женат не три, а четыре раза. Булгаков же женился точно трижды.
С Л. Е. Белозерской, приехавшей из Берлина вместе со своим мужем — сменовеховцем журналистом И. М. Василевским (He-Буквой), он познакомился в январе 1924 года на вечере, устроенном издателями «Накануне» в Бюро обслуживания иностранцев в Денежном переулке. Любовь Евгеньевна фактически уже разошлась с мужем к этому моменту из-за его тяжелого характера и дикой ревности (почему и наградила Василевского характерным прозвищем «Пума»).
Свое знакомство с Булгаковым она описывает так: «...За Слезкиным стоял новый, начинающий писатель — Михаил Булгаков, печатавший в берлинском „Накануне" „Записки на манжетах" и фельетоны. Нельзя было не обратить внимание на необыкновенно свежий его язык, мастерский диалог и такой неназойливый юмор. Мне нравилось все, принадлежавшее его перу и проходившее в „Накануне". В фельетоне „День нашей жизни" он мирно беседует со своей женой. Она говорит: „И почему в Москве такая масса ворон... Вон за границей голуби... В Италии..."
— Голуби тоже сволочь порядочная, — возражает он.
Прямо эпически-гоголевская фраза! Сразу чувствуется, что в жизни что-то не заладилось... Передо мной стоял человек лет 30—32-х; волосы светлые, гладко причесанные на косой пробор. Глаза голубые, черты лица неправильные, ноздри грубо вырезаны; когда говорит, морщит лоб. Но лицо, в общем, привлекательное, лицо больших возможностей. Это значит — способно выражать самые разнообразные чувства. Я долго мучилась, прежде чем сообразила, на кого же все-таки походил Михаил Булгаков. И вдруг меня осенило — на Шаляпина!
Одет он был в глухую черную толстовку без пояса, „распашонкой". Я не привыкла к такому мужскому силуэту, он показался мне слегка комичным, так же как и
лакированные ботинки с ярко-желтым верхом, которые я сразу вслух окрестила „цыплячьими" и посмеялась. Когда мы познакомились ближе, он сказал мне не без горечи:
— Если бы нарядная и надушенная дама знала, с каким трудом достались мне эти ботинки, она бы не смеялась. ..
Я поняла, что он обидчив и легко раним. Другой не обратил бы внимания. На этом же вечере он подсел к роялю и стал напевать какой-то итальянский романс и наигрывать вальс из „Фауста"...»
Вероятно, инцидент с «цыплячьими» ботинками как-то выделил Белозерскую для Булгакова из остальных участников вечера. Через некоторое время, в конце зимы или в начале весны (по словам Любови Евгеньевны», «уже слегка пригревало солнце, но еще морозило») они случайно встретились на улице. Белозерская рассказала, что ушла от мужа и переселилась к своему родственнику Е. Н. Тарновскому. Белозерская и Булгаков стали часто встречаться. Вскоре, в апреле 1924 года, Булгаков развелся с Т. Н. Лаппа. Об обстоятельствах развода она вспоминала десятилетия спустя: «...Мы на Новый год гадали, воск топили и в мисочку такую выливали. Мне ничего не вышло — пустышка, а ему все кольца выходили. Я даже расстроилась, пришла домой, плакала, говорю: „Вот увидишь, мы разойдемся". А он: „Ну что ты в эту ерунду веришь!" А он тогда уже за этой Белозерской бегал (тут, очевидно, Татьяна Николаевна ошибается — знакомство Булгакова с Белозерской произошло только в январе, а роман между ними завязался позже, не ранее февраля. — Б. С). Она была замужем за Василевским и разошлась. И вот Михаил: „У нас большая комната, нельзя ли ей у нас переночевать?" — „Нет, — говорю, — нельзя". Он все жалел ее: „У нее сейчас такое положение, хоть травись». Вот и пожалел. В апреле, в 24-м году, говорит: «Давай разведемся, мне так удобнее будет, потому что по делам приходится с женщинами встречаться..." И всегда он это скрывал. Я ему раз высказала. Он говорит: „Чтобы ты не ревновала". Я не отрицаю — я ревнивая, но на это есть основания. Он
196 БоРис Соколоя ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 5.
Михаил Булгаков — журналист драматург, прозаик. 1921—1929
197

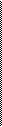 говорит, что он писатель и ему нужно вдохновение, а я должна на все смотреть сквозь пальцы. Так что и скандалы получались, и по физиономии я ему раз свистнула. И мы развелись».
говорит, что он писатель и ему нужно вдохновение, а я должна на все смотреть сквозь пальцы. Так что и скандалы получались, и по физиономии я ему раз свистнула. И мы развелись».
Что и говорить, основания для ревности Булгаков давал, и знакомых женщин в Москве в те годы у него было много. Тут и машинистка И. С. Раабен, печатавшая «Белую гвардию» и другие произведения, и, по свидетельству Т. Н. Лаппа, появившаяся в Москве владикавказская знакомая Лариса, бывшая жена генерала Гаври-лова. Ухаживал Булгаков, по словам Татьяны Николаевны, и за женой их московского знакомого адвоката Владимира Коморского Зиной. В очерке «Москва 20-х годов», появившемся 27 мая и 12 июня 1924 года в «Накануне», писатель посвятил ей целый гимн: «...Зина чудно устроилась. Каким-то образом в гуще Москвы не квартирка, а бонбоньерка в три комнаты. Ванна; телефончик, муж. Манюшка готовит котлеты на газовой плите, а у Манюшки еще отдельная комнатка... Ах, Зина, Зина! Не будь ты уже замужем, я бы женился на тебе. Женился бы, как Бог свят, и женился бы за телефончик и за винты газовой плиты, и никакими силами меня не выдрали бы из квартиры. Зина, ты орел, а не женщина!» Конечно, инициатором и виновником разрыва с Тасей был Михаил, и со стороны строгих ревнителей морали он заслуживал осуждение. Тем более что Татьяна Николаевна осталась без профессии и практически без средств к существованию. Уже после расставания Булгаков, по словам Т. Н. Лаппа, не раз говорил ей: «Из-за тебя, Тася, Бог меня покарает».
В богемной среде, куда все более втягивался Булгаков, на узы брака смотрели легко, мало кто из знакомых был женат только один раз, и поведение будущего автора «Мастера и Маргариты» не выделялось ничем особенным. Глупо осуждать и корить его за это. Наверное, играли роль и творческие моменты, ибо нередко новая любовь на самом деле приносит вдохновение.
Любовь Евгеньевна Белозерская увлекалась литературой и театром, одно время сама танцевала в Париже, была весьма начитана, обладала хорошим литературным
и художественным вкусом. Творчество Булгакова она высоко ценила. Мне не раз довелось в этом убеждаться, беседуя с Л. Е. Белозерской. Но боюсь, да простит меня покойная Любовь Евгеньевна, к которой я навсегда сохраню самые теплые чувства, духовно близким Булгакову человеком она все же не стала. Сам писатель в дневниковой записи в ночь на 28 декабря 1924 года так охарактеризовал свою новую жену, причем эти слова следуют сразу после невеселых мыслей о возможности «загреметь» за «Роковые яйца» в «места не столь отдаленные»: «Очень помогает мне от этих мыслей моя жена. Я обратил внимание, когда она ходит, она покачивается. Это ужасно глупо при моих замыслах, но, кажется, я в нее влюблен. Одна мысль интересует меня. При всяком ли она приспособилась бы так же уютно, или это избирательно, для меня?..
Не для дневника, и не для опубликования (тут мы ни в коем случае не можем считаться нарушителями писательской воли — эти и нижеследующие строчки уже многократно цитировались тиражом в несколько сот тысяч экземпляров. — Б. С): подавляет меня чувственно моя жена. Это и хорошо, и отчаянно, и сладко, и, в то же время, безнадежно сложно: я как раз сейчас хворый, а она для меня...
Сегодня видел, как она переодевалась перед нашим уходом к Никитиной, жадно смотрел...
Как заноза, сидит все это сменовеховство (я при чем?) и то, что чертова баба завязила мне, как пушку в болоте, важный вопрос. Но один, без нее, уже не мыслюсь. Видно, привык».
Эта запись, сделанная в те первые месяцы совместной жизни, когда чувства Булгакова к Белозерской были в полном разгаре, отражают его отношение к своей второй жене. Очевидно, Т. Н. Лаппа была права, и Булгаков в тот момент не хотел обременять себя узами брака, рассчитывая, что связи с женщинами помогут его литературным делам. Потому-то и не регистрировал довольно долго брак с Белозерской — это случилось только 30 апреля 1925 года — через год после развода с Т. Н. Лаппа и через полгода после начала совместной жизни со вто-
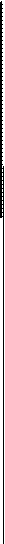
| 199 |
J 9$ Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
рой женой. Во влечении же Булгакова к Белозерской, влюбленности в нее, эротическое преобладало над духовным. Когда влечение прошло, отношения стали более ровными, спокойными. Ни Люба (муж называл ее Люба-ша, Любан и Банга — последнее прозвище впоследствии получила собака Пилата в «Мастере и Маргарите»), ни Михаил друг друга не ревновали. По словам племянника Любови Евгеньевны И. В. Белозерского, основанных на рассказах тетки и воспоминаниях современников, «Михаил Афанасьевич любил и умел ухаживать за женщинами, при знакомстве с ними быстро загорался и так же быстро остывал, что создавало дополнительные трудности для семейной жизни...
Елена Сергеевна Шиловская (урожденная Нюрнберг, в первом браке Неелова, в третьем браке Булгакова. — Б. С), как говорила она сама, с семьей Булгаковых познакомилась в гостях и вскоре сделалась приятельницей Любови Евгеньевны, а потом стала женой Михаила Афанасьевича. Она часто запросто бывала в доме Булгаковых и даже предложила Михаилу Афанасьевичу свою помощь, так как хорошо печатала на машинке. Любовь Евгеньевна рассказывала мне, что ее приятельницы советовали ей на все это обратить внимание, но она говорила, что предотвратить все невозможно, и продолжала относиться к этому, как к очередному увлечению своего мужа».
Это роковое для брака Булгакова с Л. Е. Белозерской знакомство произошло через пять лет после их встречи. Пока же, параллельно с урегулированием личной жизни, приходилось решать квартирный вопрос. В августе 1924 года Булгаков с Т. Н. Лаппа переехали наконец из «нехорошей квартиры» № 50 в комнату в более спокойной квартире № 34 в том же доме. В этой квартире жил крупный финансист Артур Борисович Манасевич. Он только что вернулся с семьей из Берлина и опасался уплотнения. Он очень не хотел, чтобы к нему подселяли рабочих и поэтому предложил комнату интеллигентному жильцу. На этой квартире Михаил и оставил Тасю, однако первое время, по воспоминаниям Т. Н. Лаппа, «присылал мне деньги или сам приносил. Он довольно часто заходил.
| ГЛАВА 5. |
Михаил Булгаков — журналист драматург, прозаик. 1921—1929
Однажды принес «Белую гвардию», когда напечатали. И вдруг я вижу — там посвящение Белозерской. Так я ему бросила эту книгу обратно. Столько ночей я с ним сидела, кормила, ухаживала... он сестрам говорил, что мне посвятит... Он же когда писал, то даже знаком с ней не был». По словам Татьяны Николаевны, материальную помощь, правда нерегулярно, бывший муж ей оказывал до тех пор, пока в 1929 году все его пьесы не оказались под запретом (к тому времени Т. Н. Лаппа уже работала медсестрой).
Булгакову и Белозерской пришлось искать пристанище. Сначала они несколько недель жили в старом деревянном доме в Арбатском переулке, предоставленном знакомой Тарновских, затем на антресолях служебных помещений школы на Большой Никитской улице, дом 46, где директором была сестра Булгакова Н. А. Земская, а в конце октября или начале ноября 1924 года поселились во флигеле арендатора в Обуховом переулке. К началу июля 1926 года Булгаковы перебрались в Малый Левшинский переулок, дом 4, где в их распоряжении оказались две маленькие комнаты, но с отдельным входом (кухня была общая). Только год спустя, в июле 1927-го Михаилу Афанасьевичу впервые удалось снять отдельную московскую квартиру по адресу Большая Пироговская, дом 35 б (позднее 35 а), квартира 6 у застройщика-архитектора А. Ф. Стуя. Здесь, в трехкомнатной квартире, Булгаков оставался до февраля 1934 года, восстановив на длительное время важнейший для себя компонент нормальных условий существования.
Это было тем более важно, что давали себя знать прежние болезни. Они напрямую были связаны с тем, что происходило вокруг Булгакова, с непростым советским бытом и трудностями публикации произведений. 26 октября 1923 года он записал в дневнике: «В минуты нездоровья и одиночества предаюсь печальным и завистливым мыслям. Горько раскаиваюсь, что бросил медицину и обрек себя на неверное существование. Но, видит Бог, одна только любовь к литературе и была причиной этого.
Литература теперь трудное дело. Мне с моими взгля-
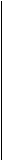
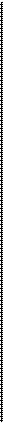 200 Б°РИС С01™™" ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
200 Б°РИС С01™™" ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
дами, волей-неволей выливающимися (отражающимися) в произведениях, трудно печататься и жить.
Нездоровье же мое при таких условиях тоже в высшей степени не вовремя». 29 октября Булгаков отмечал у себя «тяжелое нервное расстройство, а 6 ноября того же года конкретизировал свои ощущения: «Страшат меня мои 32 года и брошенные на медицину годы, болезнь и слабость. У меня за ухом дурацкая опухоль Chondroma, уже 2 раза оперированная. Из Киева писали начать рентгенотерапию. Теперь я боюсь злокачественного развития. Боюсь, что шалая, обидная, слепая болезнь прервет мою работу. Если не прервет, я сделаю лучше, чем «Псалом» (рассказ, опубликованный в «Накануне» 23 сентября 1923 года. — Б. С).
Я буду учиться теперь. Не может быть, чтобы голос, тревожащий сейчас меня, не был вещим. Не может быть. Ничем иным я быть не могу, я могу быть одним — писателем.
Посмотрим же и будем учиться, будем молчать».
Как можно убедиться, уже в первые годы литературной деятельности Булгакова охватывали опасения и предчувствия, что болезнь может не позволить ему завершить задуманное. Свое же писательское призвание Михаил Афанасьевич теперь ощущал как предназначение свыше. Потрясения революции и гражданской войны привели Булгакова к Богу. 26 октября 1923 года он признался в дневнике: «Сейчас я просмотрел „Последнего из Могикан", которого недавно купил для своей библиотеки. Какое обаяние в этом старом сантиментальном Купере! Тип Давида, который все время распевает псалмы, и навел меня на мысль о Боге.
Может быть, сильным и смелым он не нужен, но таким, как я, жить с мыслью о нем легче. Нездоровье мое осложненное, затяжное. Весь я разбит. Оно может помешать мне работать, вот почему я боюсь его, вот почему я надеюсь на Бога».
Л. Е. Белозерская происходила из старинного дворянского рода. Отец ее был дипломатом. Он умер через два года после рождения дочери и за двадцать лет до революции. Мать имела музыкальное образование, полученное
ГЛАВА 5. Михаил Булгаков — журналист О/1 7 драматург, прозаик. 1921—1929 ^ KJ-L
в Московском институте благородных девиц (скончалась в 1921 году). Сама Люба с серебряной медалью окончила Демидовскую гимназию. У нее был неплохой голос и литературные способности. Окончила Белозерская и частную балетную школу в Петрограде.
В мировую войну она работала сестрой милосердия, в гражданскую — судьба забросила ее в Киев (но с Булгаковым она тогда не была знакома). Любовь Евгеньевна, свой первый рассказ написавшая еще в Париже, быстро сблизилась со старомосковской, «пречистенской» интеллигенцией и помогла войти в этот круг и Михаилу Афанасьевичу. Здесь были писатели, художники, театральные декораторы, филологи и люди многих других гуманитарных профессий, революции не сочувствующие, но с ней смирившиеся. С конца 20-х годов многие подверглись репрессиям и сгинули в лагерях и ссылках.
Булгаков с Белозерской жили в сердце этой «пречистенской Москвы». Любовь Евгеньевна вспоминала: «Наш дом угловой по М. Левшинскому; другой своей стороной он выходит на Пречистенку (ныне Кропоткинскую) № 30. Помню надпись на воротах: «Свободенъ отъ постоя», с твердыми знаками. Повеяло такой стариной... Прелесть нашего жилья состояла в том, что все друзья жили в этом же районе. Стоило перебежать улицу, пройти по параллельному переулку — и вот мы у Лями-ных.
— Здравствуй, Боб! (Это по-домашнему Н. А. Уша
кова)
— Здравствуй, Коля!
Еще ближе — в Мансуровском переулке — Сережа Топленинов, обаятельный и компанейский человек, на все руки мастер, гитарист и знаток старинных романсов.
В Померанцевом переулке — Морицы; в нашем М. Левшинском — Владимир Николаевич Долгоруков (Владимиров), наш придворный поэт ВэДэ, о котором в Макином (Мака — домашнее прозвище Булгакова. — Б. С.) календаре было записано: «Напомнить Любаше, чтобы не забывала сердиться на В. Д.» (за то, что без спроса подправил свой портрет-шарж в шуточной коллективной книге «Мука Маки». — Б. С).
2,02 Б°РИС С0"0™8 ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА5.
Михаил Булгаков—журналист •Л/) J драматург, прозаик. 1921—1929 Zt J%J
Здесь упоминаются новые друзья Булгакова — филолог Н. Н. Лямин и его жена Н. А. Ушакова, художница-иллюстратор (с ними знакомство состоялось у… 1) действовать как научное учреждение, посвященное искусствоведению… 2) сочетать достижения специальных наук с новым мировоззрением и тем историческим переворотом, что случился в 1917…Михаил Булгаков—журналистдраматург, прозаик. 1921—1929
И реквизированные лошади, и отобранный хлеб, и помещики с толстыми лицами, вернувшиеся в свои поме стья при гетмане, — дрожь ненависти при слове… — А выучили сами же офицеры по приказанию начальства!» В финале романа «только труп и свидетельствовал, что Пэттура не миф, что он действительно был...». Труп замученного…Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 5. Михаил Булгаков—журналистдраматург, прозаик. 1921—1929
223

 ренский уже в лагере в 30-е годы в разговоре сожалел о высылке Троцкого, поскольку тот обладал большим стратегическим талантом и предвидел будущую войну.
ренский уже в лагере в 30-е годы в разговоре сожалел о высылке Троцкого, поскольку тот обладал большим стратегическим талантом и предвидел будущую войну.
Несмотря на все цензурные потери, «Дни Турбиных» стали первой (и десятилетиями оставались единственной) пьесой в советском театре, где белый лагерь был показан не карикатурно, а с сочувствием, и личная порядочность и честность большинства участников белого движения не ставилась под сомнение. Вина же за поражение возлагалась на штабы и генералов, не сумевших предложить программу, способную привлечь народ на сторону белых. Особый интерес к МХАТовскому спектаклю проявляла интеллигентная публика. За первый сезон (1926/27 годы) «Дни Турбиных» прошли во МХАТе (были разрешены к постановке только в этом театре) 108 раз, что значительно превышает среднее число постановок за сезон всех остальных спектаклей московских театров (следующим по рейтингу был «Город в кольце» Минина, сыгранный 84 раза). Алексея Турбина блистательно играл Н. Хмелев, Елену — О. Андровская (Шульц) и В. Соколова, Лариосика — М. Яншин, Мышлаевского — Б. Добронравов, Шервинского — М. Прудкин и др. Постановщиком стал молодой режиссер И. Судаков (К. Станиславский был художественным руководителем). «Дни Турбиных» стали своего рода «Чайкой» для молодого поколения актеров и режиссеров Художественного театра. Если верить воспоминаниям очевидцев, это была лучшая в истории постановка булгаковской пьесы. В зале возникало еще большее единение зрителей с происходящим на сцене, чем это уже было в жизни Булгакова во Владикавказе во время Пушкинского диспута. Л. Е. Белозерская вспоминала рассказ знакомой: «Шло 3-е действие „Дней Турбиных"... Батальон (правильнее — дивизион. — Б. С.) разгромлен. Город взят гайдамаками. Момент напряженный. В окне турбинского дома зарево. Елена с Лариосиком ждут. И вдруг слабый стук... Оба прислушиваются... Неожиданно из публики взволнованный женский голос: „Да открывайте же! Это свои!" Вот это слияние театра с жизнью, о котором только могут мечтать драматург, актер и режиссер».
Подобная реакция никак не устраивала идеологизированных критиков и вызывала определенные опасения у властей (хотя общий вывод пьесы о неизбежности краха белых и закономерности в связи с этим победы красных казался вполне приемлемым). Пьесу называли «апологией белогвардейщины». Нарком просвещения А. В. Луначарский, много сделавший для разрешения пьесы (чтобы дать возможность молодежи МХАТа сыграть современную вещь — таков был основной аргумент) и потому ставший мишенью ретивых критиков, оправдываясь, признавал ее лишь «полуапологией» и в художественном плане слабой (в письме Правительству от 28 марта 1930 года Булгаков цитировал мнение наркома о том, что в «Днях Турбиных» — «АТМОСФЕРА СОБАЧЬЕЙ СВАДЬБЫ вокруг какой-нибудь рыжей жены приятеля»).
Коммунисты демонстративно покидали спектакли. Маяковский публично призывал устроить обструкцию и сорвать пьесу. В статье театрального еженедельника «Новый зритель» от 2 февраля 1927 года Булгаков красным карандашом отчеркнул следующие слова: «Мы готовы согласиться с некоторыми из наших друзей, что „Дни Турбиных" циничная попытка идеализировать белогвардейщину, но мы не сомневаемся в том, что именно „Дни Турбиных" — осиновый кол в ее гроб. Почему? Потому, что для здорового советского зрителя самая идеальная слякоть не может представлять соблазна, а для вымирающих активных врагов и для пассивных^ дряблых, равнодушных обывателей та же слякоть не может дать ни упора, ни заряда против нас. Все равно как похоронный гимн не может служить военным маршем». Тот же Луначарский и в 1933 году продолжал считать булгаковскую пьесу «драмой сдержанного, даже если хотите лукавого капитулянства».
Единственная объективная рецензия на «Дни Турбиных» появилась в «Комсомольской правде» 29 декабря 1926 года за подписью Н. Рукавишникова. Она была написана как ответ на ранее опубликованное письмо поэта А. Безыменского (в будущем — одного из прототипов булгаковского Бездомного), назвавшего Булгакова «новобуржуазным отродьем». Рукавишников пытался
224 БоРис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 5.
Михаил Булгаков—журналист драматург, прозаик. 1921—1929
225
 уверить коллег-критиков и власти, что «живых людей» в «Днях Турбиных» можно «показать зрителю совершенно безопасно», но никого не убедил. К 1930 году в булгаков-ской коллекции, как он признавался в письме Правительству 28 марта 1930 года, скопилось 298 «враждебно-ругательных» отзывов и лишь 3 — «похвальных», причем подавляющее большинство рецензий было посвящено «Дням Турбиных».
уверить коллег-критиков и власти, что «живых людей» в «Днях Турбиных» можно «показать зрителю совершенно безопасно», но никого не убедил. К 1930 году в булгаков-ской коллекции, как он признавался в письме Правительству 28 марта 1930 года, скопилось 298 «враждебно-ругательных» отзывов и лишь 3 — «похвальных», причем подавляющее большинство рецензий было посвящено «Дням Турбиных».
Пьеса тем не менее продолжала идти, принося автору доход, достаточный для нормальной по тем временам жизни. Помогали и зарубежные постановки, хотя часть эмигрантов «Дни Турбиных» не приняла, считая их просоветской пьесой. П. П. Скоропадский выступил в печати с возмущенным комментарием: «В пьесе пытаются показать, с одной стороны, безнадежность белого движения, с другой — осмешить и смешать с грязью гетманство 1918 г., в частности меня». Что ж, возможно, бывший гетман в жизни и не был таким глупым, смешным и подлым, каким он показан в «Днях Турбиных» (здесь ему уделено гораздо больше внимания, чем в романе). Скоропадский на несколько лет пережил Булгакова и умер в апреле 1945 года в западной части Германии. Но драматург совершенно верно подметил опереточный характер гетманского режима, глава которого стал марионеткой в руках немцев и был по-настоящему смешон со своей отчаянной попыткой «украинизации» в последние недели перед падением.
Через много лет после премьеры «Дней Турбиных» спектакль увидел военный атташе германского посольства в Москве, в предвоенные годы генерал, Е. Кёстринг. Свидетельствует присутствовавший вместе с ним в театре немецкий дипломат X. фон. Херварт: «В одной из сцен пьесы требовалось эвакуировать гетмана Украины Ско-ропадского, чтобы он не попал в руки наступавшей Красной Армии. С целью скрыть его личность его переодели в немецкую форму и унесли на носилках под наблюдением немецкого майора. В то время как украинского лидера переправляли подобным образом, немецкий майор на сцене говорил: «Чистая немецкая работа», — все с очень сильным немецким акцентом. Так вот,
именно Кёстринг был тем майором, который был приставлен к Скоропадскому во время описываемых в пьесе событий. Когда он увидел спектакль, он решительно запротестовал против того, что актер произносил эти слова с немецким акцентом, поскольку он, Кёстринг, говорил по-русски совершенно свободно. Он обратился с жалобой к директору театра. Однако, вопреки негодованию Кёстринга, исполнение оставалось тем же».
Конечно, десятилетия спустя Херварт, очевидно, перепутал детали. В сценической редакции «Дней Турбиных» эвакуацией гетмана руководит не майор, а генерал, Шратт (хотя вместе с ним действует и майор, Дуст), а фразу насчет «чистой немецкой работы», естественно, говорят не сами немцы, а Шервинский. Но в целом, думается, можно дипломату верить: похожий инцидент на самом деле имел место. Уроженец России Кёстринг действительно говорил по-русски без какого-либо акцента. Но Булгаков этого знать, естественно, не мог. Однако, похоже, он это предугадал. Дело в том, что булгаков-ский Шратт говорит по-русски то с сильным акцентом, то совершенно чисто, и, скорее всего, акцент нужен ему только для того, что поскорее закончить разговор с гетманом, безуспешно добивающимся германской военной поддержки.
Работа над постановкой «Дней Турбиных» способствовала сближению Булгакова с МХАТом и шире — с театральной Москвой. Л. Е. Белозерская справедливо считала: «...Если Глинка говорил: „Музыка — душа моя!", то Булгаков мог сказать: «Театр — душа моя!» Драматургом заинтересовался Вахтанговский театр. По его просьбе Булгаков написал «Зойкину квартиру». В основу пьесы была положена реальная история деятельности и разоблачения притона для «новых богатых», оставшихся в стране «бывших», и ответственных советских работников в одной из московских квартир под видом пошивочной мастерской. Наиболее вероятный прототип булгаковской Зои Пельц — некая Зоя Шатова. Следователь ВЧК Самсонов в 1929 году писал в «Огоньке», уже после снятия пьесы с репертуара: «Зойкина квартира существовала в действительности. У
 2,2,6 Б°РИС Сок»™» ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
2,2,6 Б°РИС Сок»™» ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
Никитских ворот, в большом красного кирпича доме на седьмом этаже, посещали квартиру небезызвестной по тому времени (в 1921 году. — Б. С.) содержательницы популярного среди преступного мира, литературной богемы, спекулянтов, растратчиков, контрреволюционеров специального салона для интимных встреч Зои Шато-вой... Свои попадали в Зойкину квартиру конспиративно, по рекомендациям, паролям, условным знакам. Для пьяных оргий, недвусмысленных и преступных встреч Зой-кина квартира у Никитских ворот была удобна: на самом верхнем этаже большого дома, на отдельной лестничной площадке, тремя стенами выходила во двор, так что шум был не слышен соседям. Враждебные советской власти элементы собирались сюда как в свою штаб-квартиру, в свое информационное бюро». Полусветский салон 3. П. Шатовой, описанный и в беллетризованных воспоминаниях А. Мариенгофа «Роман без вранья» постфактум, не без полемики с булгаковской комедией, был превращен чуть ли не в гнездо контрреволюционных заговорщиков. На самом деле прототипов у героев пьесы было много. Управдом Аллилуйя (предшественник управдома Босого в «Мастере и Маргарите») явно имел связь с председателем жилтоварищества дома № 10 по Б. Садовой, безуспешно пытавшимся выселить Булгакова из «нехорошей квартиры». Быт эпохи нэпа драматург знал прекрасно, в том числе и по собственному опыту. Но дело здесь не только в сатире на «гримасы нэпа» (по советской терминологии), но и в давней теме эмиграции. Все герои стремятся уехать в Париж — и расчетливая Зойка, и ее жертва, романтическая Алла, мечтающая соединиться с парижским возлюбленным, и влюбленный в Аллу посетитель квартиры — советский начальник Гусь, пьющий «чашу жизни» (как и герой раннего булгаковского фельетона с таким названием), но тоскующий по настоящей любви и гибнущий от ножа уголовника-китайца. Вообще, тоска всех героев по какой-то иной жизни — лейтмотив «Зойкиной квартиры». И Булгаков в этом смысле не отделял себя от героев пьесы. За три недели до премьеры, состоявшейся 28 октября 1926 года, он утверждал в беседе с корреспондентом «Нового зрителя»: «Это траги-
| ГЛАВА5. |
Михаил Булгаков—журналистдраматург, прозаик. 1921—1929
Хотя «Зойкина квартира» была заказана Булгакову еще в сентябре 1925 года, ее премьера прошла вскоре после «Дней Турбиных». Реакция критики на… 228ТРИ ЖИЗЦИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 5.
Михаил Булгаков — журналист
229 впоследствии подружился, а в 1938 году безуспешно хлопотал перед Сталиным об облегчении участи Эрдмана, сосланного за…ГЛАВА 5.
Михаил Булгаков — журналистО О "I драматург, прозаик. 19П—1929 £*J L
 поставлена еще одна булгаковская пьеса — «Багровый остров». Здесь, в частности, содержался гротеск на левое революционное искусство, олицетворяемое театром В. Мейерхольда. Булгаков язвительно упоминал в «Роковых яйцах»: «Театр имени покойного Всеволода Мейерхольда, погибшего, как известно, в 1927 году, при постановке пушкинского „Бориса Годунова", когда обрушились трапеции с голыми боярами». «Багровый остров» назван автором «драматическим памфлетом». Это — «пьеса в пьесе». Камерному театру предстояло изобразить на сцене процесс постановки в неком «провинциальном театре» (за которым, однако, отчетливо угадывался Художественный) «революционной» пьесы. В такую пьесу Булгаков превратил свой фельетон того же названия, опубликованный ранее в газете «Накануне». Здесь с сарказмом изображалась сменовеховская трактовка событий революции и гражданской войны, а также и само «сменовеховство», призывавшее эмиграцию к сотрудничеству с советской властью. И в фельетоне, и в пьесе власть на Багровом острове захватывают угнетенные краснокожие эфиопы, прогоняющие угнетателей — белых арапов — за море. Интервенция Англии и Франции на остров терпит крах, матросы переходят на сторону эфиопов, к которым присоединяются «раскаявшиеся» арапы во главе с полководцем Рики (это пародия на вернувшегося в СССР белого генерала Я. А. Слащова, прототипа главного героя булгаковского «Бега»). Образы арапов и эфиопов восходят к написанному Е. Замятиным в 1920 году рассказу «Арапы», в котором тоже дрались «наши, краснокожие» и «ихние арапы», причем обе стороны норовили противников съесть. Замятин высмеивал присущий большевикам двойной моральный стандарт: если краснокожего арапы на шашлык пустили, то они — людоеды и креста на них нет и пусть их черти «на том свете поджарят». А вот если краснокожие из арапа суп варят, — то это хорошо: «Напитались: послал Господь!» Такой фон «Багрового острова» по меньшей мере приводил знающего читателя и зрителя к выводу, что и красные и белые на самом деле одной природы и одинаково несимпатичны. Но главное в
поставлена еще одна булгаковская пьеса — «Багровый остров». Здесь, в частности, содержался гротеск на левое революционное искусство, олицетворяемое театром В. Мейерхольда. Булгаков язвительно упоминал в «Роковых яйцах»: «Театр имени покойного Всеволода Мейерхольда, погибшего, как известно, в 1927 году, при постановке пушкинского „Бориса Годунова", когда обрушились трапеции с голыми боярами». «Багровый остров» назван автором «драматическим памфлетом». Это — «пьеса в пьесе». Камерному театру предстояло изобразить на сцене процесс постановки в неком «провинциальном театре» (за которым, однако, отчетливо угадывался Художественный) «революционной» пьесы. В такую пьесу Булгаков превратил свой фельетон того же названия, опубликованный ранее в газете «Накануне». Здесь с сарказмом изображалась сменовеховская трактовка событий революции и гражданской войны, а также и само «сменовеховство», призывавшее эмиграцию к сотрудничеству с советской властью. И в фельетоне, и в пьесе власть на Багровом острове захватывают угнетенные краснокожие эфиопы, прогоняющие угнетателей — белых арапов — за море. Интервенция Англии и Франции на остров терпит крах, матросы переходят на сторону эфиопов, к которым присоединяются «раскаявшиеся» арапы во главе с полководцем Рики (это пародия на вернувшегося в СССР белого генерала Я. А. Слащова, прототипа главного героя булгаковского «Бега»). Образы арапов и эфиопов восходят к написанному Е. Замятиным в 1920 году рассказу «Арапы», в котором тоже дрались «наши, краснокожие» и «ихние арапы», причем обе стороны норовили противников съесть. Замятин высмеивал присущий большевикам двойной моральный стандарт: если краснокожего арапы на шашлык пустили, то они — людоеды и креста на них нет и пусть их черти «на том свете поджарят». А вот если краснокожие из арапа суп варят, — то это хорошо: «Напитались: послал Господь!» Такой фон «Багрового острова» по меньшей мере приводил знающего читателя и зрителя к выводу, что и красные и белые на самом деле одной природы и одинаково несимпатичны. Но главное в
пьесе все-таки не пародирование «революционной» «сменовеховской» пьесы, а показ трагической зависимости драматурга и режиссера от театрального цензора — Саввы Лукича, гротескное изображение процесса подлаживания спектакля под цензурные требования. В Савве Лукиче угадывалось конкретное лицо — заведующий театральной секцией Главреперткома В. И. Блюм. На репетициях актер Е. К. Вибер, игравший цензора, был загримирован под Блюма, который принимал спектакль и посчитал неудобным его запретить. Премьера «Багрового острова» состоялась в Камерном театре в декабре 1928 года. Спектакль продержался недолго, попав под общий запрет булгаковских пьес.
Советская пресса утверждала, что «Багровый остров» — это пасквиль на революцию. В письме от 28 марта 1930 года Булгаков, защищаясь, отвечал: «Пасквиля на революцию в пьесе нет по многим причинам, из которых, за недостатком места, я укажу одну: пасквиль на революцию, вследствие чрезвычайной грандиозности ее, написать НЕВОЗМОЖНО. Памфлет не есть пасквиль, а Главрепертком — не революция». Из тактических соображений драматургу в письме правительству, конечно, выгоднее было выставить главной мишенью в пьесе не слишком просвещенных и охваченных запретительным ражем чиновников Главного репертуарного комитета, а не социалистическую революцию и строй в целом. Но косвенно он и тут признавал, что если не пасквиль, то памфлет на революцию в «Багровом острове» присутствует.
Конец 1928 — начало 1929 годов были коротким периодом относительного процветания для Булгакова. Одновременно в разных театрах шли сразу три пьесы, что обеспечивало вполне сносное существование. И в то же время, несмотря на враждебность власти и критики, Булгаков чувствовал общественное признание своего таланта, ибо его произведения в московских театрах пользовались наибольшей популярностью. В дом Булгакова часто приходят актеры, писатели, художники (многие из них вскоре окажутся в ссылке, кто-то будет избегать автора «Дней Турбиных», после обрушившихся

| 233 |
2,32 БоРвс Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
на него гонений, некоторые, как М. Яншин — лучший, наверное, Лариосик — позднее предадут его). Л. Е. Белозерская запомнила этот недолгий период благополучия: «Наступит время (и оно уже не за горами), когда ничего не будет. А пока... пока ходят к нам разные люди. Из писателей вспоминаю Ильфа и Евгения Петрова, Николая Эрдмана, Юрия Олешу, Е. И. Замятина, актеров М. М. Яншина, Н. П. Хмелева, И. М. Кудрявцева, В. Я. Станицына. Случалось, мелькал острый профиль Савонаролы — художника Н.Э. Радлова, приезжавшего из Ленинграда». По словам Любови Евгеньевны, в доме царила веселая атмосфера. Со своими близкими и давними друзьями — семейством Понсовых, Сергеем Топле-ниновым, Петром Васильевичем и другими устраивались «блошиные бои», причем: «М. А. пристрастился к этой детской игре и достиг в ней необыкновенных успехов, за что получил прозвище «Мака-Булгака — блошиный царь». Памятником того времени осталась шутливая книга 1927 года «Мука Маки», написанная «придворным поэтом» ВэДэ (В. Д. Долгоруковым) и нарисованная Н. А. Ушаковой. Повествование в книге ведется от лица любимого кота Булгаковых Флюшки, и рассказывается в ней о рождении у кошки Муки котенка Аншлага. Сам Булгаков, что характерно, изображен на обложке в позе отчаяния среди летающих вокруг него сброшенных кошками страниц «Багрового острова» (кстати, Любовь Евгеньевна была убеждена, что их громадный кот • Флюшка стал прототипом Бегемота, хотя и был серым, а не черным).
Л. Е. Белозерская отметила в своих мемуарах: «По мере того, как росла популярность М. А. как писателя, возрастало внимание к нему со стороны женщин, многие из которых... проявляли уж чересчур большую настойчивость...» Тогда же, 28 февраля 1929 года, как вспоминала Любовь Евгеньевна, у Михаила Афанасьевича произошло знакомство с будущей третьей женой: «...Мы с М. А. поехали как-то в гости к его старым знакомым, мужу и жене Моисеенко (жили они а доме Нирензее в Гнездниковском переулке). За столом сидела хорошо причесанная интересная дама — Елена Сергеевна Нюренберг, по мужу Шилов-
| ГЛАВА 5. |
Михаил Булгаков — журналист драматург, прозаик. 1921—1929
екая. Она вскоре стала моей приятельницей и начала запросто и часто бывать у нас в доме».
Однако вскоре благополучию пришел конец, и для писателя он вряд ли был неожиданным. Люди той среды, к которой принадлежал Булгаков, свою обреченность и полную зависимость от прихотей власти чувствовали очень хорошо. В архиве Булгакова сохранилось письмо, полученное драматургом, очевидно, в 1926 или 1927 году — в первый сезон представления во МХАТе «Дней Турбиных». Оно заслуживает быть приведенным полностью:
«Уважаемый г. автор. Помня Ваше симпатичное отношение ко мне и зная, как Вы интересовались одно время моей судьбой, спешу Вам сообщить свои дальнейшие похождения после того, как мы расстались с Вами. Дождавшись в Киеве прихода красных, я был мобилизован и стал служить новой власти не за страх, а за совесть, а с поляками дрался даже с энтузиазмом. Мне казалось тогда, что только большевики есть та настоящая власть, сильная верой в нее народа, что несет России счастье и благоденствие, что сделает из обывателей и плутоватых богоносцев сильных, честных, прямых граждан. Все мне казалось у большевиков так хорошо, так умно, так гладко, словом, я видел все в розовом свете до того, что сам покраснел и чуть-чуть не стал коммунистом, да спасло меня мое прошлое — дворянство и офицерство. Но вот медовые месяцы революции проходят. Нэп, кронштадтское восстание. У меня, как и у многих других, проходит угар и розовые очки начинают перекрашиваться в более темные цвета...
Общие собрания под бдительным инквизиторским взглядом месткома. Резолюции и демонстрации из-под палки. Малограмотное начальство, имеющее вид вотят-ского божка и вожделеющее на каждую машинистку (кажется, будто автор письма знаком с неопубликованным „Собачьим сердцем". — Б. С). Никакого понимания дела, но взгляд на все с кондачка.- Комсомол, шпионящий походя, с увлечением. Рабочие делегации — знатные иностранцы, напоминающие чеховских генералов на
 | |||
 | |||
| 235 |
234 ВоРяс Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
свадьбе. И ложь, ложь без конца... Вожди? Это или человечки, держащиеся за власть и комфорт, которого они никогда не видали, или бешеные фанатики, думающие пробить лбом стену (очень точное разделение коммунистических правителей на два разряда. — Б. С). А самая идея! Да, идея ничего себе, довольно складная, но абсолютно не претворимая в жизнь, как и учение Христа, но христианство и понятнее, и красивее.
Так вот-с. Остался я теперь у разбитого корыта. Не материально. Нет. Я служу и по нынешним временам — ничего себе, перебиваюсь. Но паршиво жить ни во что не веря. Ведь ни во что не верить и ничего не любить — это привилегия следующего за нами поколения, нашей смены беспризорной.
В последнее время или под влиянием страстного желания заполнить душевную пустоту, или же, действительно, оно так и есть, но я иногда слышу чуть уловимые нотки какой-то новой жизни, настоящей, истинно красивой, не имеющей ничего общего ни с царской, ни с советской Россией.
Обращаюсь с великой просьбой к Вам от своего и от имени, думаю, многих других таких же, как я, пустопорожних душой. Скажите со сцены ли, со страниц ли журнала, прямо ли или эзоповым языком, как хотите, но только дайте мне знать, слышите ли Вы эти едва уловимые нотки и о чем они звучат?
Или все это самообман и нынешняя советская пустота (материальная, моральная и умственная) есть явление перманентное. Caesar, morituri te salutant*. Виктор Викторович Мышлаевский».
В отличие от автора письма, Булгаков, похоже, коммунистической идеологией никогда не соблазнялся. Наверное, и он по большому счету считал себя «обреченным на смерть» в советском обществе, и в творчестве была для него единственная возможность остаться самим собой и донести свои мысли до потомков. Впрочем, когда Булгаков получил письмо от своего персонажа, у него, видно, еще сохранялись надежды, хоть и очень слабые,
 * Цезарь, обреченные на смерть приветствуют тебя (лат.) приветствовали в римском цирке императоров гладиаторы.
* Цезарь, обреченные на смерть приветствуют тебя (лат.) приветствовали в римском цирке императоров гладиаторы.
| ГЛАВА 5. |
Михаил Булгаков—журналист драматург, прозаик. 1921—1929
на какую-то нормальную жизнь, пусть и далекую от идеала (думается, автор «Дней Турбиных» подписался бы под словами «Мышлаевского» о жизни «настоящей, истинно красивой, не имеющей ничего общего ни с царской, ни с советской Россией», но он не хуже своего корреспондента понимал нереалистичность подобных мечтаний). Как раз в это время, в 1926—1928 годах Булгаков писал для МХАТа новую пьесу «Рыцарь Серафимы («Изгои»), впоследствии получившую название «Бег» и ставшую лучшим его драматическим произведением. В ней были продолжены идеи первой булгаковской пьесы, но уже не на автобиографическом материале гражданской войны в Киеве 1918—1919 годов, а применительно к судьбам оказавшихся в эмиграции участников белого движения. Как мы помним, еще в Сочельник 1924 года Булгаков записал в дневнике строки В. Жуковского «Бессмертье — тихий светлый брег», ставшие эпиграфом к пьесе и вспомнившиеся писателю в связи с гражданской войной и зафиксированным в дневнике эпизодом гибели полковника за Шали-аулом.
В новом замысле Булгакова нашли отражение как его собственные впечатления от гражданской войны, так и впечатления его современников, например Александра Дроздова, изложенные им в статье «Интеллигенция на Дону». О самом Дроздове будущий автор «Бега» в дневниковой записи от 26 октября 1923 года отозвался крайне нелестно: писатель И. С. Соколов-Микитов подтвердил булгаковское предположение о том, что «Ал. Дроздов — мерзавец. Однажды он (Соколов-Микитов. — Б. С.) в шутку позвонил Дроздову по телефону, сказал, что он — Марков 2-й (лидер черносотенно-монархичес-кой части эмиграции. — Б. С), что у него есть средства на газету и просил принять участие. Дроздов радостно рассыпался в полной готовности. Это было перед самым вступлением Дроздова в «Накануне» (в 1923 году Дроздов уже вернулся в СССР). В статье «Интеллигенция на Дону» внимание Булгакова наверняка привлекли заключительные строки, рассказывающие о крахе генерала Деникина и последующей участи тех интеллигентов, кто связал свою судьбу с белым движением: «Но грянул
236
Р"0 Соколов- ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 5.
Михаил Булгаков — журналист драматург, прозаик. 1921—1929
237
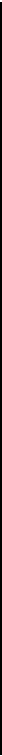 час — и ни пушинки не осталось от новой молодой России, так чудесно и свято поднявшей трехцветный патриотический флаг. Все, что могло бежать, кинулось к Черному морю, в давке, среди стонов умирающих от тифа, среди крика раненых, оставшихся в городе для того, чтобы получить удар штыка озверелого красноармейца. Ах, есть минуты, которых не простит самое любящее сердце, которых не благословит самая кроткая рука! Поля лежали сырые и холодные, сумрачные, почуя близкую кровь, и шла лавина бегущих, упорная, озлобленная, стенающая, навстречу новой, оскаленной безвестности, навстречу новым судьбам, скрывшим в темноте грядущего свое таинственное лицо. И мелким шагом шла на новые места интеллигенция, неся на плечах гробишко своей идеологии, переломленной пополам вместе со шпагой генерала Деникина. Распались дружеские путы, связавшие ее в моменты общего стремления к Белокаменной — и вот пошли бродить по блестящей, опьяненной победою Европе толпы Вечных Жидов, озлобленных друг на друга, разноязыких, многодушных, растерянных, многое похоронивших назади, ничего не унесших с собой, кроме тоски по России, бесславной и горючей».
час — и ни пушинки не осталось от новой молодой России, так чудесно и свято поднявшей трехцветный патриотический флаг. Все, что могло бежать, кинулось к Черному морю, в давке, среди стонов умирающих от тифа, среди крика раненых, оставшихся в городе для того, чтобы получить удар штыка озверелого красноармейца. Ах, есть минуты, которых не простит самое любящее сердце, которых не благословит самая кроткая рука! Поля лежали сырые и холодные, сумрачные, почуя близкую кровь, и шла лавина бегущих, упорная, озлобленная, стенающая, навстречу новой, оскаленной безвестности, навстречу новым судьбам, скрывшим в темноте грядущего свое таинственное лицо. И мелким шагом шла на новые места интеллигенция, неся на плечах гробишко своей идеологии, переломленной пополам вместе со шпагой генерала Деникина. Распались дружеские путы, связавшие ее в моменты общего стремления к Белокаменной — и вот пошли бродить по блестящей, опьяненной победою Европе толпы Вечных Жидов, озлобленных друг на друга, разноязыких, многодушных, растерянных, многое похоронивших назади, ничего не унесших с собой, кроме тоски по России, бесславной и горючей».
В булгаковской пьесе и показаны финальные стадии этого бега в Крыму и в эмиграции — Константинополе и Париже. В заключительной сцене сходные мысли вложены в уста генерала Чарноты, обращающегося к собравшимся в Россию Голубкову и Серафиме Корзухи-ной: «Так едете? Ну, так нам не по дороге. Развела ты нас, судьба, кто в петлю, кто в Питер, а я, как Вечный Жид, отныне... Голландец я! Прощайте!» Есть в «Беге» и красноармейцы, готовые добить ударом штыка сошедших с дистанции: буденновский командир Баев и двое его бойцов. Развит здесь и мотив «тоски по России, бесславной, горючей». На реплику возвращающегося Хлудова: «Ты будешь тосковать, Чарнота» — «запорожец по происхождению» отвечает: «Тосковать? Не тебе это говорить! У тебя перед глазами карта лежит, Российская бывшая империя мерещится, которую ты проиграл на Перекопе, а за спиною солдатишки-покойники расхаживают? А я человек маленький и что знаю, то знаю про
себя! Я давно, брат, тоскую! Мучает меня черторой, помню я Лавру! Помню бои! От смерти я не бегал, но за смертью специально к большевикам тоже не поеду! У меня родины более нету! Ты мне ее проиграл!»
Центральным героем пьесы, главным носителем белой идеи стал генерал Роман Валерьянович Хлудов. Его прототип был хорошо известен современникам: генерал-лейтенант белой армии, в эмиграции разжалованный Врангелем в рядовые, Яков Александрович Сла-щов, прославившийся своей совершенно легендарной жестокостью. Изъявивший желание вернуться на родину, он, прощенный советской властью, в ноябре 1921 года прибыл в Москву. В дальнейшем Слащов преподавал тактику комсоставу Красной Армии на курсах «Выстрел». Лично со Слащовым, по утверждению Л. Е. Белозерской, Булгаков знаком не был, она же в свое время встречалась в Петрограде с матерью Слащова. По прибытии в Россию Слащов так объяснил свой поступок: «Не будучи сам не только коммунистом, но даже социалистом, — я отношусь к советской власти как к правительству, представляющему мою родину и интересы моего народа. Оно побеждает все нарождающиеся против нее движения, следовательно, удовлетворяет требованиям большинства. Как военный, ни в одной партии не состою, но хочу служить своему народу, с чистым сердцем подчиняюсь выдвинутому им правительству». Здесь бывший генерал не был оригинален. Примерно так же формулировал свое отношение к советской власти философ и богослов о. П. Флоренский. Сменовеховец же А. Бобрищев-Пушкин высказывался еще более откровенно: «Советская власть при всех ее дефектах — максимум власти, могущей быть в России, пережившей кризис революции. Другой власти быть не может — никто ни с чем не справится, все перегрызутся».
Булгаков, как мы видели из его дневника, иллюзий сменовеховцев не разделял и никаких достоинств у советской власти не находил. Он прекрасно понимал, что большевики согласились принять Слащова только с целью разложить эмиграцию и спровоцировать исход на родину части военнослужащих белых армий — если
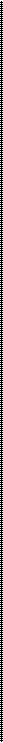 238 БоРис Сеж™0»- Т™ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
238 БоРис Сеж™0»- Т™ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
такого палача, как Слащов, прощают, то что же остальным бояться. Автор «Бега» читал не только книгу опального генерала — выпущенную еще в 1921 году в Константинополе «Требую суда общества и гласности», подписанную «Генерал Я. А. Слащов-Крымский» (в ней упомянут тамошний адрес Слащова — улица де-Руни — отсюда Лидочка де-Руни в «Дьяволиаде»), но и вышедшую в Москве в 1924 году «Крым в 1920 г.», предисловие к которой написал Д. Фурманов. Булгаков был знаком и с мемуарами крымского земского деятеля В. А. Оболенского «Крым при Деникине» и «Крым при Врангеле», опубликованными в Берлине в 1924 году. Там, например, есть описание Слащова, использованное в «Беге» для портретной ремарки Хлудова: «Это был высокий молодой человек, с бритым болезненным лицом, редеющими белобрысыми волосами и нервной улыбкой, открывающей ряд не совсем чистых зубов. Он все время как-то странно дергался, сидя, постоянно менял положения, и, стоя, как-то развинченно вихлялся на поджарых ногах. Не знаю, было ли это последствием ранений или потребления кокаина. Костюм у него был удивительный — военный, но как будто собственного изобретения: красные штаны, светло-голубая куртка гусарского покроя. Все ярко и кричаще-безвкусно. В его жестикуляции и интонациях речи чувствовались деланность и позерство». Сравним теперь булгаковский портрет Хлудова: «На высоком табурете сидит Роман Валерианович Хлудов. Человек этот лицом бел как кость, волосы у него черные, причесаны на вечный неразрушимый офицерский пробор. Хлудов курнос, как Павел, брит, как актер, кажется моложе всех окружающих, но глаза у него старые. На нем плохая солдатская шинель, подпоясан он ремнем по ней не то по-бабьи, не то как помещики подпоясывают шлафрок. Погоны суконные, и на них небрежно нашит генеральский зигзаг. Фуражка защитная, грязная, с тусклой кокардой, на руках варежки. На Хлудове нет никакого оружия. Он болен чем-то, этот человек, весь болен, с ног до головы. Он морщится, дергается, любит менять интонации. Задает самому себе вопросы и любит на них сам же отвечать. Когда он хочет изобразить улыбку —
| ГЛАВА 5. |
Михаил Булгаков — журналист драматург, прозаик. 1921—1929
скалится. Он возбуждает страх. Он болен — Роман Валерианович».
Здесь к нарисованному Оболенским портрету Слащова добавлен ряд черт Н. Хмелева — актера, для которого писалась роль. Оболенский к генералу относился без симпатий — у Слащова была стойкая и справедливая репутация палача, а потом и изменника, перешедшего на сторону большевиков. В булгаковской портретной ремарке Хлудова отношение к генералу нейтральное, а по поводу его болезни — даже сочувственное. А вот костюм Хлудова — полная противоположность опереточному одеянию Слащова (в пьесе так, по-гусарски, как Слащов, одет другой палач — полковник де Бризар, возможно сделанный маркизом в память о маркизе де Саде). У булгаковского героя в одежде подчеркивается небрежность, ветхость, грязь, что символизирует белую идею, находящуюся накануне гибели.
Булгаков, как видно из его дневника, не питал к сменовеховцам и сменовеховсту каких-либо симпатий. Того же Бобрищева-Пушкина, бывшего черносотенца, ставшего лояльным к Советам, писатель выставил (запись в дневнике 24 декабря 1924 года) беспринципным приспособленцем: «Старый, убежденный погромщик, антисемит, пишет хвалебную книжку о Володарском (большевистском комиссаре по делам печати, пропаганды и агитации в Петрограде. —Б. С), называя его „защитником свободы печати". Немеет человеческий ум». Мало оснований думать, что к Слащову Булгаков относился принципиально иначе, тем более что был знаком с мнением Оболенского о том, почему генерал «сменил вехи»: «Слащов — жертва гражданской войны. Из этого от природы неглупого, способного, хотя и малокультурного человека она сделала беспардонного авантюриста. Подражая не то Суворову, не то Наполеону, он мечтал об известности и славе. Кокаин, которым он себя дурманил, поддерживал безумные мечты. И вдруг генерал Слащов-Крымский разводит индюшек в Константинополе на ссуду, полученную от Земского союза (этим генерал вынужден был заняться после изгнания из врангелевской армии. — Б. -С)! А дальше?.. Здесь... за границей, его авантю-
 | |||||
 | |||||
 | |||||
| 241 |
240 БоРис Соколов-1™ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ризму и ненасытному честолюбию негде было разыграться. Предстояла долгая трудовая жизнь до тех пор, когда можно будет скромным и забытым вернуться на родину. А там, у большевиков, все-таки есть шанс выдвинуться если не в Наполеоны, то в Суворовы. И Слащов отправился в Москву, готовый в случае нужды проливать «белую» кровь в таком же количестве, в каком он проливал „красную"». Подобный тип «кондотьера» в романе «Белая гвардия» представляет Тальберг, а в варианте финала, так и не увидевшем свет в журнале «Россия», — и Шервинский, который предстает перед Еленой в образе командира красной стрелковой школы и как бы сливается с Тальбергом. И этому «двуцветному кошмару» — наполовину красному командиру, наполовину дьяволу (вариант черта, являющегося Ивану Карамазову) Елена во сне кричит: «Кондотьер! Кондотьер!» — адресуя это Тальбергу-Шервинскому (прототип Тальберга, булгаков-ский зять Л. С. Карум действительно преподавал в стрелковой школе Красной Армии, а ранее служил у гетмана). Д. Фурманов в предисловии к книге «Крым в 1920 г.» привел слова Слащова, отражающие мучительный для генерала перелом: «Много пролито крови... Много тяжких ошибок совершено. Неизмеримо велика моя историческая вина перед рабоче-крестьянской Россией. Это знаю, очень знаю. Понимаю и вижу ясно. Но если в годину тяжких испытаний снова придется рабочему государству вынуть меч, — я клянусь, что пойду в первых рядах и кровью своей докажу, что мои новые мысли и взгляды и вера в победу рабочего класса — не игрушка, а твердое, глубокое убеждение». В тексте же мемуаров Слащов всячески отрицал свою причастность к расстрелам, возлагая вину на контрразведку (будто не было популярной в годы гражданской войны частушки: «От расстрелов идет дым, то Слащов спасает Крым»). Свой же переход к большевикам бывший генерал обосновывал исключительно патриотическими мотивами: «...В моем сознании иногда мелькали мысли о том, что не большинство ли русского народа на стороне большевиков, ведь невозможно, что они и теперь торжествуют благодаря лишь немцам, китайцам и т. п., и не предали ли мы родину союзникам...
| ГЛАВА 5. |
МихаилБулгаков—журналист драматург, прозаик. 1921—1929
Это было ужасное время, когда я не мог сказать твердо и прямо своим подчиненным, за что я борюсь». Этим Слащов объяснял свой рапорт об отставке, не принятый Врангелем. Скорее можно предположить, что он не желал служить под началом Врангеля, с которым только что проходила скрытая борьба за главенство над белым движением в Крыму. Слащов утверждал: «Я принужден был остаться и продолжать нравственно метаться, не имея права высказывать своих сомнений и не зная, на чем остановиться. Подчеркиваю: с сущностью борьбы классов я не был знаком и продолжал наивно мечтать о воле и пользе всего внеклассового общества, где ни один класс не эксплуатирует других. Это было не колебание, но политическая безграмотность». В своей книге свежеиспеченный красный командир пытался уверить публику, что прозрел, проникнувшись не только убеждением в предательстве союзниками, отстаивавшими свои интересы, белого движения, но и верой в правильность марксистского учения. В связи с этим Фурманов в предисловии оправдывал издание слащовских мемуаров тем, что книга «свежа, откровенна, поучительна» (хотя сам бывший комиссар чапаевской дивизии в коммунистическое прозрение генерала вряд ли верил). А начиналось фурма-новское предисловие суровой, но, наверное, справедливой характеристикой мемуариста: «Слащов-вешатель, Слащов-палач: этими черными штемпелями припечатала его имя история... Перед «подвигами» его, видимо, бледнеют зверства Кутепова, Шатилова, да и самого Врангеля — всех сподвижников Слащова по крымской борьбе». Таким Булгаков и сделал своего Хлудова.
Как мы смогли убедиться, не тени повешенных и не муки совести привели Слащова к возвращению на родину. Если он в чем и раскаивался, так это в том, что с самого начала оказался в рядах проигравших белых, а не победивших красных. Но в «Беге» Хлудов представлен, в отличие от прототипа, не жестоким авантюристом, а идейным вдохновителем, глубоко убежденным в правоте белого дела (именно как вождя белого движения обвиняет его в финале романа Чарнота). К раскаянию же и возвращению на родину он приходит через муки совести —
Б°РИС Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 5.
Михаил Булгаков — журналист драматург, прозаик. 1921—1929
243



 в них истинный характер его болезни: бессчетно повешенные на фонарных столбах преследуют генерала на протяжении всей пьесы. И особенно вестовой Крапилин. Совесть материализуется в зримого казненного, а не в абстрактные сотни и тысячи жертв. Конкретна жертва — конкретна и вина. Правда, драматург в решение Хлудова вернуться в Россию привносит и слащовские расчеты. Тот же Чарнота догадывается об этом, когда говорит генералу, только что объявившему о своем предстоящем возвращении («Сегодня ночью пойдет с казаками пароход, и я поеду с ними. Только молчите»): «Постой, постой, постой! только сейчас сообразил! Куда? Домой? Нет! Что? У тебя, генерального штаба генерал-лейтенанта, может быть, новый хитрый план созрел? Но только на сей раз ты просчитаешься. Проживешь ты, Рома, ровно столько, сколько потребуется тебя с поезда снять и довести до ближайшей стенки, да и то под строжайшим караулом». На вопрос же: «Где Крапилин... За что погубил вестового?..», Хлудов отвечал почти как Слащов в мемуарах: «Жестоко, жестоко вы говорите мне! (Оскалившись, оборачивается.) Я знаю, где он... Но только мы с ним помирились... помирились...»
в них истинный характер его болезни: бессчетно повешенные на фонарных столбах преследуют генерала на протяжении всей пьесы. И особенно вестовой Крапилин. Совесть материализуется в зримого казненного, а не в абстрактные сотни и тысячи жертв. Конкретна жертва — конкретна и вина. Правда, драматург в решение Хлудова вернуться в Россию привносит и слащовские расчеты. Тот же Чарнота догадывается об этом, когда говорит генералу, только что объявившему о своем предстоящем возвращении («Сегодня ночью пойдет с казаками пароход, и я поеду с ними. Только молчите»): «Постой, постой, постой! только сейчас сообразил! Куда? Домой? Нет! Что? У тебя, генерального штаба генерал-лейтенанта, может быть, новый хитрый план созрел? Но только на сей раз ты просчитаешься. Проживешь ты, Рома, ровно столько, сколько потребуется тебя с поезда снять и довести до ближайшей стенки, да и то под строжайшим караулом». На вопрос же: «Где Крапилин... За что погубил вестового?..», Хлудов отвечал почти как Слащов в мемуарах: «Жестоко, жестоко вы говорите мне! (Оскалившись, оборачивается.) Я знаю, где он... Но только мы с ним помирились... помирились...»
В этих словах явный намек на предварительную договоренность Хлудова с кем-то о возвращении на родину. Так же точно Слащов сначала вступил в контакт с чекистами, выговорил себе и жене амнистию, скрывал отъезд от врангелевской контрразведки. Может, из-за этого расчета и не совсем еще оставила Хлудова болезнь — нечистая совесть, и немного рано думает он, что помирился с Крапилиным. Но, что интересно, словами Чар-ноты Булгаков уже тогда, в 1928 году, как бы предсказал печальный конец реального Слащова. 11 января 1929 года тот был убит на своей квартире одним из курсантов, неким Б. Коленбергом, брат которого был в свое время повешен по приказу Слащова. За «фонарики» генералу пришлось, пусть с опозданием, заплатить, но и современники и потомки серьезно подозревали, что бывший белый генерал был убит не без содействия ОГПУ (хотя убийца и был приговорен к тюремному заключению, дальнейшая судьба его неизвестна). Тогда усилились
гонения против бывших офицеров, служивших в Красной Армии, в 1930 году были произведены их массовые аресты. Слащова же арестовывать было неудобно из-за шума, ранее поднятого вокруг его имени. Поэтому бывшего генерала могли убрать загодя, натравив на него мстителя.
И все же главное в образе Хлудова — это душевные терзания, муки совести за совершенные преступления, за жестокость. Искупление же грехов возможно только после возвращения в Россию, где нужно держать ответ за содеянное. Хлудов — один из сильнейших в мировой драматургии образов кающегося грешника, убийцы, убивавшего ради идеи (тут у зрителей могли возникнуть ассоциации не с одним только белым движением). И, по всей видимости, во многом Булгаков передал своему герою собственные муки совести, только связанные, конечно, не с убийством невиновных, а с тем, что такие убийства наблюдал и бессилен был предотвратить. Отсюда и сходство Хлудова с Алексеем Турбиным в «Белой гвардии», который тоже любит задавать вопросы и сам же на них отвечать, да и слащовскую наркоманию, подтвержденную многими источниками, автор «Бега» мог осмыслить по-своему, ибо когда-то страдал тем же недугом. Вспомним, как в «Красной короне» герой сходит с ума, мучимый призраком брата, которого не смог спасти от гибели, и одновременно проецирует свое состояние на генерала, пославшего брата на смерть. К генералу, думает автор, тоже по ночам ходит рабочий, повешенный на фонаре в Бердянске. Какую смерть (а может, и не одну) так переживал Булгаков и когда это случилось, мы, наверное, никогда точно не узнаем. Может быть, это произошло при занятии Киева петлюровцами в декабре 1918 года, или при их отступлении 3 февраля 1919 года (в «Белой гвардии» оба эти убийства видит Алексей Турбин, бессильный их предотвратить), или в Бердянске, или в Ростове, когда Булгаков был у белых, или в Киеве, уже занятом красными. Кто знает? Но показательно, что наибольшего художественного и сценического эффекта, как и в «Днях Турбиных», драматург в «Беге» достигает, когда совмещает автобиографические мотивы с сильной
244
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 5.
Михаил Булгаков — журналистдраматург, прозаик. 1921—1929
245
 личностью, как бы выражающей программу одной из сторон в гражданской войне. Дневниковые записи свидетельствуют, что сильной, волевой личностью Булгаков себя не считал и потому искал опору в Боге.
личностью, как бы выражающей программу одной из сторон в гражданской войне. Дневниковые записи свидетельствуют, что сильной, волевой личностью Булгаков себя не считал и потому искал опору в Боге.
Поражение белых в гражданской войне Булгаков объяснял как в «Беге», так и в «Днях Турбиных», отсутствием народной поддержки. Слова Алексея Турбина: «Народ не с нами. Он против нас» — нашли продолжение в рассуждениях Хлудова: «Нужна любовь. Любовь. А без любви ничего не сделаешь на войне». Причем непосредственно перед этим он цитировал строки известного приказа Троцкого: «Победа прокладывает путь по рельсам...» Здесь своей беспощадностью, решительностью и военным талантом (способности у Слащова к военному делу признавали все, включая Врангеля) Хлудов как бы уподобляется председателю Реввоенсовета, прекрасному военному организатору и оратору, но никакому политику и принципиальному противнику христианской морали. Это еще раз подчеркивает булгаковскую мысль, что дело не в личностях вождей и полководцев, а в восприятии идеи массами. И опять здесь присутствуют мотивы «оборачиваемости» — на месте белого генерала вполне можно представить Троцкого, а на месте председателя Реввоенсовета — Хлудова-Слащова.
В «Беге» автобиографическое связано и с другими главными героями — Серафимой Корзухиной и приват-доцентом Сергеем Голубковым. В трактовке этих образов и отразились раздумья самого писателя об эмиграции и рассказы о жизни на чужбине Л. Е. Белозерской. Серафима — жена товарища министра Корзухина, и, возможно, эта деталь также взята Булгаковым из жизни. Первый муж хозяйки «Никитинских субботников» А. М. Никитин, был министром Временного правительства (А. Дроздов в своем очерке ошибочно сообщал о его расстреле в 1920 году в Ростове красными). Прототипом мужа Серафимы — Парамона Ильича Корзухина, по свидетельству Л. Е. Белозерской, послужил ее хороший знакомый, петербургский литератор и миллионер Владимир Пименович Крымов, происходивший из сибирских купцов-старообрядцев. Любовь Евгеньевна так писала о
Крымове: «Из России уехал, как только запахло революцией, „когда рябчик в ресторане стал стоить вместо сорока копеек — шестьдесят, что свидетельствовало о том, что в стране неблагополучно", — его собственные слова. Будучи богатым человеком, почти в каждом европейском государстве приобретал недвижимую собственность, вплоть до Гонолулу...
Сцена в Париже у Корзухина написана под влиянием моего рассказа о том, как я села играть в девятку с Владимиром Пименовичем и его компанией (в первый раз в жизни!) и всех обыграла». Крымов (не сама ли фамилия подсказала поместить Корзухина в Крым?) до революции издавал весьма уважаемый журнал «Столица и усадьба», написал книгу о своем кругосветном путешествии «Богомолы в коробочке», писал авантюрные романы и детективы, пользовавшиеся популярностью не только среди эмигрантов (которым Крымов помогал), но и переведенные на иностранные языки, в частности на английский. Как видим, прототип вовсе не зациклился на процессе делания денег и в сущности был совсем не плохим человеком, не чуждым литературе. Но Корзухин с его «балладой о долларе» («седьмой сон» с этой сценой, что показательно, был единственным фрагментом пьесы, появившимся в советской печати при жизни автора, в 1932 году) превратился в символ стяжательства. Еще в «Днях Турбиных» Мышлаевский предсказывал: «Куда ни приедешь, в харю наплюют: от Сингапура до Парижа. Нужны мы там, за границей, как пушке третье колесо». Миллионеру же Крымому, имевшему недвижимость и в Париже, и, наверное, в Сингапуре, и, уж точно, в Гонолулу, «в харю», конечно, нигде не плевали, всюду он был желанным гостем. Булгаков чувствовал, что его самого в эмиграции ждала бы скорее судьба Голубкова, Серафимы, Хлудова или в лучшем случае Чарноты, если бы выпал выигрыш. Отсюда, быть может, подсознательная ненависть к Крымову и карикатурное преображение его в Корзухина.
«Баллада о долларе» — не что иное, как пародия на статью Ленина «О значении золота теперь и после полной победы социализма», где золото предложено пу-

| 247 |
246 Б°РИС Со^лов- ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
стать на сортиры. Корзухин же превозносит золотой доллар как высшее божество. Намеки на источник содержатся и в имени персонажа: через Владимира Ильича Ленина Владимир Пименович Крымов превратился в Парамона Ильича Корзухина.
В «Беге» Булгакову удалось убедительно слить воедино гротеск и трагедию, жанр высокий и жанр низкий. Конечно, без образа Хлудова пьесы бы не было, но фан-тасмагоричные тараканьи бега или сцена у Корзухина трагического начала отнюдь не снижают. Тут реализм и символизм, сугубо достоверные детали эпохи гражданской войны и. беспросветного эмигрантского быта и созданный воображением автора тараканий тотализатор как олицетворение тщетности надежд убежать от родины и от себя самого. Жаль, что эта гениальная пьеса до сих пор не получила адекватного сценического воплощения, хотя начиная с 1957 года ставилась неоднократно. Вот только Хлудов, пожалуй, обрел идеального исполнителя — талантливого, но рано умершего Владислава Дворжецкого в киноверсии «Бега», осуществленной А. Аловым и В. Наумовым в 1971 году. Убедительнее Дворжецкого трагедию больной совести палача не сыграл, думается, еще никто.
МХАТ пытался трактовать «Бег» как разоблачение идеологии белого движения и зверств белых генералов, признающих в конце концов торжество советской власти. Пропагандистское значение могла иметь и демонстрация бесперспективности и бедственного положения эмигрантов, для которых будто бы единственный достойный выход — возвращение на родину. Однако симпатии, которые мог внушить зрителю образ Чарноты, несмотря на все заверения, что он такой же герой, как Сквозник-Дмухановский у Гоголя, и возможное сочувствие по отношению к Хлудову, не говоря уже о подозрительно идеальных интеллигентах Серафиме и Голубкове, делали замысел сомнительным с точки зрения цензуры и ортодоксальных коммунистов. Бдительные критики забили в набат. В октябре 1928 года в «Известиях» критик, укрывшийся под псевдонимом И. Кор, призвал «ударить по булгаковщине», а И. Бачелис, в «Комсомольской
| ГЛАВА 5. |
Михаил Булгаков — журналист драматург, прозаик. 1921—1929
правде» обвинил Художественный театр в стремлении «протащить булгаковскую апологию, написанную посредственным богомазом» (речь шла о попытках защиты Булгакова и «Бега» представителями МХАТа на обсуждении пьесы расширенным политико-художественным советом Главреперткома). Позже эти фразы почти дословно войдут в последний булгаковский роман, в описание травли Мастера, устроенной критикой. Не помог-р ло даже то, что «Бег» был поддержан М. Горьким, и? готовность разрешить его постановку выражена Предсе-i дателем Главискусства А. И. Свидерским. К Сталину с письмом по поводу «Бега» обратился драматург В. Н. Билль-Белоцерковский. 2 февраля 1929 года вождь^ ответил драматургу. «Бег» он расценил как «проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской эмигрантщины» и тем самым «оправдать или полуоправдать белогвардейское дело». Поэтому булгаковскую пьесу в существующем виде Сталин охарактеризовал как «антисоветское явление». Досталось и «Дням Турбиных», хотя и не так сильно: «Почему так часто ставят на сцене пьесы Булгакова? Потому, должно быть, что своих пьес, годных для постановки, не хватает. На безрыбье даже «Дни Турбиных» — рыба». При этом Сталин оговорился, что данная пьеса «не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вре-| да. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся' у зрителя от «Дней Турбиных», есть впечатление, благоприятное для большевиков: «Если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться*, воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, — значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь». «Дни Турбиных» есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма». И тут Иосиф Виссарионович поспешил уточнить: «Конечно, автор ни в какой мере «не повинен» в этой демонстрации. Но какое нам до этого дело?» Даже «Бег» Сталин готов был разрешить, «если бы Булгаков прибавил к своим восьми снам еще один или два сна, где бы изобразил внутренние социальные пружины гражданской войны в СССР, чтобы зритель мог понять, что все эти,
248
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 5.
Михаил Булгаков — журналист
по-своему «честные» Серафимы и всякие приват-доценты оказались вышибленными из… К счастью для художественных достоинств «Бега», но к несчастью для его сценической судьбы, Булгаков требуемых…ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 5.
Михаил Булгаков—журналист
257 второй — год «великого перелома», явившийся переломным и в судьбе Булгакова и изображенный им в своем романе. И…2 70
ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 5.
Михаил Булгаков—журналист О 7 7 драматург, прозаик. 1921—1929 jL, / А


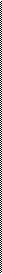
 тых царских врат. Сквозь резьбу их явно виделся престол, а самые врата, в свой черед, были видимы мне сквозь резную медную решетку на амвоне. Три слоя пространства; но каждый из них мог быть видим ясно только особой аккомодацией зрения, и тогда два других получали особое положение в сознании и, следовательно, сравнительно с тем, ясно видимым, оценивались, как полусуществующие...»
тых царских врат. Сквозь резьбу их явно виделся престол, а самые врата, в свой черед, были видимы мне сквозь резную медную решетку на амвоне. Три слоя пространства; но каждый из них мог быть видим ясно только особой аккомодацией зрения, и тогда два других получали особое положение в сознании и, следовательно, сравнительно с тем, ясно видимым, оценивались, как полусуществующие...»
Вспомним, как героиня романа смотрит в хрустальный глобус Воланда: «Маргарита наклонилась к глобусу и увидела, что квадратик земли расширился, многокрасочно расписался и превратился как бы в рельефную карту. А затем она увидела и ленточку реки, и какое-то селение возле нее. Домик, который был размером с горошину, разросся и стал как бы спичечная коробка. Внезапно и беззвучно крыша этого дома взлетела наверх вместе с клубом черного дыма, а стенки рухнули, так что от двухэтажной коробочки ничего не осталось, кроме кучки, от которой валил черный дым. Еще приблизив свой глаз, Маргарита разглядела маленькую женскую фигурку, лежащую на земле, а возле нее в луже крови разметавшего руки маленького ребенка». Здесь эффект двупласт-ного изображения усиливает тревожное состояние Маргариты.
Сама трехмирная структура романа служит интересной иллюстрацией к оптическому явлению, разобранному Флоренским. Когда читатель видит оживший мир древней легенды, реальный до осязаемости, и потусторонний, и современные миры выглядят порой как полусуществующие. Угаданный Мастером Ершалаим во многом воспринимается нами как безусловная реальность, а город, где он живет, нередко ощущается как призрачный.
В «Мастере и Маргарите», наряду с древним ерша-лаимским, современным московским и вечным потусторонним, есть и четвертый, мнимый мир, пространственно связанный с театром Варьете и «нехорошей квартирой». Этот мир, в отличие от первых трех и в полном соответствии с утверждениями Флоренского о трех ипостасях субъекта истины, не является структурообра-
зующим и в пространстве и времени поглощается современным московским. Мнимый мир — это место, где потусторонний мир соприкасается с современным и частью делает его своим, как это происходит, например, с «нехорошей квартирой» в праздничную полночь бала сатаны. Персонажи мнимого мира дополнят триады до тэтрад следующим образом: 1) Пилат — Воланд —- Стравинский — финдиректор Варьете Римский; 2) Афраний — Фагот-Коровьев — врач Федор Васильевич — администратор Варьете Варенуха; 3) Марк Крысобой — Аза-зелло — Арчибальд Арчибальдович — директор Варьете Лиходеев; 4) Банга — Бегемот — Тузбубен — кот, задержанный неизвестным в Армавире; 5) Низа — Гелла — Наташа — Аннушка-Чума; 6) Кайфа — Берлиоз — мнимый иностранец в Торгсине — конферансье Варьете Жорж Бенгальский; 7) Иуда — барон Майгель — Алои-зий Могарыч — Тимофей Квасцов; 8) Левий Матвей — Иван Бездомный — Александр Рюхин — Никанор Иванович Босой.
В мнимом мире герои свершают мнимые действия. Например, кажется, что Римский направляет ход событий в Варьете, поскольку формальный директор Лиходеев исчезает в самом начале действия. Финдиректор делает все, чтобы о подозрительных обитателях «нехорошей квартиры» и сеансе черной магии узнали, где следует, и посылает с донесением Варенуху. Однако действия его приводят к прямо противоположным результатам. Варенуху превратили в вампира, скандальный сеанс состоялся, а Воланд и его свита благополучно исчезли.
Также и Пилату, ожидающему Афрания, мерещится, что «кто-то сидит в пустом кресле» в тот момент, когда «вечерние тени играли свою игру». В такую же ночь Римский с непонятной тревогой ждет возвращения Варенухи и вдруг видит администратора сидящим в кресле в своем кабинете. Но вскоре выясняется, что это — не отбрасывающий тени вампир, мнимый Варенуха.
Конферансье Бенгальский, как и Берлиоз, лишился головы. Но смерть его мнимая, поскольку Фагот-Коровьев, вняв призывам публики, возвращает голову на место.


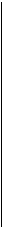
 -2 Z2 БоРис С0150™8 ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
-2 Z2 БоРис С0150™8 ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
Мнимый мир как бы создан действиями Воланда и его свиты. Но на самом деле и театр Варьете, где на время материализуются из воздуха дьявольские червонцы и соблазнительные парижские наряды, и дом № 302-бис на Садовой, где в квартире 50 происходят невероятные события, — это реальный мир, а все мнимое и иррациональное в нем — следствие людских пороков. Другие миры романа отражаются в мнимом мире, как в громадном кривом зеркале.
Ряд положений книги Флоренского и булгаковского романа находят свое соответствие в статьях уже упоминавшегося сборника «Из глубины». Великий философ Н. А. Бердяев в статье «Духи русской революции» заметил: «По-прежнему Чичиков ездит по русской земле и торгует мертвыми душами. Но ездит он не медленно в кибитке, а мчится в курьерских поездах и повсюду рассылает телеграммы. Та же стихия действует в новом темпе., Революционные Чичиковы скупают и перепродают несуществующие богатства, они оперируют с фикциями, а не реальностями, они превращают в фикцию всю хозяйственно-экономическую жизнь России. Иногда декреты революционной власти совершенно гоголевские по своей природе, и в огромной массе обывателей они встречают гоголевское к себе отношение. В стихии революции обнаруживается колоссальное мошенничество, бесчестность, как болезнь русской души. Вся революция наша представляет собой бессовестный торг — торг народной душой и народным достоянием. Вся наша революционная аграрная реформа, эсеровская и большевистская, есть чичиковское предприятие. Она оперирует с мертвыми душами, она возводит богатство народное на призрачном, нереальном базисе... Все хари и рожи гоголевской эпопеи появились на почве омертвения русских душ. Омертвение душ делает возможными чичиковские похождения и встречи. Это длительное и давнее омертвение душ чувствуется и в русской революции». Сходную мысль высказал и С. Н. Булгаков в «современных диалогах» «На пиру богов»: «Зато уж революционные Чичиковы хлопочут, чтобы сбывать мертвые души, да под шумок и Елизавету Воробья за мужчину спустить».
| ГЛАВА 5. |
| Михаил Булгаков — журналист . 1921—19 |
| -1929 |
| драматург, прозаик. |
273
Очевидно, не без влияния этих статей в булгаковском фельетоне 1922 года «Похождения Чичикова» гоголевский герой был перенесен в пореволюционную Россию, где чувствовал себя как рыба в воде, употребляя себе на пользу все несуразицы и мнимости советской жизни. Налет мнимости, ирреальности появляется на современных персонажах «Мастера и Маргариты». А слова фельетона о бандах капитана Копейкина звучали тогда достаточно актуально. В 1918 году крестьянское антисоветское восстание под Саратовом возглавлял... капитан Копейкин.
Идеология того романа, который Булгаков начал писать в 1929 году, оказалась тесно связана с взглядами многих выдающихся русских религиозных философов, после революции оказавшихся в эмиграции. На философскую концепцию «Мастера и Маргариты», несомненно, оказали влияние и идеи такого парадоксального и неординарного философа, как Лев Шестов, — киевлянина, земляка Булгакова. Особенно многое связывает последний булгаковский роман с одной из главных шестовских работ «Potestas clavium» («Власть ключей»), что и неудивительно: фрагменты этого труда были изданы в 1917 году в ежегоднике «Мысль и слово», который редактировал Г. Г. Шпет, один из пречистенских друзей Булгакова. Полностью же книга вышла в 1923 году в берлинском издательстве «Скифы». Автор «Мастера и Маргариты» активно сотрудничал в ту пору с «Накануне» и был в курсе русскоязычных новинок берлинского книжного рынка.
Шестов свою работу строит на противопоставлении судьбы и разума, доказывая невозможность охватить живое многообразие жизни одним только рациональным мышлением. Основную часть своего труда он начинает с высказывания Геродота о том, что «и Богу невозможно избежать предопределения судьбы», указывая на различие «мойре», судьбы, фигурирующей здесь, и «логоса», разума, тогда как в позднейшей философской традиции, по мнению Шестова, «мойре» стало постепенно превращаться в «логос». И именно этой фразой в редакции романа 1929 года Воланд провожал Берлиоза, которому
274
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 5.
Михаил Булгаков — журналист драматург, прозаик. 1921—1929
 через несколько мгновений суждено было погибнуть под колесами трамвая. Тогда слова «князя тьмы» звучали так: «Даже богам невозможно милого им человека избавить!..» Упоминал здесь Воланд и то, что «дочь ночи Мойра (древнегреческая богиня судьбы. — Б. С.) допряла свою нить», причем в окончательном тексте «Мастера и Маргариты» Мойра была заменена на Аннушку, разлившую масло. На примере Берлиоза сатана демонстрировал бессилие разума перед судьбой, и в этом Булгаков следовал Шестову.
через несколько мгновений суждено было погибнуть под колесами трамвая. Тогда слова «князя тьмы» звучали так: «Даже богам невозможно милого им человека избавить!..» Упоминал здесь Воланд и то, что «дочь ночи Мойра (древнегреческая богиня судьбы. — Б. С.) допряла свою нить», причем в окончательном тексте «Мастера и Маргариты» Мойра была заменена на Аннушку, разлившую масло. На примере Берлиоза сатана демонстрировал бессилие разума перед судьбой, и в этом Булгаков следовал Шестову.
Булгаковские слова насчет богов близки к тексту перевода стихов 236 и 237 гомеровской «Одиссеи», выполненного Жуковским: «Но и богам невозможно от общего смертного часа милого им человека избавить, когда он уже предан в руки навек усыпляющей смерти судьбиною будет». Вероятно, автор «Мастера и Маргариты» обратил внимание, что Геродот в соответствующем месте (История, 1, 91) фактически цитирует Гомера. Однако Булгаков данные слова брал не из переведенной Жуковским «Одиссеи», а вслед за Шестовым из геродото-вой «Истории», где соответствующее место звучит следующим образом: «...Пифия, как передают, дала им вот какой ответ. «Предопределенного Роком не может избежать даже бог. Крез ведь искупил преступление предка в пятом колене. Этот предок, будучи телохранителем Гераклидов, соблазненный женским коварством, умертвил своего господина и завладел его саном, вовсе ему не подобающим. Локсий же хотел, чтобы падение Сард случилось по крайней мере не при жизни самого Креза, а при его потомках. Но бог не мог отвратить Рока... Также и на данное ему предсказание Крез жалуется напрасно. Ведь Локсий предсказал: если Крез пойдет войной на персов, то разрушит великое царство. Поэтому, если бы Крез желал принять правильное решение, то должен был отправить послов вновь вопросить оракула: какое именно царство разумеет бог — его, Креза, или Кира. Но так как Крез не понял изречения оракула и вторично не вопросил его, то пусть винит самого себя». У Гомера в соответствующем эпизоде с богами, неспособными спасти от судьбы милого им человека, мотив предсказания
начисто отсутствует. У Булгакова же этот мотив присутствует очень отчетливо: Воланд предрекает Берлиозу гибель в результате несчастного случая, но председатель МАССОЛИТа не обращает внимания на предупреждение и платит жизнью за беспечность и неспособность воспринимать необыкновенные явления.
Автор «Власти ключей» шел дальше. Он подчеркивал, что «отдельная человеческая душа... рвется на простор, прочь от домашних пенатов, изготовленных искусными руками знаменитых философов... Она не умеет дать себе отчета в том, что разум, превративший свой бедный опыт в учение о жизни, обманул ее. Ей вдруг дары разума — покой, тишина, приятства — становятся противны. Она хочет того, чего разуму и не снилось. По общему, выработанному для всех шаблону она жить уже не может. Всякое знание ее тяготит — именно потому, что оно есть знание, т. е. обобщенная скудость». Шестов неоднократно подчеркивает опасность всезнайства, ибо оно делает жизнь скучной. Здесь и таится разгадка той награды, которую Иешуа дает Мастеру через посредство Воланда, — не свет, а покой. Мастер, автор гениального романа, где он исторически точно, то есть рационально, воссоздал события, связанные с Пилатом и Иешуа, сломлен неблагоприятными жизненными обстоятельствами и жаждет только «даров разума» — тишины и покоя. Высший, сверхъестественный свет, свет откровения или судьбы, по Шестову, остался для него недоступен. Ему остается, согласно терминологии, используемой философом, лишь свет естественный, свет низший, свет разума — в лучах этого света он и является в эпилоге во сне вместе с Маргаритой Ивану Бездомному. Сам же Бездомный, превратившийся в профессора Понырева, поражен бациллой всезнайства, отчего его жизнь делается скучной и мертвой. Оживает он лишь раз в году, в ночь весеннего полнолуния, когда во сне вновь переживает случившееся с ним: встречает Мастера и Маргариту, видит казнь Иешуа, испытывает страдания, — а не наслаждается покоем, то есть находится во власти судьбы, а не разума.
История Бездомного, как кажется, иллюстрирует
2 76 БоРис Соколов ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 5.
Михаил Булгаков—журналист драматург, прозаик. 1921—1929
277
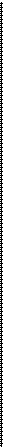
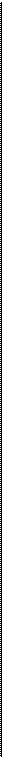 мысль одного из основоположников евразийства князя Н. С. Трубецкого, писавшего в 1925 году в берлинском «Евразийском временнике» (статья «Мы и другие»): «Положительное значение большевизма, может быть, в том, что, сняв маску и показав всем сатану в его неприкрытом виде, он многих через уверенность в реальность сатаны привел к вере в Бога. Но, помимо этого, большевизм своим бессмысленным (вследствие неспособности к творчеству) ковырянием жизни глубоко перепахал русскую целину, вывернул на поверхность пласты, лежавшие внизу, а вниз — пласты, прежде лежавшие на поверхности. И, быть может, когда для созидания новой национальной культуры понадобятся новые люди, такие люди найдутся именно в тех слоях, которые большевизм случайно поднял на поверхность русской жизни. Во всяком случае, степень пригодности к делу созидания национальной культуры и связь с положительными духовными основами, заложенными в русском прошлом, послужат естественным признаком отбора новых людей». Воланд действительно, как и обещал, сперва заставил Ивана поверить в существование дьявола, предсказав гибель Берлиоза и заключение поэта в сумасшедший дом, а через веру в сатану он убедил и в подлинности услышанной истории Иешуа. В результате Иван Николаевич обретает почву, возвращает себе исконную фамилию Понырев и пытается познать прошлое и найти там «положительные духовные основы». Но его, профессора истории, поражает неизлечимый недуг всезнайства и, вопреки Трубецкому, зато вполне по Шестову, он явно не способен созидать новую национальную культуру. Профессор Понырев обладает знаниями, но лишен творческих способностей, хотя он, без сомнения, выходец из тех «пластов», которые большевизм вынес на поверхность.
мысль одного из основоположников евразийства князя Н. С. Трубецкого, писавшего в 1925 году в берлинском «Евразийском временнике» (статья «Мы и другие»): «Положительное значение большевизма, может быть, в том, что, сняв маску и показав всем сатану в его неприкрытом виде, он многих через уверенность в реальность сатаны привел к вере в Бога. Но, помимо этого, большевизм своим бессмысленным (вследствие неспособности к творчеству) ковырянием жизни глубоко перепахал русскую целину, вывернул на поверхность пласты, лежавшие внизу, а вниз — пласты, прежде лежавшие на поверхности. И, быть может, когда для созидания новой национальной культуры понадобятся новые люди, такие люди найдутся именно в тех слоях, которые большевизм случайно поднял на поверхность русской жизни. Во всяком случае, степень пригодности к делу созидания национальной культуры и связь с положительными духовными основами, заложенными в русском прошлом, послужат естественным признаком отбора новых людей». Воланд действительно, как и обещал, сперва заставил Ивана поверить в существование дьявола, предсказав гибель Берлиоза и заключение поэта в сумасшедший дом, а через веру в сатану он убедил и в подлинности услышанной истории Иешуа. В результате Иван Николаевич обретает почву, возвращает себе исконную фамилию Понырев и пытается познать прошлое и найти там «положительные духовные основы». Но его, профессора истории, поражает неизлечимый недуг всезнайства и, вопреки Трубецкому, зато вполне по Шестову, он явно не способен созидать новую национальную культуру. Профессор Понырев обладает знаниями, но лишен творческих способностей, хотя он, без сомнения, выходец из тех «пластов», которые большевизм вынес на поверхность.
Образ Ивана Бездомного ориентирован также на Студента из гетевской поэмы. Этот последний спрашивает советы у Мефистофеля, переодевшегося Фаустом. Студент признается*:
 «Фауст» И. В. Гете цитируется в пер. Б. Л. Пастернака.
«Фауст» И. В. Гете цитируется в пер. Б. Л. Пастернака.
Я б стать хотел большим ученым
■> И овладеть всем потаенным,
Что есть на небе и земле.
Мефистофель наставляет его:
Заучивайте на дому Текст лекции по руководству. Учитель, сохраняя сходство, Весь курс читает по нему. И все же с жадной быстротой Записывайте мыслей звенья. ' Как будто эти откровенья Продиктовал вам дух святой.
В дальнейшем Студент превращается в пошлейшего Бакалавра и вновь встречается с Мефистофелем, поражая его уверенностью в собственном всезнайстве, что вызывает ироническое заключение сатаны:
Как и всему, ученью есть свой срок. Вы перешли через его порог. У вас есть опыт, так что вам пора, По-моему, самим в профессора.
Бакалавр в запальчивости восклицает: «Я захочу, и черт пойдет насмарку», в связи с чем Мефистофель про себя предрекает: «Тебе подставит ножку он, не каркай», и провожает будущего профессора следующей сентенцией:
Ступай, чудак, про гений свой трубя! Что б сталось с важностью твоей бахвальской, Когда б ты знал: нет мысли мало-мальской, Которой бы не знали до тебя!
Булгаковский Бездомный сначала слышит от Воланда переиначенное Священное Писание — рассказ о Пилате и Иешуа, которое потом безуспешно пытается записать в лечебнице Стравинского. Иван сначала не верит ни в Бога, ни в дьявола, и за подобные шутки с чертом наказывается шизофренией. В финале поэт превращается в профессора Понырева, дальше, чем гетевский Студент, продвинувшись в научной карьере и утвердившись в соб-
БоРис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА5.
МихаилБулгаков — журналистдраматург, прозаик. 1021—1929
 ственном всезнании. Эту уверенность сатана ежегодно подвергает сомнению, заставляя Бездомного-Понырева вновь переживать историю Иешуа и Пилата, Мастера и Маргариты, переживать то, что недоступно рациональному познанию.
ственном всезнании. Эту уверенность сатана ежегодно подвергает сомнению, заставляя Бездомного-Понырева вновь переживать историю Иешуа и Пилата, Мастера и Маргариты, переживать то, что недоступно рациональному познанию.
Автор книги «Власть ключей» помогает понять и проповедь добра, с которой выступает булгаковский Иешуа. Шестов говорит о Мелите и Сократе. На ложный обвинительный приговор, которого добился первый, второй ответил всего лишь тем, что назвал Мелита «злым». Шестов здесь отвергает мысль о моральной победе Сократа: «В случае Сократа победила история, а не добро: добро только случайно восторжествовало. А Платону и его читателям кажется уже, что добро всегда по своей природе должно побеждать. Нет, «по природе» дано побеждать чему угодно — грубой силе, таланту, уму, знанию — только не добру...» Проповедь добра, с которой пришел Иешуа, его теория о том, что «злых людей нет на свете», попытка разбудить в людях их изначально добрую природу, не приносит успеха. Этой проповеди поддался сам прокуратор Пилат, но он не находит другого способа сотворить добро, как организовать убийство предателя Иуды, то есть совершить то же зло, по учению Иешуа. Единственный же ученик Га-Ноцри Матвей становится злым и нетерпимым. Булгаков, как и Шестов, и как еще за полтора века до них маркиз де Сад, сомневался в изначально доброй природе человека и полагал, что зла там не меньше, чем добра.
Можно предположить, что по крайней мере еще одна мысль Шестова, содержащаяся в четвертой части его книги «Афины и Иерусалим», повлияла на замысел «Мастера и Маргариты». Обширные фрагменты этой части, написанные в 20-е годы, были опубликованы в Париже в феврале 1930 года в первой книге сборника «Числа» и в журнале «Современные записки». Там в афоризме XVII «Смысл истории» читаем: «От копеечной свечи Москва сгорела, а Распутин и Ленин — тоже копеечные свечи — сожгли всю Россию». По сохранившимся фрагментам редакции 1929 года нельзя судить, предусматривался ли в финале пожар Дома Грибоедова (или «Ша-
лаша Грибоедова», как именовался тогда писательский ресторан) и всей Москвы. Зато в одном из вариантов второй редакции, написанном уже в 1931-м или в начале 1932 года, Иванушка, называвшийся тогда то Покинутым, то Безродным, оказавшись после дебоша в ресторане в психиатрической лечебнице, после успокаивающего укола «пророчески громко сказал:
— Ну, пусть погибнет красная столица, я в лето от
Рождества Христова 1943-е все сделал, чтобы спасти ее!
Но... но победил ты меня, сын гибели, и заточил меня,
спасителя... — Он поднялся и вытянул руки, и глаза его
стали мутны и неземной красоты.
— И увижу ее в огне пожаров, — продолжал Иван, —
в дыму увижу безумных, бегущих по Бульварному коль
цу...» Отметим, что 1943 год в данном случае восходит к
сохранившейся в булгаковском архиве выписке с проро
чеством Нострадамуса о конце света как раз в этом году.
В позднейших вариантах этой редакции в заключитель
ных главах были яркие картины грандиозных москов
ских пожаров с большим числом жертв. Лишь в оконча
тельном тексте, возможно из цензурных соображений,
масштаб пожаров был сильно уменьшен (сгорели только
дом 302-бис на Садовой, Торгсин на Смоленской и Дом
Грибоедова) и обошлось без жертв. Вполне возможно,
что большие пожары в Москве в ранних редакциях как
бы иллюстрировали шестовское уподобление революций
гигантским пожарам (Распутин, по мысли философа,
спровоцировал во многом февральскую революцию, а
Ленин организовал октябрьскую).
И по крайней мере, еще одна важная работа, вышедшая в Берлине в 1924 году, попала в поле зрения автора «Мастера и Маргариты». Это — книга Н. Бердяева «Новое Средневековье». Философ писал: «Обнажается и разоблачается природа социализма, выявляются его последние пределы, обнажается и разоблачается, что безрелигиозности, религиозной нейтральности не существует, что религии живого Бога противоположна лишь религия диавола, что религия Христа противоположна лишь религии антихриста. Нейтральное гуманистическое царство, которое хотело устроиться в серединной сфере
2,80 Б°Рис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
между небом и адом, разлагается, и обнаруживается верхняя и нижняя бездны». В булгаковском романе современный мир оказывается лишь жалкой пародией мира Пилата и мира Воланда.
Бердяев считал, что «рационаньный день новой истории кончается, солнце его заходит, наступают сумерки, мы приближаемся к ночи», и потому «мы живем в этот час смешения, в час тоски, когда бездна обнажилась и все покровы сброшены». Вероятно, именно это символизирует последний полет Воланда и его свиты вместе с Маргаритой и Мастером, когда они в сумерках покидают Москву и летят в звездной ночи. Во время полета сбрасываются прежние покровы и все предстают в своем истинном виде. Недаром автор «Нового Средневековья» утверждал, что «трагедия русского большевизма разыгрывается не в дневной атмосфере новой истории, а в ночной стихии нового средневековья. Ориентироваться в русском коммунизме можно лишь по звездам. Чтобы понять смысл русской революции, мы должны перейти от астрономии новой истории к астрологии средневековья». Воланд предсказывает гибель Берлиоза, руководствуясь законами астрологии, а не рациональными основаниями разума, а сама гибель председателя МАССОЛИТа, главы литераторов, ставших на службу коммунистической власти, может рассматриваться и как пародия на «трагедию русского большевизма».
Та редакция будущего «Мастера и Маргариты», что начала создаваться в 1929 году, опиралась не только на идеи русских философов начала века и на немецкую фаус-тианскую традицию, нашедшую свое ярчайшее воплощение в поэме Гете и в оперной ее инсценировке Ш. Гуно (вспомним из «Белой гвардии» «истрепанные страницы вечного Фауста» и категорическое утверждение о том, что «Фауст», как «Саардамский Плотник», — совершенно бессмертен). Булгаков опирался и на русскую версию «Фауста», ныне абсолютно забытую. Дело в том, что во втором томе московского альманаха «Возрождение», вышедшем в 1923 году*, вместе с первой частью .«Записок на манжетах» было
 * Экземпляр альманаха сохранился в архиве Булгакова.
* Экземпляр альманаха сохранился в архиве Булгакова.
| ГЛАВА 5. |
| Михаил Булгаков — журналист к. 1921—19 |
| драматург, прозаик. |
| -1929 |
281
опубликовано начало романа «Возвращение доктора Фауста», написанного Эмилием Миндлиным, хорошо известным Булгакову сотрудником «Накануне» (продолжения романа, насколько нам известно, так и не последовало).
Автор «Возвращения доктора Фауста» перенес своего героя в начале нашего века и поселил его «в давней мастерской, в одном из переулков Арбата, излюбленной им улицы, шумливого и громкокипящего города Москвы». Фауст разочарован в рациональном знании: «Но что есть знание? Что можно знать о причине этой быстротекущей смены явлений, миров, систем?.. Нет смены законов. Но что можно знать о законах?» Он уезжает «далеко из Москвы, далеко от несколько чужой ему России, в маленький и тихий городок Швиттау», где рассчитывает зажить жизнью простого обывателя, далекого от науки. Но на двери соседнего домика Фауст видит визитку с надписью черным по белому «Профессор Мефистофель», а затем знакомится с ее владельцем в винном погребке Пфайфера. Вот портрет профессора Мефистофеля: «Всего... замечательнее было в фигуре лицо ее, в лице же всего замечательнее — нос, ибо форму имел он точную до необычайности и среди носов распространенную не весьма. Форма эта была треугольником прямоугольным, гипотенузой вверх, причем угол прямой находился над верхней губой, которая ни за что не совмещалась с нижней, но висела самостоятельно», причем «у господина были до крайности тонкие ноги в черных (целых, без штопок) чулках, обутые в черные бархатные туфли, и такой же плащ на плечах. Фаусту показалось, что цвет глаз господина менялся беспрестанно». Мефистофель превращает поданную ему воду то в вино, то в пиво, а затем представляется.
«Незнакомец снял свой берет.
— Меня зовут Конрад-Христофор Мефистофель. Я профессор университета в Праге. Простите, господин хозяин, если я обеспокоил вас!
Я готов уплатить вам, сколько вы скажете, — сделайте одолжение...
Я немного пошутил... Поверьте, я просто проделал некоторый эксперимент. Я проверил силу словесного

 282 Б°РИС Сокол°в три ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
282 Б°РИС Сокол°в три ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
убеждения. Она оказалась сильнее вашего зрения. В кружках была действительно вода», в чем присутствующие тотчас убеждаются.
Шутка Мефистофеля привлекает внимание Фауста, и тот приглашает все еще неузнанного профессора за свой столик. Мефистофель утверждает, что «эти шутки и подобные им немало времени и покоя отнимают у меня... Но когда в жизни ничего не остается более, как шутить! Вы понимаете, не потому, что скучно... Именно потому, что есть причины, удерживающие еще меня на земле и заставляющие влачиться еще по этой глупой, бессмысленной, проклятой человеческой жизни, именно потому ничего более не остается мне, как шутить, шутить от скуки, от досады, от злости...» Фауст возражает, что жизнь не кажется ему бессмысленной и глупой, и хотя он сам в свои шестьдесят лет так и не нашел счастья, но «если бы в мое распоряжение вновь было предоставлено такое щедрое количество времени, на этот раз я использовал бы его, я бы счастливо прожил свою жизнь!»
Мефистофель обещает Фаусту доказать, что на земле нет самой возможности счастья. Фауст на это пытается возразить, что «счастье может заключаться в самом процессе стремления к счастью». Между ними завязывается примечательный спор:
«— В вас говорит отчаяние, господин профессор, — сказал Фауст, — я убежден, что в вас говорит отчаяние. Вы, наверное (я почти убежден в этом), чрезмерно огорчены чем-нибудь!»
Мефистофель в ответ сказал с сожалением:
«— Вы — поэт... вы поэт! Все люди — поэты. Хозяин Пфайфер — тоже поэт. Поэзия — это кокаин!..»
И тут профессор излагает собеседнику свою мечту: «...Ах, я мечтаю об одном — о восстании человека против человеческой жизни, против обманности, в которую погружен он, против роли, которую играет он на земле. Но не о словесном, не о фразерском восстании, но о действенном, об активном!.. Я мечтаю о восстании человеческой воли. Например, — тут Мефистофель наклонился над самым ухом Фауста, — например, об организации самоубийства всего человечества...» Он предлагает Фау-
| ГЛАВА 5. |
| Михаил Булгаков — журналист к.1921—19 |
| -1929 |
| драматург, прозаик. |
283
сту стать сообщником в этом деле, а чтобы побороть последние сомнения, самому убедиться в бессмысленности человеческой жизни. Фауст колеблется:
«Едва ли! Правда, я разочаровался в возможностях науки... и я не знаю еще, в чем смысл жизни, но я чувствую, что он существует!
— Так чувствуют все, и никто не знает этого смы
сла!» Мефистофель продолжает убеждать: «Господин
Фауст, если я покажу вам мир не таким, каким вы видите
его, но таким, каким он существует в самом себе? Ну тог
да?.. Хотите?!
— Что? Что?
— Быть со мной! — глаза Мефистофеля провали
лись, их не было видно, — хотите? Мы отомстим тому,
кто издевается над человеком, отомстим, если убедим
человека лишить себя жизни!.. Прекратить себя! Будете
со мной?!
— Но как вы докажете? Вы не убедите меня.
— Я покажу вам то, чего вы никогда не смогли бы
увидеть с помощью вашей науки!..
Теплое дыхание окутывало голову Фауста. Слова профессора из Праги дурманили ...
— Хочу, хочу, — прошептал он, — хочу!»
Фауст сетует на старость, и Мефистофель обещает вернуть молодость. Тут происходит узнавание:
«...Мефистофель приблизил лицо свое к Фаусту. Глаза его мерцали то синим, то красным цветом. Тонкие брови приподнимались кверху.
— Или ты не узнаешь меня? — спросил он тихо, смо
тря в глаза Фауста. Фауст вздрогнул. Он узнал и ответил:
— Узнаю!.. Я буду твоим... Но исполни обещание!..»
И Мефистофель возвращает Фаусту молодость,
делает его двадцатипятилетним. Фауст жаждет любви, и они покидают Швиттау. В соседнем старинном городке Литли в трактире «Золотая подкова» Фауст встречается с рыжеволосой дочерью хозяина Марго. На завязке истории, скорее всего повторяющей историю гетевской Гретхен, и обрывается роман Э. Миндлина «Возвращение доктора Фауста».
Сходство с «Мастером и Маргаритой» очевидно. Тут и
284
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 5.
Михаил Булгаков — журналист драматург, прозаик. 1921—1929
285

 визитная карточка Воланда, надпись на которой в ранней редакции была выполнена латинскими буквами, а Воланд назван Теодором; и оперный костюм профессора (правда, у Булгакова при первом появлении Воланда от этого костюма присутствует только берет, в квартире же № 50 «князь тьмы» полностью обретает облик оперного Мефистофеля). Тут и меняющиеся и разные глаза Воланда, неопределенность самого облика сатаны, благодаря чему свидетели впоследствии дают самые разноречивые показания о его внешности. И наконец, название трактира «Золотая подкова», с которым связана золотая подкова, подаренная Воландом Маргарите, — символ счастья — и дьявола (памятуя о его копыте). Тут и нос-треугольник Мефистофеля и некоторые другие неправильности в лице, сохраненные и у Воланда. У бул-гаковского сатаны «рот какой-то кривой», одна бровь выше другой (у миндлинского же Мефистофеля верхняя губа не совмещается с нижней), а прямоугольный треугольник как бы перенесен с лица на портсигар, из которого Воланд угощает незадачливых литераторов.
визитная карточка Воланда, надпись на которой в ранней редакции была выполнена латинскими буквами, а Воланд назван Теодором; и оперный костюм профессора (правда, у Булгакова при первом появлении Воланда от этого костюма присутствует только берет, в квартире же № 50 «князь тьмы» полностью обретает облик оперного Мефистофеля). Тут и меняющиеся и разные глаза Воланда, неопределенность самого облика сатаны, благодаря чему свидетели впоследствии дают самые разноречивые показания о его внешности. И наконец, название трактира «Золотая подкова», с которым связана золотая подкова, подаренная Воландом Маргарите, — символ счастья — и дьявола (памятуя о его копыте). Тут и нос-треугольник Мефистофеля и некоторые другие неправильности в лице, сохраненные и у Воланда. У бул-гаковского сатаны «рот какой-то кривой», одна бровь выше другой (у миндлинского же Мефистофеля верхняя губа не совмещается с нижней), а прямоугольный треугольник как бы перенесен с лица на портсигар, из которого Воланд угощает незадачливых литераторов.
Миндлин поселил своего Фауста в один из переулков Арбата — и то же сделал Булгаков со своим Мастером, который в черновых набросках именовался Фаустом или Поэтом (поэтом называет главного героя и Мефистофель в «Возвращении доктора Фауста»).
Интересно проследить, присутствовал ли Фауст или подобный ему герой в ранней редакции булгаковского романа. В этой редакции для роли Фауста больше всего подходит ученый-гуманитарий Феся. Он феноменально эрудирован в демонологии Средних веков и итальянского Возрождения и является профессором историко-филологического факультета. Феся, как и Мастер в позднейших редакциях, сторонится толпы и предпочитает основное время проводить в своем московском кабинете или за границей. Через десять лет после октябрьской революции его обвинили в издевательствах над мужиками в подмосковном имении в одной «боевой газете»*: «И тут
 * Далее приводится фрагмент редакции 1929 года, частично реконструированный М. О. Чудаковой.
* Далее приводится фрагмент редакции 1929 года, частично реконструированный М. О. Чудаковой.
впервые мягкий и тихий Феся стукнул кулаком по столу и сказал (а, я... забыл предупредить, что по-русски он говорил плохо... сильно картавя):
— Этот разбойник, вероятно, хочет моей смерти...», и пояснил, что он не только не издевался над мужиками, но даже не видел их «ни одной штуки». И Феся сказал правду. Он действительно ни одного мужика не видел рядом с собой. Зимой он сидел в Москве, в своем кабинете, а летом уезжал за границу и не видел никогда своего подмосковного именья. Однажды он чуть было не поехал, но, решив сначала ознакомиться с русским народом по солидному источнику, прочел «Историю Пугачевского бунта» Пушкина, после чего ехать наотрез отказался, проявив неожиданную для него твердость. Однажды, впрочем, вернувшись домой, он гордо заявил, что видел «настоящего русского мужичка. Он в Охотных рядах покупал капусты. В треухе. Но он не произвел на меня впечатление зверя».
Через некоторое время Феся развернул иллюстрированный журнал и увидел своего знакомого мужичка, правда, без треуха. Подпись под старичком была такая: граф Лев Николаевич Толстой.
Феся был потрясен.
«— Клянусь Мадонной, — заметил он, — Россия необыкновенная страна! Графы выглядят в ней как вылитые мужики!
Таким образом, Феся не солгал».
Конечно, в Фесе бросается сходство не только с Фаустом, но и с гораздо более современной фигурой — Лениным. Булгаков вложил в его уста слегка измененное ленинское замечание о Толстом, переданное Горьким, насчет того, что до этого графа настоящего мужика в русской литературе не было. Отсюда же, возможно, и картавость Феей, и подчеркнутая оторванность его от жизни России. Ленин и многие другие творцы октябрьской революции тоже были кабинетными мыслителями и подолгу жили за границей.
Но образ Феей может быть поставлен в связь и с «Возвращением доктора Фауста». В романе Миндлина в качестве пролога к планируемому Мефистофелем коллектив-
286
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 5.
Михаил Булгаков—журналистдраматург, прозаик. 1921—1929
287
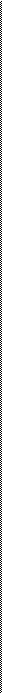

 ному самоубийству человечества, скорее всего, должны были рассматриваться первая мировая война и октябрьская революция в России. Судя по заглавию, предполагалось возвращение Фауста вместе с Мефистофелем в Москву в революционную или послереволюционную эпоху. Возможно, именно это обстоятельство и помешало дальнейшей публикации романа Миндлина в СССР. У Булгакова же, как следует из содержания главы о Фесе, тема взаимоотношений народа и интеллигенции должна была играть важную роль в первой редакции романа, как это уже было ранее в «Белой гвардии», «Днях Турбиных» и «Беге». Однако булгаков-ская трактовка здесь явно не могла устроить цензуру, поэтому позднее данная тема почти исчезла, отошла в подтекст.
ному самоубийству человечества, скорее всего, должны были рассматриваться первая мировая война и октябрьская революция в России. Судя по заглавию, предполагалось возвращение Фауста вместе с Мефистофелем в Москву в революционную или послереволюционную эпоху. Возможно, именно это обстоятельство и помешало дальнейшей публикации романа Миндлина в СССР. У Булгакова же, как следует из содержания главы о Фесе, тема взаимоотношений народа и интеллигенции должна была играть важную роль в первой редакции романа, как это уже было ранее в «Белой гвардии», «Днях Турбиных» и «Беге». Однако булгаков-ская трактовка здесь явно не могла устроить цензуру, поэтому позднее данная тема почти исчезла, отошла в подтекст.
Вероятно, Феся, который, судя по сохранившимся отрывкам, соприкасался с нечистой силой и даже участвовал в шабаше или черной мессе, встречал Воланда, который должен был вернуть ему молодость. Поэтому интересно попытаться определить возраст героя, нигде в уцелевших фрагментах прямо не названный.
Упомянутая статья против Феей появилась через десять лет после революции, а непосредственное действие романа развертывается еще по крайней мере на несколько месяцев или лет позже, возможно, в 1928 или в 1929 году. Учтем также, что сорвавшаяся поездка Феей в деревню, почти наверняка, задумывалась еще до революции 1905 года (после революции с ее массовыми аграрными беспорядками вряд ли кто-нибудь стал бы уговаривать его такую поездку совершить).
Все эти события, как можно понять, происходили уже после женитьбы Феей и обретения им профессорского звания. Встреча же с Толстым, несомненно, произошла за некоторое время до одного из юбилеев писателя, когда в газетах и журналах широко печатались его портреты. Речь могла идти либо о 70-летии со дня рождения — 28 августа 1898 года, либо о 75-летии, в 1903 году, либо о 50-летии литературной деятельности — 6 сентября 1902 года. Так как встреча Феей с Толстым происходит зимой, то предпочтение следует отдать зиме
1897/98 годов, которую граф действительно провел в Москве, а зимой 1901/02 и 1902/03 годов его в городе не было. Поскольку к моменту встречи с Толстым Феся уже был профессором и вряд ли мог получить профессуру ранее 30-летнего возраста, то родился он скорее всего в конце 1860-х годов и к концу 1920-х годов — предполагаемому времени действия романа в редакции 1929 года, ему должно было быть около 60 лет — как и Фаусту в романе Миндлина. Вероятно, по этой причине ничего не говорится и об участии Феей в мировой войне: он давно уже вышел из призывного возраста. Вспомним, что в окончательном тексте Мастер из ученого-историка превращается в писателя. Возможно, такая же трансформация ждала и помолодевшего Фесю в несохранившемся варианте 1929 года.
И, на наш взгляд, вполне вероятно, что этот герой имел еще одного необычного прототипа — П. А. Флоренского. В пользу этой гипотезы могут быть высказаны следующие соображения. В сфере особых интересов Феей лежат искусство, история, философия и литература эпохи Возрождения. Он — автор таких работ, как «Категория причинности и каузальная связь», «История как агрегат биографии», «Ронсар и плеяда», а также исследований и диссертаций по искусству и эстетическому сознанию итальянского Возрождения.
После революции в Хумате (художественных мастерских) Феся читает курс «Гуманистический критицизм как таковой», в кавдивизии — «Крестьянские войны в период Реформации», в Академии изящных искусств — «Секуляризация этики как науки», а еще в одном месте делает доклад «Респленцитность формы и пропорциональность частей».
Такими же энциклопедическими знаниями обладал и Флоренский, оставивший труды по богословию, философии, математике, физике, литературоведению, искусствоведению, а также электротехнике. Он был автором диссертации «О духовной истине» (будущий «Столп и утверждение истины»), которую закончил в 1912 году, в возрасте 30 лет. После революции Флоренский преподавал во Вхутемасе (у Булгакова —

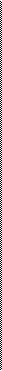
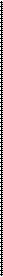 288 БоРис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
288 БоРис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
Хумат) теорию перспективы, в Духовной академии читал курс истории философии и, кроме того, работал в системе Главэлектро и в редакции Технической энциклопедии (в этой редакции одно время работала и Л. Е. Белозерская).
По кругу интересов Феся схож с Флоренским, а по убеждениям они прямо противоположны. Булгаковский герой увлекается демонологией и Возрождением и выступает, судя по темам его работ, за секуляризацию философии и гуманитарного знания вообще. Флоренский же был противником Возрождения, идеал искал в православии и Средневековье.
В редакции 1929 года в газетной статье Фесю обвиняли в том, что он бывший помещик и аристократ, после революции укрывшийся в Хумате. Такая же кампания была развернута печатью в апреле — мае 1928 года, то есть действительно через десять лет после октября 1917-го, против Флоренского и других представителей старой интеллигенции, в большинстве своем — из аристократов, укрывшихся после революции в Серги-евом Посаде. Лозунги были незатейливые: «Троице-Сер-гиева лавра — убежище бывших князей, фабрикантов и жандармов!»; «Шаховские, Олсуфьевы (соавтор Флоренского Д. А. Олсуфьев. — Б. С), Трубецкие и др. ведут религиозную пропаганду!» и т. п. В результате в мае 1928-го Флоренский вместе с большой группой верующих в Сергиевом Посаде был арестован. Тогда через несколько месяцев его освободили. Но после второго ареста в феврале 1933 года о. Павел уже не вырвался из лап карательных органов и был расстрелян 8 декабря 1937 года. В позднейших редакциях булгаковского романа Мастер подвергался аресту и земная жизнь его заканчивалась гибелью — самоубийством затравленного писателя.
Булгаков тяжело переживал антирелигиозную кампанию 20-х годов. Она, очевидно, стала одним из побудительных мотивов работы над романом о Христе и дьяволе. В дневниковой записи 5 января 1925 года читаем: «Когда я бегло проглядел у себя дома вечером номера «Безбожника», был потрясен. Соль не
| ГЛАВА 5. |
Михаил Булгаков—журналист драматург, прозаик. 1921—1929
в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно, если говорить о внешней стороне. Соль в идее: ее можно доказать документально — Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно его. Этому преступлению нет цены». Негодяем и мошенником изображал Христа в своей поэме Бездомный уже в первой редакции романа*.
Принимая во внимание обстановку конца 20-х годов, усиление идеологического и цензурного контроля и антирелигиозной пропаганды, начатый в 1929 году Булгаковым роман, содержащий историю Иешуа и Пилата, открыто критикующий борьбу с христинством и подконтрольные властям писательские организации, не имел шансов на публикацию, и писатель наверняка это понимал.
 * Когда настоящая книга уже находилась в наборе, в «астральном романе» А. А. Кораблева «Мастер» был опубликован фрагмент рукописи мемуаров Л. С. Карума, переворачивающий представление об идиллических отношениях внутри семейства Булгаковых: «Смерть Варвары Михайловны не слишком огорчила Ивана Павловича (Воскресенского. — Б. С), и, видимо, он был не прочь снова жениться (на Вере, старшей из дочерей В. М. Булгаковой. — Б. С). Такой быстрый переход от матери к дочери возмутил Вареньку и Лелю, и они обе заявили Ивану Павловичу, что в случае приезда Веры к нему они обе уйдут от него...
* Когда настоящая книга уже находилась в наборе, в «астральном романе» А. А. Кораблева «Мастер» был опубликован фрагмент рукописи мемуаров Л. С. Карума, переворачивающий представление об идиллических отношениях внутри семейства Булгаковых: «Смерть Варвары Михайловны не слишком огорчила Ивана Павловича (Воскресенского. — Б. С), и, видимо, он был не прочь снова жениться (на Вере, старшей из дочерей В. М. Булгаковой. — Б. С). Такой быстрый переход от матери к дочери возмутил Вареньку и Лелю, и они обе заявили Ивану Павловичу, что в случае приезда Веры к нему они обе уйдут от него...
Из Симферополя она (Вера. — Б. С.) приехала довольно-таки драной. Когда она поправилась к следующему 1923-му году, я, памятуя старое, стал немного за ней ухаживать. Как-то весной 1923-го года, зайдя к ней, я застал ее за мытьем пола. Высоко подняв подол, обнажив свои действительно красивые ноги, Вера мыла пол. Я не удержался и взял ее. Для нее теперь уже это особого значения не имело, так как за последние 5 лет она переменила не менее десятка любовников. Она с 1918 года прошла видно «огонь и воды и медные трубы».
Я условился встретиться с ней в погребке, вечером. Но тут я осрамился. Взять ее я не мог. Обстановка ли, боязнь, что войдут, нервировали меня. И я... расписался. Ну, что делать! Она же отнеслась к этому безразлично. Через год Иван Павлович, человек постный, ей видно надоел, и она отправилась в Москву. Иван Павлович не очень ее задерживал».
Вряд ли Карум стал выдумывать эпизод, демонстрирующий его несостоятельность, как любовника. Быть может, окажись Леонид Сергеевич состоятельнее в сексуальном плане, иначе сложились бы судьба булгаковских сестер и сюжет «Белой гвардии». Вероятно, Булгаков узнал об отношениях Веры и Ивана Павловича, что резко усилило его неприязнь к отчиму (до смерти матери он неизменно передавал Воскресенскому приветы). Если же Михаилу Афанасьевичу стало известно также о связи Веры и Карума, это могло послужить одной из причин, почему булгаковский зять и в романе, и в пьесе стал малопривлекательным персонажем.

|
2,90 БоРис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
Между тем в тот момент Булгаков не мог позволить себе роскошь «писать в стол», без надежды на скорую публикацию, ибо само его существование зависело от доходов от литературной деятельности. Поэтому вполне вероятно, что заявленное в письмах в официальные инстанции желание хотя бы на время эмигрировать из страны действительно существовало, и будущий «Мастер и Маргарита» начинал писаться как роман, предназначенный для публикации за границей.
-п-
 ■п п п-
■п п п-


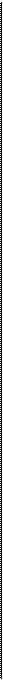
 Нерадостно начался для Булгакова 1930 год. IS марта он получил из Главреперткома извещение о запрете новой пьесы «Кабала святош». Это грозило уже физической гибелью — не на что стало жить. 28 марта драматург обратился с большим письмом к правительству, самым знаменитым из своих писем. Здесь он обрисовал ситуацию, сложившуюся после запрета пьесы о Мольере: «Скажу коротко: под двумя строчками казенной бумаги погребены — работа в книгохранилищах, моя фантазия, пьеса, получившая от квалифицированных театральных специалистов бесчисленные отзывы, — блестящая пьеса». После этого подчеркивал Булгаков: «...погибли не только мои прошлые произведения, но и настоящие и все будущие. И лично я, своими руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе, черновик комедии и начало второго романа «Театр».
Нерадостно начался для Булгакова 1930 год. IS марта он получил из Главреперткома извещение о запрете новой пьесы «Кабала святош». Это грозило уже физической гибелью — не на что стало жить. 28 марта драматург обратился с большим письмом к правительству, самым знаменитым из своих писем. Здесь он обрисовал ситуацию, сложившуюся после запрета пьесы о Мольере: «Скажу коротко: под двумя строчками казенной бумаги погребены — работа в книгохранилищах, моя фантазия, пьеса, получившая от квалифицированных театральных специалистов бесчисленные отзывы, — блестящая пьеса». После этого подчеркивал Булгаков: «...погибли не только мои прошлые произведения, но и настоящие и все будущие. И лично я, своими руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе, черновик комедии и начало второго романа «Театр».
Все мои вещи безнадежны».
Причину такого к себе отношения писатель видел в своих усилиях «стать бесстрастно над красными и белыми» и в том, что «стал сатириком и как раз в то время, когда никакая настоящая (проникающая в запретные зоны) сатира в СССР абсолютно немыслима».
В этом письме Булгаков также изложил свое идейное и писательское кредо. Совет ряда «доброжелателей» «сочинить „коммунистическую пьесу"... а кроме того, обратиться к Правительству СССР с покаянным письмом, содержащим в себе отказ от прежних моих взглядов, высказанных мною в литературных произведениях, и уверения в том, что отныне я буду работать, как преданный идее коммунизма писатель-попутчик», автор письма решительно отверг: «Навряд ли мне удалось бы предстать перед Правительством СССР в выгодном свете, написав лживое письмо, представляющее собой неопрятный и к тому же наивный политический курбет. Попы-
| 295 |
294 Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ток же сочинить коммунистическую пьесу я даже не производил, зная заведомо, что такая пьеса у меня не выйдет».
Булгаков вполне соглашался с мнением германской печати о том, что «Багровый остров» — это «первый в СССР призыв к свободе печати». Он так суммировал главное в своем творчестве: «Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она ни существовала, мой писательский долг, так же как и призывы к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что, если кто-нибудь из писателей задумал бы доказывать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода.
Вот одна из черт моего творчества, и ее одной совершенно достаточно, чтобы мои произведения не существовали в СССР. Но с первой чертой в связи все остальные, выступающие в моих сатирических повестях: черные и мистические краски (я — МИСТИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ), в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта, яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противупоставление ему излюбленной и Великой Эволюции, а самое главное — изображение страшных черт моего народа, тех черт, которые задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя М. Е. Салтыкова-Щедрина». Писатель сводил мнение критики в короткую формулу: «Всякий сатирик в СССР посягает на советский строй».
Последними чертами своего творчества «в погубленных пьесах „Дни Турбиных", „Бег" и в романе „Белая гвардия"» Булгаков назвал: «Упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране. В частности, изображение интеллигентско-дворянской семьи, волею непреложной исторической судьбы брошенной в годы гражданской войны в лагерь белой гвардии, в традициях „Войны и Мира". Такое изображение вполне естественно для писателя, кровно связанного с интеллигенцией».
Писатель просил власти принять во внимание: «я не политический деятель, а литератор, ... всю мою продук-
| ГЛАВА 6. |
Михаил Булгаков—режиссер, либреттист, романист. 1930—1940
цию я отдал советской сцене», а потому «невозможность писать равносильна для меня погребению заживо». Булгаков предлагал правительству два возможных варианта, как с ним поступить. Первый: «Приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР в сопровождении моей жены Любови Евгеньевны Булгаковой». Он обращался к «гуманности советской власти», призывал «писателя, который не может быть полезен у себя, в отечестве, великодушно отпустить на свободу». Булгаков не исключал, что его все же, как и раньше, обрекут «на пожизненное молчание в СССР». На этот случай он просил, чтобы ему дали работу по специальности и командировали в театр в качестве штатного режиссера. Правительственный приказ о командировании требовался потому, что, по признанию писателя: «Мое имя сделано настолько одиозным, что предложения работы с моей стороны встретили испуг, несмотря на то, что в Москве громадному количеству актеров и режиссеров, а с ними и директорам театров, отлично известно мое виртуозное знание сцены». Булгаков предлагал себя как «совершенно честного, без всякой тени вредительства, специалиста — режиссера и актера, который берется добросовестно ставить любую пьесу, начиная с шекспировских пьес и вплоть до пьес сегодняшнего дня.
Я прошу о назначении меня лаборантом-режиссером в 1-й Художественный театр — в лучшую школу, возглавляемую мастерами К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко», Опальный драматург, если бы его не взяли режиссером, готов был идти хоть рабочим сцены. Он молил с ним «как-нибудь поступить», потому что у него, «драматурга, написавшего 5 пьес, известного в СССР и за границей, налицо, в данный момент, — нищета, улица и гибель».
Булгаковское письмо явно было продиктовано отчаянием. С поразительной для того времени откровенностью он заявлял верхам, что в коммунизм не верит и восхвалять его не собирается, что к революции как таковой относится крайне скептически и отдает предпочтение более медленной эволюции. Фраза о том, что драматург готов работать режиссером и актером «без всякой тени
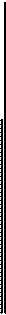 | |||||
 | |||||
 | |||||
| 297 |
296 БоРис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
вредительства», содержит очевидную иронию: не театр же он в самом деле собирается взрывать (и это в атмосфере всеобщих поисков вредителей после процесса Промпартии). Булгаков декларирует свою борьбу с цензурой, прекрасно понимая, что адресаты письма на ее смягчение не пойдут. Памятуя о предыдущих отказах в выезде за границу, писатель предлагает теперь правительству альтернативный вариант: направить его режиссером в Художественный театр (если власти боятся выпускать его на Запад из опасений неблагоприятного воздействия его будущих произведений на общественное мнение). Уж во МХАТе чего-либо идеологически вредного сотворить Булгакову при всем желании не удастся.
- По утверждению Е. С. Булгаковой, печатала письмо она, несмотря на противодействие Е. А. Шиловского, и вместе с Булгаковым в течение 31 марта и 1 апреля разнесла его по семи адресам: И. Сталину, В. Молотову, Л. Кагановичу, М. Калинину, Г. Ягоде, А. Бубнову и Ф. Кону. Хотя Елена Сергеевна вспоминала об этом 26 лет спустя, в 1956 году, ей можно верить. Л. Е. Белозерская текста этого письма не знала, и даже после публикации его за границей десятилетия спустя после смерти писателя, не верила в его подлинность. Последующий звонок и дальнейшие события она считала реакцией на предыдущее письмо, отправленное осенью 1929 года. В таком случае мы имеем почти шекспировский сюжет: Елена Сергеевна печатает письмо возлюбленного, где тот просит отпустить его на свободу, за границу, с женой, а не с ней, а это значит, что в случае успеха ходатайства они расстанутся навсегда. Так же в последнем булгаков-ском романе в финале Мастер отпускал на свободу Пилата, а кто-то другой, то ли Воланд, то ли Иешуа, то ли второй через посредство первого, отпускал на свободу самого Мастера.
Через две недели после того, как письмо было отослано, 14 апреля 1930 года покончил с собой Владимир Маяковский. Это событие, возможно, и предопределило реакцию Сталина на булгаковское послание. С Маяковским Булгаков был лично знаком, часто играл с ним на
| ГЛАВА6. |
Михаил Булгаков — режиссер, либреттист, романист. 1930—1940
бильярде, хотя стихи не принимал. 17 апреля состоялись похороны. В них участвовал и Булгаков.
А 18 апреля Булгакову позвонил Сталин. Об этом сохранились рассказы нескольких лиц. Е. С. Булгакова в 1956 году сделала по памяти запись в дневнике со слов Булгакова, который рассказал ей о разговоре со Сталиным:
«18 апреля, часов в 6—7 вечера, он прибежал, взволнованный, в нашу квартиру (с Шиловским) на Бол. Ржевском и рассказал следующее. Он лег после обеда, как всегда, спать, но тут же раздался телефонный звонок и Люба его подозвала, сказав, что из ЦК спрашивают. Михаил Афанасьевич не поверил, решил, что это розыгрыш (тогда это проделывалось), и, взъерошенный, раздраженный, взялся за трубку и услышал:
— Михаил Афанасьевич Булгаков?
— Да, да.
— Сейчас с вами товарищ Сталин будет говорить.
— Что? Сталин? Сталин?
И тут же услышал голос с явно грузинским акцентом:
— Да, с вами Сталин говорит. Здравствуйте, товарищ
Булгаков (или Михаил Афанасьевич — не помню точно).
— Здравствуйте, Иосиф Виссарионович.
Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь... А может быть, правда — вы проситесь за границу? Что, мы вам очень надоели?
(Михаил Афанасьевич сказал, что он настолько не ожидал подобного вопроса (да он и звонка вообще не ожидал) — что растерялся и не сразу ответил):
— Я очень много думал в последнее время — может
ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется,
что не может.
— Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите рабо
тать? В Художественном театре?
— Да, я хотел. Но я говорил об этом, и мне отказали.
— А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что
они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с
вами.
— Да, да! Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с
вами поговорить.
 | |||||||
 | |||||||
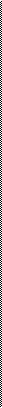 | |||||||
 | |||||||
| 299 |
298 Борте Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
— Да, нужно найти время и встретиться обязательно.
А теперь желаю вам всего хорошего».
В 1967 году в интервью радиостанции «Родина» Елена Сергеевна несколько иначе изложила ход разговора Сталин — Булгаков:
«...Сталин сказал: „Мы получили с товарищами ваше письмо, и вы будете иметь по нему благоприятный результат. — Потом, помолчав секунду, добавил: — Что, может быть, вас правда отпустить за границу, мы вам очень надоели?"
Это был неожиданный вопрос. Но Михаил Афанасьевич быстро ответил: „Я очень много думал над этим, и я понял, что русский писатель вне родины существовать не может". Сталин сказал: „Я тоже так думаю. Ну что же тогда, поступите в театр?" — „Да, я хотел бы". — „В какой же?" — „В Художественный. Но меня не принимают там". Сталин сказал: „Вы подайте еще раз заявление. Я думаю, что вас примут". Через полчаса, наверное, раздался звонок из Художественного театра. Михаила Афанасьевича пригласили на работу».
Единственным человеком, кто, кроме Булгакова и Сталина, непосредственно слышал их разговор, была Л. Е. Белозерская. В конце 60-х она передала его так:
«Однажды, совершенно неожиданно, раздался телефонный звонок. Звонил из Центрального Комитета партии секретарь Сталина Товстуха. К телефону подошла я и позвала Михаила Афанасьевича, а сама занялась домашними делами. Михаил Афанасьевич взял трубку и вскоре так громко и нервно крикнул „Люба-ша!", что я опрометью бросилась к телефону (у нас были отводные от аппарата наушники).
На проводе был Сталин. Он говорил глуховатым голосом, с явным грузинским акцентом и себя называл в третьем лице. „Сталин получил, Сталин прочел..." ...Он предложил Булгакову:
— Может быть, вы хотите уехать за границу?..
Но Михаил Афанасьевич предпочел остаться в Союзе».
Заметим, что версия разговора, изложенная Е. С. Булгаковой в 1967 году, очень близка к той, что содер-
| ГЛАВА 6. |
Михаил Булгаков — режиссер, либреттист, романист. 1930—1940
жится в мемуарах Л. Е. Белозерской. Здесь, в частности, нет ни слова о том, что Сталин говорил о возможности личной встречи с драматургом. Сам Булгаков упомянул об этом памятном разговоре в сохранившемся в его архиве 4epHqBHKe письма к Сталину от 30 мая 1931 года. Там он признавался, что «писательское мое мечтание заключается в том, чтобы быть вызванным лично к вам.
Поверьте, не потому только, что вижу в этом самую выгодную возможность, а потому, что ваш разговор со мной по телефону в апреле 1930 года оставил резкую черту в моей памяти.
Вы сказали: «Может быть, вам действительно нужно ехать за границу...»
Я не избалован разговорами. Тронутый этой фразой, я год работал не за страх режиссером в театрах СССР».
Раз Булгаков, обращаясь к Сталину с просьбой о личной встрече, никак не ссылался на обещание или пожелание такой встречи, высказанное собеседником в разговоре, можно допустить, что речи о будущем свидании в телефонном разговоре Сталин — Булгаков в самом деле не было. Здесь, возможно, права Л. Е. Белозерская, да и Е. С. Булгакова в 1967 году ей не противоречит.
Есть еще один, поистине уникальный источник сведений о разговоре писателя с диктатором и вообще о личности Булгакова. Это — воспоминания видного американского дипломата Чарльза Боолена, позднее, в 50-е годы, ставшего послом США в Москве. В 30-е же годы он был секретарем американского посольства в СССР. Посол У. Буллит несколько раз приглашал Булгакова, чей талант драматурга очень ценил, на приемы в посольство. С Бооленом автор «Дней Турбиных» познакомился в августе 1934 года. Американский дипломат не был обольщен социалистической действительностью. В годы второй мировой войны, будучи одним из советников президента Рузвельта по внешнеполитическим вопросам, он убеждал американцев, что «выдающаяся доблесть русской армии и неоспоримый героизм русского народа» не должны заставлять забыть об «опасности, исходящей от большевиков». В своих воспоминаниях, вышедших в 1973 году, Боолен несколько страниц посвятил своей дружбе с
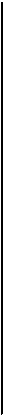
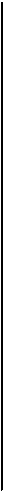

 300 БоРис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
300 БоРис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
Булгаковым. Все советские знакомые писателя, не исключая и самых близких людей, писали свои воспоминания о нем в условиях жесткой внешней и внутренней цензуры и очень многого вспоминать просто не могли или не хотели. Свидетельство же Боолена о Булгакове этих недостатков лишено. Вероятно, это был один из самых близких к автору «Мастера и Маргариты» иностранцев, и единственный из них, кто оставил о Булгакове воспоминания. Этот фрагмент мемуаров стоит привести полностью.
«Одним из русских, с которым я познакомился и в определенной степени подружился, был Михаил Булгаков, в то время — выдающийся драматург России. У него было круглое украинское лицо, красноватый вздернутый нос и общительный характер. Привлекали ясные, полные мысли глаза. Он без колебания высказывался по поводу советской системы. Его карьера в советском театре была необычайно успешной, но противоречивой, а пьесы сохраняли стойкую популярность, хотя он непрерывно конфликтовал с советской цензурой. Он однажды сказал мне, что никогда не выведет коммуниста ни в одной из своих пьес, потому что они для него всего лишь некие плоские фигуры.
Coup de grace* был нанесен Булгакову после того, как он написал рассказ «Роковые яйца». Речь в нем идет о профессоре, который нечаянно открыл средство роста и по ошибке использовал его для рептилий. Рептилии выросли и превратились в монстров метров сто длиной. Они быстро размножились и начали опустошать сельскую местность. Была призвана Красная Армия, но потерпела полное поражение. Как раз тогда, когда несчастье казалось неизбежным, сверхъестественным образом ударил сильный мороз и убил всех монстров. Небольшой литературный журнал «Недра» напечатал рассказ целиком, прежде чем редакторы осознали, что это — пародия на большевизм, который превращает людей в монстров, разрушающих Россию и могущих быть остановленными только вмешательством Господа.
 * Решающий удар (фр.).
* Решающий удар (фр.).
| ГЛАВА 6. |
Михаил Булгаков—режиссер, ?Л 7
либреттист, романист. 1930—1940 %J L/J.
Когда настоящее значение рассказа поняли, против Булгакова была развязана обличительная кампания. В прессе появились карикатуры с такими, например, подписями: «Сокрушим булгаковщину на культурном фронте». Булгаков украсил этими карикатурами стены своей квартиры. В конечном счете пьесы были запрещены, писатель не мог устроиться ни на какую работу. Тогда он обратился за выездной визой. Он рассказывал мне, как однажды, когда он сидел дома, страдая депрессией, раздался телефонный звонок и голос в трубке сказал: „Товарищ Сталин хочет говорить с вами". Булгаков подумал, что это была шутка кого-то из знакомых, и, ответив соответственным образом, повесил трубку. Через несколько минут телефон зазвонил снова, и тот же голос сказал: „Я говорю совершенно серьезно. Это в самом деле товарищ Сталин". Так и оказалось. Сталин спросил Булгакова, почему он хочет покинуть родину, и Булгаков объяснил, что поскольку он — профессиональный драматург, но не может работать в таком качестве в СССР, то хотел бы заниматься этим за границей. Сталин сказал ему: „Не действуйте поспешно. Мы кое-что уладим". Через несколько дней Булгаков был назначен режиссером-ассистентом в Первый Московский Художественный театр, а одна из его пьес, „Дни Турбиных", отличная революционная пьеса, была вновь поставлена на сцене того же театра. Булгаков, однако, никогда не мог согласиться с принципом „от добра добра не ищут", и вскоре в его отношениях с театром вновь возникли трудности. Он умер, будучи либреттистом и консультантом в Большом театре в Москве. В более свободном обществе Булгаков, несомненно, был бы признан великим драматургом».
При анализе воспоминаний Боолена надо помнить, что американский дипломат русским владел практически свободно (согласно записи Елены Сергеевны, «совсем хорошо») и даже совместно с советским литератором Э. Л. Жуховицким в мае 1935 года перевел на английский «Зойкину квартиру». Кроме того, очевидно, что по профессиональной привычке он содержание своих бесед с Булгаковым тогда же и записывал, иначе невозможно
302
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 6.
Михаил Булгаков — режиссер, либреттист, романист. 1930—1940
303

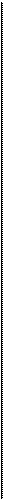
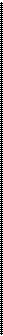 объяснить такую точность в деталях: вспомним название статьи «Ударим по булгаковщине!» или характеристику «Роковых яиц» как пародии на большевизм, превращающий людей в монстров (возможно, это мнение самого Булгакова). Вероятно, Боолен достоверно излагает и обстоятельства разговора драматурга со Сталиным. Например, друг и соавтор Н. Р. Эрдмана по сценариям М. Д. Воль-пин, которому Булгаков тоже рассказал о знаменитом разговоре, свидетельствовал, что «сначала он бросил трубку, энергично выразившись по адресу звонившего, и тут же звонок раздался снова и ему сказали: «Не вешайте трубку» и повторили: «С вами будет говорить Сталин». И тут же раздался голос абонента и почти сразу последовал вопрос: «Что — мы вам очень надоели?», — что практически дословно совпадает с рассказом Боолена. Поэтому мы можем с большим доверием отнестись и к другим деталям, сообщаемым американским дипломатом.
объяснить такую точность в деталях: вспомним название статьи «Ударим по булгаковщине!» или характеристику «Роковых яиц» как пародии на большевизм, превращающий людей в монстров (возможно, это мнение самого Булгакова). Вероятно, Боолен достоверно излагает и обстоятельства разговора драматурга со Сталиным. Например, друг и соавтор Н. Р. Эрдмана по сценариям М. Д. Воль-пин, которому Булгаков тоже рассказал о знаменитом разговоре, свидетельствовал, что «сначала он бросил трубку, энергично выразившись по адресу звонившего, и тут же звонок раздался снова и ему сказали: «Не вешайте трубку» и повторили: «С вами будет говорить Сталин». И тут же раздался голос абонента и почти сразу последовал вопрос: «Что — мы вам очень надоели?», — что практически дословно совпадает с рассказом Боолена. Поэтому мы можем с большим доверием отнестись и к другим деталям, сообщаемым американским дипломатом.
В целом наиболее вероятный ход исторического разговора можно реконструировать примерно так. После взаимного обмена приветствиями последовал сталинский вопрос: «Что — мы вам очень надоели?» и предложение: «Может быть, вам действительно нужно ехать за границу...» Очевидно, после этих фраз были булгаковские объяснения, что как драматург и писатель он не может работать в СССР и потому хотел бы заниматься любимым делом на Западе. В результате Сталин в конце концов пообещал ему: «Не действуйте поспешно, мы все уладим». Возможно, знаменитой фразы о том, что «русский писатель вне родины существовать не может» тогда даже не было сказано, равно как и не было конкретного разговора о поступлении Булгакова в Художественный театр, ведь к тому времени, еще с начала апреля, он уже работал консультантом-режиссером в Театре рабочей молодежи (ТРАМ) и лишь через три недели после разговора, 10 мая, драматург был принят во МХАТ. Не исключено, что приведенные выше слова о родине и русском писателе возникли в памяти Елены Сергеевны десятилетия спустя не из рассказа писателя о разговоре со Сталиным, а под влиянием последующих булгаковских писем Генеральному секретарю.
Почему же Сталин разрешил определить Булгакова ассистентом режиссера во МХАТ? Несомненно, самоубийство Маяковского и опасение, что Булгаков последует его примеру, сыграли здесь важную роль, вынудив пойти несколько дальше, чем предполагалось первоначально, в удовлетворении просьбы драматурга. Самоубийство в течение короткого времени двух видных советских литераторов могло произвести неблагоприятный эффект в общественном мнении. Если внутри страны это власти особенно не беспокоило, то реакция за рубежом не была для них столь безразлична, поскольку подрывала усиленно насаждавшийся советской пропагандой за границей образ социалистического рая, где все свободны и счастливы. Не последним по значению стало и то обстоятельство, что Сталину нравились «Дни Турбиных», почему в 20-е и в 30-е годы он многократно бывал на спектакле. Уже после смерти Булгакова Елена Сергеевна записала рассказ А. Н. Тихонова (Сереброва) о его визите совместно с Горьким к Сталину с хлопотами о разрешении пьесы Эрдмана «Самоубийца» (скорее всего, этот визит относится к осени 1931 года, когда шла борьба за судьбу пьесы и когда 9 ноября Сталин в ответе Станиславскому на письмо от 29 октября, правда, с оговорками, разрешил ему «сделать опыт» постановки «Самоубийцы»). Сталин тогда сказал Горькому:
« — Да что! Я ничего против не имею. Вот — Станиславский тут пишет, что пьеса нравится театру. Пожалуйста, пусть ставят, если хотят. Мне лично пьеса не нравится. Эрдман мелко берет, поверхностно берет. Вот Булгаков!.. Тот здорово берет! Против шерсти берет! (Он рукой показал — и интонационно.) Это мне нравится!»
В результате «Самоубийца» так и не увидел сцены при жизни автора, а «Дни Турбиных» были возобновлены 18 февраля 1932 года (решение о восстановлении спектакля правительство приняло в середине января). Булгаков, узнав об этом, сообщал П. С. Попову в письме, сочинявшемся почти месяц, с 25 января по 24 февраля: «...Правительство СССР отдало по МХАТу замечательное распоряжение пьесу «Дни Турбиных» возобновить.
 | |||||||
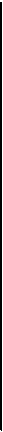 | |||||||
 | |||||||
 | |||||||
| 305 |
304 Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
Для автора этой пьесы это значит, что ему — автору — возвращена часть его жизни. Вот и все».
Ю. Л. Слезкин в дневнике передал слухи, сопутствовавшие возобновлению пьесы: в Художественном театре на просмотре пьесы А. Н. Афиногенова «Страх» присутствовал хозяин (Сталин — Б. С). «Страх» ему будто бы не понравился, и в разговоре с представителями театра он заметил: «Вот у вас хорошая пьеса „Дни Турбиных" — почему она не идет?» Ему смущенно ответили, что она запрещена. «Вздор, — возразил он, — хорошая пьеса, ее нужно ставить, ставьте». И в десятидневный срок было дано распоряжение восстановить постановку...» Похожую версию обнародовал артист МХАТа Л. М. Леонидов в газете «Советское искусство» 21 декабря 1939 года: «На одном из спектаклей, на котором присутствовал товарищ Сталин, руководители театра спросили его — действительно ли нельзя играть сейчас „Турбиных"?
— А почему же нельзя играть? — сказал товарищ Сталин. — Я не вижу ничего такого в том, что у вас идут „Дни Турбиных"».
Как следует из письма В. Билль-Белоцерковскому, Сталина привлекла фигура Алексея Турбина. В. Я. Лакшин в свое время показал, что знаменитое обращение Сталина в речи 3 июля 1941 года — первом выступлении в Великую Отечественную войну: «К вам обращаюсь я, друзья мои!» — скорее всего восходит к обращению Турбина к юнкерам в гимназии. Генсеку импонировал полковник Турбин в блистательном исполнении Николая Хмелева — враг настоящий, бескомпромиссный, написанный без карикатурности и «без поддавков», но признающий перед гибелью неизбежность и закономерность победы большевиков. Это, должно быть, льстило самолюбию коммунистического вождя, придавало уверенности в собственных силах, и не случайно Сталин вспомнил турбинские (булгаковские) слова в критические первые недели войны.
Такие соображения, очевидно, и стали главными при возобновлении «Дней Турбиных». Проблема же принятия большевиков интеллигенцией теперь была снята: всем — не то что нелояльным, а просто недостаточно
| ГЛАВА6. |
Михаил Булгаков—режиссер,либреттист, романист.1930—1940
Любовь Сталина к «Дням Турбиных», очевидно, во многом спасла драматурга от репрессий, столь обильно обрушившихся на страну в 30-е годы. После… А что же Булгаков? Как объяснить его поведение в ходе достопамятного… 306Михаил Булгаков — режиссер, либреттист, романист. 1930—1940
Потом наступили гораздо более трудные времена, когда мне было очень трудно уйти из дома именно из-за того, что муж был очень хорошим человеком,… 312 Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВАМихаил Булгаков — режиссер, либреттист, романист. 1930—1940
Главной же для Булгакова в первой половине 30-х годов, без сомнения, стала пьеса о Мольере. 3 октября 1931 года Главрепертком разрешил ее к… Во МХАТе судьба пьесы тоже сложилась не очень благополучно. Репетиции… 326 Б°РИС С™""1™»- ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВАМихаилБулгаков—режиссер, D О 1
дается, тКак>, напр<имер>, вариант окончания пов<ести> «Рок<овые> яйца» и повесть «Собачье сердце». Обидно для Вас, для актеров и для нас, грешных, а хриплой Осанне тоже обидно:… И той же тропою С мечом на плече Идет он за мною В туманном плаще.ГЛАВА6.
Михаил Булгаков — режиссер,либреттист, романист. 1930—1940
339
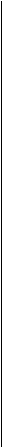

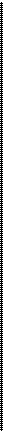
 лись просто «Мертвые души»). Режиссером будущего фильма намечался И. А. Пырьев. 10 июля 1934 года Булгаков в письме П. С. Попову рассказал о последующих событиях: «Люся утверждает, что сценарий вышел замечательный. Я им (И. А. Пырьеву и заместителю директора 1-й кинофабрики И. А. Вайсфельду. — Б. С.) показал его в черновом виде и хорошо сделал, что не перебелил. Все, что больше всего мне нравилось, то есть сцена суворовских солдат посреди ноздревской сцены, отдельная большая баллада о капитане Копейкине, панихида в имении Собакевича и, самое главное, Рим с силуэтом на балконе, все это подверглось полному разгрому! Удастся сохранить только Копейкина, и то сузив его. Но -— Боже! — до чего мне жаль Рима!
лись просто «Мертвые души»). Режиссером будущего фильма намечался И. А. Пырьев. 10 июля 1934 года Булгаков в письме П. С. Попову рассказал о последующих событиях: «Люся утверждает, что сценарий вышел замечательный. Я им (И. А. Пырьеву и заместителю директора 1-й кинофабрики И. А. Вайсфельду. — Б. С.) показал его в черновом виде и хорошо сделал, что не перебелил. Все, что больше всего мне нравилось, то есть сцена суворовских солдат посреди ноздревской сцены, отдельная большая баллада о капитане Копейкине, панихида в имении Собакевича и, самое главное, Рим с силуэтом на балконе, все это подверглось полному разгрому! Удастся сохранить только Копейкина, и то сузив его. Но -— Боже! — до чего мне жаль Рима!
Я выслушал все, что мне сказал Вайсфельд и его режиссер, и тотчас сказал, что переделаю, как они желают, так что они даже изумились».
Уступчивость драматурга была, очевидно, вызвана, в частности, тем обстоятельством, что он еще не вполне оправился от шока, вызванного отказом в выдаче загранпаспорта. Кроме того, Булгаков прекрасно понимал свою зависимость от кинематографистов, которым предстояло решать, принимать сценарий или нет. На самом деле первый вариант сценария и был самым замечательным не только в литературном, но и в кинематографическом отношении. Как раз эпизоды, забракованные Пырьевым и Вайсфельдом, лучше всего передавали эпический строй «Мертвых душ». Римский эпилог, в котором возникал силуэт Гоголя на балконе, заставил бы воспринимать все происходящее на экране как живую мысль самого творца поэмы, наблюдающего Русь из «прекрасного далека». Баллады о капитане Копейкине и Чичикове-Наполеоне иллюстрировали страх «мертвых душ» перед народной стихией. Здесь в своем страшном величии возносятся Копейкин и Наполеон, дан генезис культа вождя — проблема эта позже будет занимать Булгакова в пьесе «Батум». Драматургу удалось органически совместить в киносценарии эпическое и сатирическое начало, однако при дальнейших переделках эпическое исчезло.
15 августа 1934 года новый вариант сценария «Мерт-
вых душ» был утвержден кинофабрикой. Все то, что ценил Булгаков, из текста постепенно исчезло. В начале 1935 года Пырьев предполагал начать работу над фильмом, но отвлекся на съемки более актуального «Партийного билета» и при жизни Булгакова «Мертвых душ» так и не снял. В 1965 году Пырьев вновь вернулся к замыслу снять «Мертвые души», внес существенные изменения в написанный совместно с Булгаковым последний вариант сценария, еще более ухудшив его, и в конце концов экранизировал не гоголевскую поэму, а «Братьев Карамазовых». Так что булгаковские «Похождения Чичикова» и сегодня ждут своего экранного воплощения.
Не лучше сложилась судьба и второго киносценария, написанного по гоголевскому «Ревизору». Договор на этот сценарий был заключен в августе 1934 года с «Украинфильмом». Первоначально предполагалось, что режиссером будет А. Д. Дикий. И опять под давлением кинематографистов Булгаков с каждой новой редакцией только ухудшал сценарий. Образец такой режиссерской критики дает Е. С. Булгакова в дневниковой записи от 10 декабря 1934 года: «Были: Загорский, Каростин и Катинов (представители «Украинфильма», М. С. Каростин сменил А. Д. Дикого в качестве режиссера фильма «Ревизор». — Б. С). Загорский в разговоре о «Ревизоре» говорил, что хочет, чтобы это была сатира.
Разговоры все эти действуют на Мишу угнетающе: скучно, ненужно и ничего не дает, т. е. нехудожественно. С моей точки зрения, все эти разговоры — бессмыслица совершенная. Приходят к писателю умному, знатоку Гоголя — люди нехудожественные, без вкуса и уверенным тоном излагают свои требования насчет художественного произведения, над которым писатель этот работает, утомляя его безмерно и наводя скуку.
Угостила их, чертей, вкусным ужином — икра, сосиски, печеный картофель, мандарины.
И — главное, Загорский (помощник директора Киевской кинофабрики «Украинфильма». — Б. С.) все это бормотал сквозь дремоту (что и неудивительно после сытного ужина. — Б. С.)». А 29 декабря того же года
340
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 6.
Михаил Булгаков — режиссер,либреттист, романист. 1930—1940
Елена Сергеевна печально заметила: «Я чувствую, насколько вне Миши работа над… Каростин начал снимать «Ревизора», но успел сделать лишь пару эпизодов. В феврале 1936 года эти фрагменты были…Борис Соколок. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 6.
Михаил Булгаков—режиссер, либреттист, романист. 1930—1940
ство и мы будем отстаивать его независимость». Однако в июне 1936 года он… «— Я сейчас чиновник, которому дали ежемесячное жалованье, пока еще не гонят с места (Большой театр), и надо этим…Либреттист, романист. 1930—1940
особам, о цензуре и пр.). За некоторыми из этих замечаний довольно прозрачно… Зато вполне недвусмысленны его высказывания, касающиеся короля Людовика XIV, свидетельствующие о том, что рассказчик…МихаилБулгаков — режиссер, либреттист, романист. 1930—1940
Осенью 1937 года работа над романом прервалась. Читатели так и не узнали, состоялась ли и как прошла премьера максудовского «Черного снега», в… Вероятно, на рубеже 20-х и 30-х годов произошла новая перемена в отношении… 360 ЪоРис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВАМихаил Булгаков—режиссер,либреттист, романист.1930—1940
...Сам император сидит, Сидит он века за веками На каменном троне, о каменный столБорис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 6.
Михаил Булгаков—режиссер, либреттист, романист. 1930—1940
щем роль легендарного Барбароссы. Он и его восставший из пепла роман вернутся… Пушкинский отрывок «Осень» (1833), как кажется, отразился в описании той награды, что ждет Мастера в последнем приюте.…ГЛАВА 6.
Михаил Булгаков — режиссер, либреттист, романист.1930—1940
роман «Мастер и Маргарита», уничтоженный в 1930-м, но заново начатый в… Уже будучи смертельно больным, 8 ноября 1939 года, Булгаков излагал историю пьесы «Батум» сестре Наде:– Конец работы –
Используемые теги: Горъкова, Соколов0.03
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Т. А. Горъкова Б. В. Соколов
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
| Твитнуть |
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?







Новости и инфо для студентов