рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры
- Раздел Искусство
- /
- Три страницы из музыкальной жизни сталинского времени: Сумбур вместо музыки, Балетная фальшь, Великая дружба
Реферат Курсовая Конспект
Три страницы из музыкальной жизни сталинского времени: Сумбур вместо музыки, Балетная фальшь, Великая дружба
Три страницы из музыкальной жизни сталинского времени: Сумбур вместо музыки, Балетная фальшь, Великая дружба - раздел Искусство, Три Страницы Из Музыкальной Жизни Сталинского Времени: «Сумбур...
| Три страницы из музыкальной жизни сталинского времени: «Сумбур вместо музыки», «Балетная фальшь», «Великая дружба» Предлагаем вашему вниманию три знаменитые публикации газеты «Правда» 1930-40-х годов, являющиеся яркими документами эпохи сталинизма и отражающие два важнейших этапа «травли» композиторов-«формалистов» во главе с Д. Шостаковичем. Страница первая Сумбур вместо музыки - редакционная статья в газете «Правда» от 28 января 1936 года об опере Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Статья была опубликована без подписи, однако по стилистике и терминологии (включая ключевое слово «сумбур») в значительной мере перекликалась с опубликованной днём раньше статьёй «Заметки о конспекте учебника “Новая история”», подписанной именами И. В. Сталина, А. А. Жданова и С. М. Кирова. По воспоминаниям С. Волкова, сам Шостакович был уверен в личной причастности Сталина к авторству статьи. Высказывалось также предположение об авторстве П. М. Керженцева, однако настолько резкая, безапелляционная статья с настолько далеко идущими последствиями не могла не быть санкционирована на самом высоком уровне руководства. СУМБУР ВМЕСТО МУЗЫКИ Об опере «Леди Макбет Мценского уезда» Вместе с общим культурным ростом в нашей стране выросла и потребность в хорошей музыке. Никогда и нигде композиторы не имели перед собой такой благодарной аудитории. Народные массы ждут хороших песен, но также и хороших инструментальных произведений, хороших опер. Некоторые театры как новинку, как достижение преподносят новой, выросшей культурно советской публике оперу Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Услужливая музыкальная критика превозносит до небес оперу, создает ей громкую славу. Молодой композитор вместо деловой и серьезной критики, которая могла бы помочь ему в дальнейшей работе, выслушивает только восторженные комплименты. Слушателя с первой же минуты ошарашивает в опере нарочито нестройный, сумбурный поток звуков. Обрывки мелодии, зачатки музыкальной фразы тонут, вырываются, снова исчезают в грохоте, скрежете и визге. Следить за этой «музыкой» трудно, запомнить ее невозможно. Так в течение почти всей оперы. На сцене пение заменено криком. Если композитору случается попасть на дорожку простой и понятной мелодии, то он немедленно, словно испугавшись такой беды, бросается в дебри музыкального сумбура, местами превращающегося в какофонию. Выразительность, которой требует слушатель, заменена бешеным ритмом. Музыкальный шум должен выразить страсть. Это все не от бездарности композитора, не от его неумения в музыке выразить простые и сильные чувства. Это музыка, умышленно сделанная «шиворот-навыворот», — так, чтобы ничего не напоминало классическую оперную музыку, ничего не было общего с симфоническими звучаниями, с простой, общедоступной музыкальной речью. Это музыка, которая построена по тому же принципу отрицания оперы, по какому левацкое искусство вообще отрицает в театре простоту, реализм, понятность образа, естественное звучание слова. Это — перенесение в оперу, в музыку наиболее отрицательных черт «мейерхольдовщины» в умноженном виде. Это левацкий сумбур вместо естественной, человеческой музыки. Способность хорошей музыки захватывать массы приносится в жертву мелкобуржуазным формалистическим потугам, претензиям создать оригинальность приемами дешевых оригинальничаний. Это игра в заумные вещи, которая может кончиться очень плохо. Опасность такого направления в советской музыке ясна. Левацкое уродство в опере растет из того же источника, что и левацкое уродство в живописи, в поэзии, в педагогике, в науке. Мелкобуржуазное «новаторство» ведет к отрыву от подлинного искусства, от подлинной науки, от подлинной литературы. Автору «Леди Макбет Мценского уезда» пришлось заимствовать у джаза его нервозную, судорожную, припадочную музыку, чтобы придать «страсть» своим героям. В то время, как наша критика — в том числе и музыкальная — клянется именем социалистического реализма, сцена преподносит нам в творении Шостаковича грубейший натурализм. Однотонно, в зверином обличии представлены все — и купцы и народ. Хищница-купчиха, дорвавшаяся путем убийств к богатству и власти, представлена в виде какой-то «жертвы» буржуазного общества. Бытовой повести Лескова навязан смысл, какого в ней нет. И все это грубо, примитивно, вульгарно. Музыка крякает, ухает, пыхтит, задыхается, чтобы как можно натуральнее изобразить любовные сцены. И «любовь» размазана во всей опере в самой вульгарной форме. Купеческая двуспальная кровать занимает центральное место в оформлении. На ней разрешаются все «проблемы». В таком же грубо-натуралистическом стиле показана смерть от отравления, сечение почти на самой сцене. Композитор, видимо, не поставил перед собой задачи прислушаться к тому, чего ждет, чего ищет в музыке советская аудитория. Он словно нарочно зашифровал свою музыку, перепутал все звучания в ней так, чтобы дошла его музыка только до потерявших здоровый вкус эстетов-формалистов. Он прошел мимо требований советской культуры изгнать грубость и дикость из всех углов советского быта. Это воспевание купеческой похотливости некоторые критики называют сатирой. Ни о какой сатире здесь и речи не может быть. Всеми средствами и музыкальной и драматической выразительности автор старается привлечь симпатии публики к грубым и вульгарным стремлениям и поступкам купчихи Катерины Измайловой. «Леди Макбет» имеет успех у буржуазной публики за границей. Не потому ли похваливает ее буржуазная публика, что опера эта сумбурна и абсолютно аполитична? Не потому ли, что она щекочет извращенные вкусы буржуазной аудитории своей дергающейся, крикливой, неврастенической музыкой? Наши театры приложили немало труда, чтобы тщательно поставить оперу Шостаковича. Актеры обнаружили значительный талант в преодолении шума, крика и скрежета оркестра. Драматической игрой они старались возместить мелодийное убожество оперы. К сожалению, от этого еще ярче выступили ее грубо-натуралистические черты. Талантливая игра заслуживает признательности, затраченные усилия — сожаления. Правда. 1936. 28 января Страница вторая Через шесть дней в газете «Правда» появляется следующая критическая статья, посвященная балету Д.Шостаковича «Светлый ручей». На сей раз композитора обвиняют в излишней легковесности. «Балетная фальшь» - редакционная статья в газете «Правда» от 6 февраля 1936 года о балете Шостаковича «Светлый ручей». БАЛЕТНАЯ ФАЛЬШЬ «Светлый ручей» — это название колхоза. Либретто услужливо указывает точный адрес этого колхоза: Кубань. Перед нами новый балет, все действие которого авторы и постановщики пытались взять из нынешней колхозной жизни. Изображаются в музыке и танцах завершение уборочных работ и праздник урожая. По замыслу авторов балета, все трудности позади. На сцене все счастливы, веселы, радостны. Балет должен быть пронизан светом, праздничным восторгом, молодостью. Нельзя возражать против попытки балета приобщиться к колхозной жизни. Балет — это один из наиболее у нас консервативных видов искусства. Ему всего труднее переломить традиции условности, привитые вкусами дореволюционной публики. Самая старая из этих традиций — кукольное, фальшивое отношение к жизни. В балете, построенном на этих традициях, действуют не люди, а куклы. Их страсти — кукольные страсти. Основная трудность в советском балете заключается в том, что тут куклы невозможны. Они выглядели бы нестерпимо, резали бы глаза фальшью. Это налагало на авторов балета, на постановщиков, на театр серьезные обстоятельства. Если они хотели представить колхоз на сцене, надо изучить колхоз, его людей, его быт. Если они задались целью представить именно кубанский колхоз, надо было познакомиться с тем, что именно характерного в колхозах Кубани. Серьезная тема требует серьезного отношения, большого и добросовестного труда. Перед авторами балета, перед композитором открылись бы богатейшие источники творчества в народных песнях, в народных плясках, играх. Жизнь колхоза, его новый, еще только складывающийся быт, его праздники — это ведь очень значительная, важная, большая тема. Нельзя подходить к этому с налета, с кондачка — все равно, в драме ли, в опере, в балете. Тот, кому действительно дороги и близки новые отношения, новые люди в колхозе, не позволит себе превратить это в игру с куклами. Никто не подгоняет наше балетное и музыкальное искусство. Если вы не знаете колхоза, если не знаете, в частности, колхоза на Кубани, не спешите, поработайте, но не превращайте ваше искусство в издевательство над зрителями и слушателями, не опошляйте жизни, полной радости творческого труда. По либретто Лопухова и Пиотровского на сцене изображен колхоз на Кубани. Но в действительности здесь нет ни Кубани, ни колхоза. Есть соскочившие с дореволюционной кондитерской коробки сусальные «пейзане», которые изображают «радость» в танцах, ничего общего не имеющих с народными плясками ни на Кубани, ни где бы то ни было. На этой же сцене Большого театра, где ломаются куклы, раскрашенные «под колхозника», подлинные колхозники с Северного Кавказа еще недавно показывали изумительное искусство народного танца. В нем была характерная именно для народов Северного Кавказа индивидуальность. Нет нужды непосредственно воспроизводить эти пляски и игры в искусстве балета, но только взяв их в основу и можно построить народный, колхозный балет. Либреттисты, впрочем, всего меньше думали о правдоподобии. В первом акте фигурируют кукольные «колхозники». В прочих актах исчезают всякие следы и такого, с позволения сказать, колхоза. Нет никакого осмысленного содержания. Балетные танцовщицы исполняют ничем между собой не связанные номера. Какие-то люди в одежде, не имеющей ничего общего с одеждой кубанских казаков, прыгают по сцене, неистовствуют. Балетная бессмыслица в самом скверном смысле этого слова господствует на сцене. Под видом колхозного балета преподносится противоестественная смесь ложно-народных плясок с номерами танцовщиц в «пачках». Пейзан не раз показывал балет в разные времена. Выходили принаряженные кукольные «крестьяне» и «крестьянки», пастухи и пастушки и исполняли танцы, которые назывались «народными». Это не был обман в прямом смысле. Это было кукольное искусство своего времени. Иногда эти балетные крестьяне старались сохранить этнографическую верность в своих костюмах. Некрасов писал иронически в 1866 году: «Но явилась в рубахе крестьянской Петипа — и театр застонал!.. Все — до ластовиц белых в рубахе - Было верно: на шляпе цветы, Удаль русская в каждом размахе…» Именно в этом и была невыносимая фальшь балета, и Некрасов обращался с просьбой к балерине: «…Гурия рая! Ты мила, ты воздушно легка, Так танцуй же ты „Деву Дуная“, И в покое оставь мужика!» Наши художники, мастера танца, мастера музыки безусловно могут в реалистических художественных образах показать современную жизнь советского народа, используя его творчество, песни, пляски, игры. Но для этого надо упорно работать, добросовестно изучать новый быт людей нашей страны, избегая в своих произведениях, постановках и грубого натурализма и эстетствующего формализма. Музыка Д. Шостаковича подстать всему балету. В «Светлом ручье», правда, меньше фокусничанья, меньше странных и диких созвучий, чем в опере «Леди Макбет Мценского уезда». В балете музыка проще, но и она решительно ничего общего не имеет ни с колхозами, ни с Кубанью. Композитор так же наплевательски отнесся к народным песням Кубани, как авторы либретто и постановщики к народным танцам. Музыка поэтому бесхарактерна. Она бренчит и ничего не выражает. Из либретто мы узнаем, что она частично перенесена в колхозный балет из неудавшегося композитору «индустриального» балета «Болт». Ясно, что получается, когда одна и та же музыка должна выразить разные явления. В действительности она выражает только равнодушное отношение композитора к теме. Авторы балета — и постановщики и композитор — по-видимому, рассчитывают, что публика наша так нетребовательна, что она примет все, что ей состряпают проворные и бесцеремонные люди. В действительности нетребовательна лишь наша музыкальная и художественная критика. Она нередко захваливает произведения, которые этого не заслуживают. Правда. 1936. 6 февраля. Страница третья Постановление политбюро ЦК ВКП(б) "об опере "Великая Дружба" В. Мурадели" 10.02.1948 ОБ ОПЕРЕ «ВЕЛИКАЯ ДРУЖБА» В. МУРАДЕЛИ ЦК ВКП(б) считает, что опера «Великая дружба» (музыка В. Мурадели, либретто Г. Мдивани), поставленная Большим театром Союза ССР в дни 30-й годовщины Октябрьской революции, является порочным как в музыкальном, так и в сюжетном отношении, антихудожественным произведением. Основные недостатки оперы коренятся прежде всего в музыке оперы. Музыка оперы невыразительна, бедна. В ней нет ни одной запоминающейся мелодии или арии. Она сумбурна и дисгармонична, построена на сплошных диссонансах, на режущих слух звукосочетаниях. Отдельные строки и сцены, претендующие на мелодичность, внезапно прерываются нестройным шумом, совершенно чуждым для нормального человеческого слуха и действующим на слушателей угнетающе. Между музыкальным сопровождением и развитием действия на сцене нет органической связи. Вокальная часть оперы — хоровое, сольное и ансамблевое пение — производит убогое впечатление. В силу всего этого возможности оркестра и певцов остаются неиспользованными. Композитор не воспользовался богатством народных мелодий, песен, напевов, танцевальных и плясовых напевов, которыми так богато творчество народов СССР, и в частности творчество народов, населяющих Северный Кавказ, где развертываются действия, изображаемые в опере. В погоне за ложной «оригинальностью» музыки композитор Мурадели пренебрег лучшими традициями и опытом классической оперы вообще, русской классической оперы в особенности, отличающейся внутренней содержательностью, богатством мелодий и широтой диапазона, народностью, изящной, красивой, ясной музыкальной формой, сделавшей русскую оперу лучшей оперой в мире, любимым и доступным широким слоям народа жанром музыки. Исторически фальшивой и искусственной является фабула оперы, претендующая на изображение борьбы за установление советской власти и дружбы народов на Северном Кавказе в 1918—1920 г.г. Из оперы создается неверное представление, будто такие кавказские народы, как грузины и осетины, находились в ту эпоху во вражде с русским народом, что является исторически фальшивым, так как помехой для установления дружбы народов в тот период на Северном Кавказе являлись ингуши и чеченцы. ЦК ВКП(б) считает, что провал оперы Мурадели есть результат ложного и губительного для творчества советского композитора формалистического пути, на который встал т. Мурадели. Как показало совещание деятелей советской музыки, проведенное в ЦК ВКП(б), провал оперы Мурадели не является частным случаем, а тесно связан с неблагополучным состоянием современной советской музыки, с распространением среди советских композиторов формалистического направления. Еще в 1936 году, в связи с появлением оперы Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», в органе ЦК ВКП(б) «Правда» были подвергнуты острой критике антинародные, формалистические извращения в творчестве Д. Шостаковича и разоблачен вред и опасность этого направления для судеб развития советской музыки. «Правда», выступившая тогда по указанию ЦК ВКП(б), ясно сформулировала требования, которые предъявляет к своим композиторам советский народ2. Несмотря на эти предупреждения, а также вопреки тем указаниям, какие были даны Центральным Комитетом ВКП(б) в его решениях о журналах «Звезда» и «Ленинград»3, о кинофильме «Большая жизнь»4, о репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению5, в советской музыке не было произведено никакой перестройки. Отдельные успехи некоторых советских композиторов в области создания новых песен, нашедших признание и широкое распространение в народе, в области создания музыки для кино и т.д., не меняют общей картины положения. Особенно плохо обстоит дело в области симфонического и оперного творчества. Речь идет о композиторах, придерживающихся формалистического, антинародного направления. Это направление нашло свое наиболее полное выражение в произведениях таких композиторов, как т.т. Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Хачатурян, В. Шебалин, Г. Попов, Н. Мясковский и др., в творчестве которых особенно наглядно представлены формалистические извращения, антидемократические тенденции в музыке, чуждые советскому народу и его художественным вкусам. Характерными признаками такой музыки является отрицание основных принципов классической музыки, проповедь атональности, диссонанса и дисгармонии, являющихся якобы выражением «прогресса» и «новаторства» в развитии музыкальной формы, отказ от важнейших основ музыкального произведения, какой является мелодия, увлечение сумбурными, невропатическими сочетаниями, превращающими музыку в какофонию, в хаотическое нагромождение звуков. Эта музыка сильно отдает духом современной модернистской буржуазной музыки Европы и Америки, отображающей маразм буржуазной культуры, полное отрицание музыкального искусства, его тупик. Существенным признаком формалистического направления является также отказ от полифонической музыки и пения, основывающихся на одновременном сочетании и развитии ряда самостоятельных мелодических линий, и увлечение однотонной, унисонной музыкой и пением, зачастую без слов, что представляет нарушение многоголосого музыкально-песенного строя, свойственного нашему народу, и ведет к обеднению и упадку музыки. Попирая лучшие традиции русской и западной классической музыки, отвергая эти традиции как якобы «устаревшие», «старомодные», «консервативные», высокомерно третируя композиторов, которые пытаются добросовестно осваивать и развивать приемы классической музыки, как сторонников «примитивного традиционализма» и «эпигонства», многие советские композиторы, в погоне за ложно понятым новаторством, оторвались в своей музыке от запросов и художественного вкуса советского народа, замкнулись в узком кругу специалистов и музыкальных гурманов, снизили высокую общественную роль музыки и сузили ее значение, ограничив его удовлетворением извращенных вкусов эстетствующих индивидуалистов. Формалистическое направление в советской музыке породило среди части советских композиторов одностороннее увлечение сложными формами инструментальной симфонической бестекстовой музыки и пренебрежительное отношение к таким музыкальным жанрам, как опера, хоровая музыка, популярная музыка для небольших оркестров, для народных инструментов, вокальных ансамблей и т.д. Все это с неизбежностью ведет к тому, что утрачиваются основы вокальной культуры и драматургического мастерства и композиторы разучиваются писать для народа, свидетельством чего является тот факт, что за последнее время не создано ни одной советской оперы, стоящей на уровне русской оперной классики. Отрыв некоторых деятелей советской музыки от народа дошел до того, что в их среде получила распространение гнилая «теория», в силу которой непонимание музыки многих современных советских композиторов народом объясняется тем, что народ якобы «не дорос» еще до понимания их сложной музыки, что он поймет ее через столетия и что не стоит смущаться, если некоторые музыкальные произведения не находят слушателей. Эта насквозь индивидуалистическая, в корне противонародная теория в еще большей степени способствовала некоторым композиторам и музыковедам отгородиться от народа, от критики советской общественности и замкнуться в свою скорлупу. Культивирование всех этих и им подобных взглядов наносит величайший вред советскому музыкальному искусству. Терпимое отношение к этим взглядам означает распространение среди деятелей советской музыкальной культуры чуждых ей тенденций, ведущих к тупику в развитии музыки, к ликвидации музыкального искусства. Порочное, антинародное, формалистическое направление в советской музыке оказывает также пагубное влияние на подготовку и воспитание молодых композиторов в наших консерваториях, и, в первую очередь, в Московской консерватории (директор т. Шебалин), где формалистическое направление является господствующим. Студентам не прививают уважение к лучшим традициям русской и западной классической музыки, не воспитывают в них любовь к народному творчеству, к демократическим музыкальным формам. Творчество многих воспитанников консерватории является слепым подражанием музыке Д. Шостаковича, С. Прокофьева и др. ЦК ВКП(б) констатирует совершенно нетерпимое состояние советской музыкальной критики. Руководящее положение среди критиков занимают противники русской реалистической музыки, сторонники упадочной, формалистической музыки. Каждое очередное произведение Прокофьева, Шостаковича, Мясковского, Шебалина эти критики объявляют «новым завоеванием советской музыки» и славословят в этой музыке субъективизм, конструктивизм, крайний индивидуализм, профессиональное усложнение языка, т.е. именно то, что должно быть подвергнуто критике. Вместо того, чтобы разбить вредные, чуждые принципам социалистического реализма взгляды и теории, музыкальная критика сама способствует их распространению, восхваляя и объявляя «передовыми» тех композиторов, которые разделяют в своем творчестве ложные творческие установки. Музыкальная критика перестала выражать мнение советской общественности, мнение народа и превратилась в рупор отдельных композиторов. Некоторые музыкальные критики, вместо принципиальной объективной критики, из-за приятельских отношений стали угождать и раболепствовать перед теми или иными музыкальными лидерами, всячески превознося их творчество. Все это означает, что среди части советских композиторов еще не изжиты пережитки буржуазной идеологии, питаемые влиянием современной упадочной западноевропейской и американской музыки. ЦК ВКП(б) считает, что это неблагоприятное положение на фронте советской музыки создалось в результате той неправильной линии в области советской музыки, которую проводил Комитет по делам искусств при Совете Министров СССР и Оргкомитет Союза советских композиторов. Комитет по делам искусств при Совете Министров СССР (т. Храпченко) и Оргкомитет Союза советских композиторов (т. Хачатурян) вместо того, чтобы развивать в советской музыке реалистическое направление, основами которого являются признание огромной прогрессивной роли классического наследства, в особенности традиций русской музыкальной школы, использование этого наследства и его дальнейшее развитие, сочетание в музыке высокой содержательности с художественным совершенством музыкальной формы, правдивость и реалистичность музыки, ее глубокая органическая связь с народом и его музыкальным и песенным творчеством, высокое профессиональное мастерство при одновременной простоте и доступности музыкальных произведений, по сути дела поощряли формалистическое направление, чуждое советскому народу. Оргкомитет Союза советских композиторов превратился в орудие группы композиторов-формалистов, стал основным рассадником формалистических извращений. В Оргкомитете создалась затхлая атмосфера, отсутствуют творческие дискуссии. Руководители Оргкомитета и группирующиеся вокруг них музыковеды захваливают антиреалистические, модернистские произведения, не заслуживающие поддержки, а работы, отличающиеся своим реалистическим характером, стремлением продолжать и развивать классическое наследство, объявляются второстепенными, остаются незамеченными и третируются. Композиторы, кичащиеся своим «новаторством», «архиреволюционностью» в области музыки, в своей деятельности в Оргкомитете выступают как поборники самого отсталого и затхлого консерватизма, обнаруживая высокомерную нетерпимость к малейшим проявлениям критики. ЦК ВКП(б) считает, что такая обстановка и такое отношение к задачам советской музыки, какие сложились в Комитете по делам искусств при Совете Министров СССР и в Оргкомитете Союза советских композиторов, далее не могут быть терпимы, ибо они наносят величайший вред развитию советской музыки. За последние годы культурные запросы и уровень художественных вкусов советского народа необычайно выросли. Советский народ ждет от композиторов высококачественных и идейных произведений во всех жанрах — в области оперной, симфонической музыки, в песенном творчестве, в хоровой и танцевальной музыке. В нашей стране композиторам предоставлены неограниченные творческие возможности и созданы все необходимые условия для подлинного расцвета музыкальной культуры. Советские композиторы имеют аудиторию, которой никогда не знал ни один композитор в прошлом. Было бы непростительно не использовать все эти богатейшие возможности и не направить свои творческие усилия по правильному реалистическому пути. ЦК ВКП(б) постановляет: 1. Осудить формалистическое направление в советской музыке как антинародное и ведущее на деле к ликвидации музыки. 2. Предложить Управлению пропаганды и агитации ЦК и Комитету по делам искусств добиться исправления положения в советской музыке, ликвидации указанных в настоящем постановлении ЦК недостатков и обеспечения развития советской музыки в реалистическом направлении. 3. Призвать советских композиторов проникнуться сознанием высоких запросов, которые предъявляет советский народ к музыкальному творчеству, и, отбросив со своего пути все, что ослабляет нашу музыку и мешает ее развитию, обеспечить такой подъем творческой работы, который быстро двинет вперед советскую музыкальную культуру и приведет к созданию во всех областях музыкального творчества полноценных, высококачественных произведений, достойных советского народа. 4. Одобрить организационные мероприятия соответствующих партийных и советских органов, направленные на улучшение музыкального дела6. Протокол № 62, пункт 33 (10). Решение Политбюро ЦК ВКП(б) за 10 февраля 1948 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1069. Л. 42—49 (приложение). Заверенная копия. Машинопись. Правда. 1948. 11 февраля. Использованы материалы: http://ru.wikisource.org/wiki/Сумбур_вместо_музыки http://ru.wikisource.org/wiki/Балетная_фальшь http://www.idf.ru/documents/info.jsp?p=21&doc=69377 Подгот.: Р.А. Разгуляев размещено 9.09.2008 (0.7 печатных листов в этом тексте) |
 Смотри также:
Смотри также:
 И. Барсова. Между «социальным заказом» и «музыкой больших страстей». 1934-1937 годы в жизни Шостаковича
И. Барсова. Между «социальным заказом» и «музыкой больших страстей». 1934-1937 годы в жизни Шостаковича
 В. РУБЦОВ. В.Н. Салманов (фрагмент из книги)
В. РУБЦОВ. В.Н. Салманов (фрагмент из книги)
 Г. ТРЕЛИН Ленинский лозунг «Искусство – народу!» и становление советской музыкальной культуры
Г. ТРЕЛИН Ленинский лозунг «Искусство – народу!» и становление советской музыкальной культуры
 Марк ПЕКАРСКИЙ Назад к Волконскому вперед (Глава четвертая)
Марк ПЕКАРСКИЙ Назад к Волконскому вперед (Глава четвертая)
 Борис АСАФЬЕВ. Новая музыка <Малипьеро, Казелла, Барток, Шенберг, Кшенек, Штраус, Хиндемит, Стравинский, Мийо, Онеггер>
Борис АСАФЬЕВ. Новая музыка <Малипьеро, Казелла, Барток, Шенберг, Кшенек, Штраус, Хиндемит, Стравинский, Мийо, Онеггер>
 О МУЗЫКЕ И О СЕБЕ «В знак дружбы» Беседа с Софией Губайдулиной
О МУЗЫКЕ И О СЕБЕ «В знак дружбы» Беседа с Софией Губайдулиной
 Генрих ОРЛОВ «Военный реквием» Б. Бритена
Генрих ОРЛОВ «Военный реквием» Б. Бритена
 Елена БРОНФИН Музыкальная культура Петрограда первого послереволюционного пятилетия (1917 - 1922). Глава 4: Музыкальное воспитание и образование
Елена БРОНФИН Музыкальная культура Петрограда первого послереволюционного пятилетия (1917 - 1922). Глава 4: Музыкальное воспитание и образование
 Ирина РОДИОНОВА Поздний период творчества Шимановского и судьба романтической эстетики в ХХ веке
Ирина РОДИОНОВА Поздний период творчества Шимановского и судьба романтической эстетики в ХХ веке
 И. КУНИН Рождение советского симфонизма
И. КУНИН Рождение советского симфонизма
 Марк АРАНОВСКИЙ Расколотая целостность
Марк АРАНОВСКИЙ Расколотая целостность
 А. ЛУНАЧАРСКИЙ Основы художественного образования
А. ЛУНАЧАРСКИЙ Основы художественного образования
 Три страницы из музыкальной жизни сталинского времени: «Сумбур вместо музыки», «Балетная фальшь», «Великая дружба»
Три страницы из музыкальной жизни сталинского времени: «Сумбур вместо музыки», «Балетная фальшь», «Великая дружба»
 С. САВЕНКО Послевоенный музыкальный авангард
С. САВЕНКО Послевоенный музыкальный авангард
 Кшиштоф МЕЙЕР. Шостакович. Жизнь. Творчество. Время (фрагменты из книги)
Кшиштоф МЕЙЕР. Шостакович. Жизнь. Творчество. Время (фрагменты из книги)
 Тамара ЛЕВАЯ Шостакович и Прокофьев: эскиз к двойному портрету
Тамара ЛЕВАЯ Шостакович и Прокофьев: эскиз к двойному портрету
Марк АРНОВСКИЙ Инакомыслящий
[2]
О Шостаковиче написано и сказано так много, что добавить нечто новое кажется делом почти безнадежным. Действительно, детально изучены почти все его произведения, определено его отношение к музыкальным жанрам, исследованы самые различные грани его стиля. Предметом внимания стали и разные стороны жизни композитора, в том числе те, которые вряд ли представляют сколько-нибудь серьезный общественный интерес. В результате сложилась большая и многообразная по тематике литература: от глубоких исследований до полубульварных публикаций — факт, разумеется, оскорбляющий и наш вкус, и память о великом художнике, но, по-видимому, такова уж судьба гения — быть объектом внимания не только науки, но и обывательского сознания.
Для познания феномена Шостаковича музыковедением (особенно, отечественным) сделано и в самом деле немало. Но после «шостаковического бума» 60—70-х годов число работ резко упало — возникло впечатление, будто творчество великого композитора изучено досконально. То была, конечно, иллюзия. Причина заключалась в другом: в ограниченности научной парадигмы, которая сформировалась в нашем музыкознании, приняв весьма устойчивый характер. А, как известно, любая научная парадигма действует подобно ситу, отбирая объекты исследования в соответствии с присущими ей методами и оставляя без внимания все остальное. Так получилось и в данном случае. Исследовалось лишь то, что соответствовало традиционному представлению о строении музыки и специальностям музыкознания, благо музыка Шостаковича этому вполне отвечала. Тем важнее было установить, что нового внес Шостакович в музыкальный язык XX века, в чем именно заключалось его новаторство. В целом эта задача музыкознанием была выполнена, сделанные тогда открытия и констатации не утратили своего значения. Вопрос в другом. Сегодня мы смотрим на творчество Шостаковича иначе, чем тогда. На наших глазах творчество великого художника, которое еще так недавно переживалось как актуальное настоящее, совершило переход в историю. Изменился его статус, а к тому же исчез тот социальный контекст, который расшифровывал символы его музыки для современников. И самое важное: музыкальное сознание последних десятилетий во многом формируется иной художественной практикой, выдвинувшей новые идеи в области звуковой организации музыки и композиционных принципов.
В принципе ничего драматичного в этом нет. Когда-то наступает момент, который переводит стрелку на часах истории, вводя новую систему ценностей, и тогда даже гению не удается уберечься от суда безжалостного времени. Но признавая закономерность такого «сдвига в историю», нельзя не заметить, что он может сопровождаться не только приобретениями, но подчас и досадными потерями. Вместе с ним порой утрачивается живое, непосредственное восприятие музыки, обрезается та пуповина, которая соединяла ее с современностью, и на смену выстраданному, и, в сущности, единственно верному пониманию, которое складывалось в те времена, когда эта музыка питала живое восприятие, приходит разнобой мнений, порой случайных, неточных, не проверенных личным опытом, а иногда чисто рассудочное конструирование, страдающее явными упрощениями. Неудивительно, что сегодня о Шостаковиче пишут и говорят по-разному: восторженно и скептически, почтительно и снисходительно, равнодушно и запальчиво. Как ни один из лидеров музыки XX века, он до сих пор остается объектом споров. Видно, на роду ему было написано быть центром полемики — как при жизни, так и за ее пределами. Но если когда-то, в 30 —50-е годы Шостакович подвергался критике, так сказать, «справа», со стороны официальных кругов, исповедовавших самый реакционный консерватизм, то ныне он нередко становится мишенью атаки «слева», со стороны либо адептов послевоенного авангарда, видящих в нем традиционалиста, либо эдаких «правдолюбцев», страдающих зудом разоблачительства и ухмыляющихся по поводу его мнимого конформизма. Сегодня быть большим католиком, чем папа Римский, очень легко. Труднее обрести то, что можно назвать историческим слухом, каковым, собственно, должен обладать любой, кто претендует на звание историка или теоретика музыки. Конечно, требовать от молодых поколений знания гражданского опыта, каким располагали предшествующие генераций, по меньшей мере наивно — этот пробел для них невосполним. Они слышат и видят недавнее прошлое иначе, чем те, кто его пережил, и в этом нет ничего удивительного. И все же тот, кто занимается искусством прошлого любой степени давности, должен хотя бы пытаться соотнести его с социальной практикой соответствующей эпохи. Неполнота личного опыта может быть компенсирована изучением фактов истории и, разумеется, по возможности их верной интерпретацией — в противном случае искажения или, по меньшей мере, поверхностность суждений окажутся неустранимыми. Восстановление исторической истины и новый взгляд на творчество Шостаковича представляются сегодня одинаково необходимыми.
Два вопроса при этом приобретают особую актуальность: 1) был ли Шостакович, действительно, традиционалистом? и 2) в каких отношениях находилось его творчество с официальной эстетикой?
Заметим, что в силу исторических причин оба вопроса оказались тесно переплетены и потому отвечать на них придется одновременно.
Ответ на первый вопрос будет зависеть от того, какой смысл мы вложим в понятие традиции. Если тот, который признавался единственно правильным в 40 —50-е годы, когда под традицией понималось, в сущности, «повторение пройденного», слепая верность наиболее академичным образцам русской музыки (прежде всего на языковом уровне), то ответ будет безусловно отрицательным: в таком смысле Шостакович не только не был традиционалистом, но, напротив, олицетворял собой то, что смело можно назвать контртрадицией.
Восприятие музыки Шостаковича в те «годы дальние, глухие» может быть тому лучшим свидетельством. Слуху, как известно, предстает прежде всего звуковой облик музыки. Если он соответствует ожиданиям, восприятие проникает в ее более глубокие, содержательные
[3]
слои. Если же ожидания не оправдываются, в принципе могут иметь место два случая: либо восприятие преодолеет порог неизвестного, либо оно спасует перед трудностями, и тогда вопрос о содержании музыки попросту отпадет. Можно констатировать, что в большинстве случаев музыка Шостаковича именно нарушала сложившуюся тогда в обществе, в целом весьма консервативную, систему ожиданий. Все в этой музыке было необычным, начиная от интонации, кончая драматургическими концепциями. Неудивительно, поэтому, что большинство слушателей ее отвергало. Впрочем, не были исключением и музыканты. При нормальном положении вещей в этом не было бы ничего предосудительного: любое новаторское искусство сталкивается с консерватизмом вкусов общества, воспитанного прежней художественной парадигмой. Но все дело в том, что как раз нормальным положение искусства в советском обществе назвать никак нельзя. Идеологические разгромы и последующие за ними гонения деятелей искусства стали привычным явлением, в результате консерватизм публики как бы получал свыше «теоретическое обоснование». Тем самым пресекалась возможность вкусового прогресса, а следовательно, и продуктивного диалога публики и художника. Возникала ситуация, очень близкая к остракизму. Художник подчас оказывался запертым в каменном мешке молчания (если только не попадал в реальный).
Не составляет секрета, почему тоталитарные режимы устраивала именно консервация вкусов и художественных потребностей общества: любое движение в сфере «надстройки» грозило развитием свободомыслия, а искусство всегда являлось мощным катализатором подобных процессов. Власть это хорошо понимала. Список тех, кто, обладая подчас незаурядным дарованием, добровольно «сложил оружие», мог бы быть весьма длинен (напомним хотя бы Н. Рославца, А. Мосолова, Г. Попова, Л. Половинкина). Напротив, сохранение права на подлинное творчество требовало ежечасного мужества. Вся жизнь Шостаковича проходила под «линией высокого напряжения», в обстановке непрестанного риска. Он вел непрекращавшуюся борьбу за право на подлинное, а не фальсифицированное творчество. Тактика этой борьбы (как любой борьбы вообще) могла меняться, но стратегия оставалась неизменной. В этом проявилась непоколебимая воля художника, сумевшего вынести все, что выпало на его долю, и выйти из этой борьбы победителем.
Победа Шостаковича тем более удивительна и экстраординарна, что в конечном счете именно его искусство (как это теперь становится все более ясным) в течение долгих лет оставалось фактически едва ли не единственным художественным явлением, по всем своим параметрам (и общестилевым, и собственно содержательным) активно противостоящим тоталитарному режиму. Без риска преувеличения можно сказать, что инакомыслие было общей, интегрирующей чертой всего творчества великого музыканта. И если принять это во внимание, надо будет признать, что история «диссидентства» в советской интеллигенции своими корнями уходит в глубь десятилетий и фактически началась задолго до того, как на свет появилось само это слово.
Но вернемся к проблеме традиции. В наше время это понятие заметно изменило свой масштаб. Сегодня, когда с высот конца XX века открывается широкая панорама долины времени, отчетливо различим тот водораздел, который проложил в истории музыки послевоенный авангард. Выдвинув новые принципы организации звуковой среды, он тем самым решительно отодвинул в прошлое все то неслыханное новаторство, которым некогда ошеломляло современников искусство Стравинского, Прокофьева, Шостаковича, Бартока и других лидеров первой половины столетия. И стало ясно, что сколь ни были революционны их открытия, они все же оставались в пределах категорий той системы музыкального языка, которая складывалась в европейской музыке последние четыре века. И действительно, в музыке названных композиторов сохранялись уровни точной высоты звука, интонации, лада, тональности, гармонии, метра, дихотомии тема-форма и т.д. Конечно же, то были другие интонация, лад, тональность, гармония, тематизм и т.д., но на сами онтологические основы музыкального искусства, как оно тогда понималось, новаторы первой половины XX века не посягали. В этом и только в этом, широком смысле творчество Шостаковича безусловно принадлежит традиции. Традиции гомофонной системы музыкального языка. Конечно, можно найти и другие признаки связей Шостаковича с более или менее отдаленным прошлым европейской и русской музыки, например, в области трактовки жанров, понимании музыкальной формы, техники тематического развития и многого другого. Нити, связывающие его с историей музыки, прочны и многообразны, а со временем проступают все отчетливее.
Шостакович — художник сложной, трагической судьбы. Преследуемый на протяжении почти всей своей жизни и едва не разделивший участь Мейерхольда, Мандельштама, Шаламова, он мужественно переносил травлю и гонения ради того, что составляло в его жизни главное — ради творчества. Порой, в сложнейших условиях политических репрессий ему приходилось маневрировать, но без этого его творчества не было бы вообще. Многие из тех, кто начинал вместе с ним, погибли, многие сломались. Он выжил и выдержал, вынес все и сумел реализовать свое призвание. И можно только склониться перед его мужеством и его упорством. Важно не только то, как его видят и слышат сегодня, но в первую очередь то, кем он был для своих современников. Для тех, кто вслушивался в его тревожный, сильный, а порой срывавшийся на отчаяние голос, Шостакович стал подлинным властителем дум. Его музыка долгие годы оставалась той отдушиной; которая на короткие часы позволяла распрямить грудь и дышать свободно. Она была столь необходимым в те времена глотком свободы и инакомыслия, причем не только в содержательном, но и — что не менее важно — в музыкально-языковом отношении. Но прежде всего мы были благодарны Шостаковичу за то, что в драгоценные минуты общения с его музыкой, она позволяла нам оставаться самими собой, а, может быть, и возвращаться к самим себе. Звучание музыки Шостаковича всегда было не только праздником высокого искусства, но и моментом истины. Ее умели слышать и уносили с собой из концертного зала. Она становилась элементом духовного опыта и надежды на будущее. Можно без преувеличения сказать, что Шостакович был подлинной совестью своего времени. И, думается, наша задача в том, чтобы перенести это понимание его творчества в наши времена и привить новым поколениям музыкантов и слушателей.
И. Барсова. Между «социальным заказом» и «музыкой больших страстей». 1934-1937 годы в жизни Шостаковича
[137]
Проблема «художник и власть в 30-е гг. в СССР» все еще далека от доскональной разработанности и полной ясности. Многое осложняет картину советского искусства этих лет, а именно:
а) противоречивое поведение самой власти в культурной политике, временами создававшее впечатление возможной либерализации (этот феномен детально проанализирован Л. Флейшманом)[1];
б) вера в идеалы коммунизма одних и горькое прозрение других;
в) закрытость людей 30-х гг., которая выражалась, в частности, в «словесном театре», пронизывавшем бытовую речь (словесные «маски» были одной из важнейших форм общения человека с представителями власти и между собой);
г) зашифрованность, наличие подтекста, присущие языку самого искусства в определенных, часто вынужденных случаях; между тем такие случаи порой понимаются весьма просто — как попытка сотрудничества с режимом, то есть истолковываются с точки зрения «всевидящего» и не ведающего страха настоящего.
Начиная с 1927-1928 гг., когда 22-летний Д. Шостакович написал оперу «Нос», Советский Союз потрясает лавина фальсифицированных политических судебных процессов против «врагов народа»: таким образом, Сталин расчищал себе дорогу к беспредельной власти над страной. Сначала эти события оставались на периферии жизни Шостаковича, но постепенно охватывали ее плотным кольцом. Напомню лишь некоторые вехи этого скорбного пути советского общества на Голгофу[2]:
1927 г., октябрь — дело «английских шпионов» в Военной коллегии Верховного суда СССР;
[138]
1928 г. — шахтинский процесс инженеров-вредителей;
1929 г. — процесс над историками (Евгений Тарле, Сергей Платонов);
1930 г. — процесс над бактериологами; процесс Промпартии;
1931 г. — процессы над Союзным бюро меньшевиков и Трудовой крестьянской партией;
1932-1934 гг. — всеобщая «чистка» (смена директоров и всех руководителей в районах, областях, наркоматах); роспуск творческих объединений и организация централизованных творческих союзов; искоренение «националистов»; процесс над руководителями сельского хозяйства;
1934 г., январь — ленинградский процесс вредителей Ижорского ОРСа (отдела рабочего снабжения); 1 декабря — убийство Кирова, которым Сталин воспользовался для развязывания политического процесса и массового террора[3]; декабрь — дело о «Контрреволюционной террористической» группе в Ленинградской филармонии (аресты монтера И. М. Селиверстова
и др.)[4];
1935 г., февраль — март — «Кремлевское дело», операция по чистке Ленинграда от чуждых элементов (массовые аресты и высылки); операция по «бывшим людям»[5].
1935 г., январь — таинственная смерть Куйбышева; апрель — распространение всех видов наказания, включая смертную казнь, на детей с 12-летнего возраста[6];
1936 г., июнь — таинственная смерть Горького; август — процесс Зиновьева и Каменева; сентябрь — назначение Ежова вместо Ягоды на пост народного комиссара внутренних дел;
1937 г., январь — процесс Пятакова; февраль — таинственная смерть Орджоникизде; июнь — процесс маршалов и генералов, массовые казни военачальников (среди казненных — хороший знакомый Шостаковича маршал Тухачевский);
1938 г., март — процесс Бухарина; май — удаление с политической арены Ежова, назначение Берии.
Вероятно, в конце 20-х гг. к Шостаковичу пришло окончательное понимание несовместимости жизни не по лжи и советской власти, Дара и Власти и просто Жизни и Власти. Оно обернулось для него глубоко
[139]
скрываемой трагедией. Это понимание зловеще контрастировало с высоким положением молодого Шостаковича в художественном мире Ленинграда, признанием интеллигенцией его гения. До января 1936 г. Шостаковича выделяла и «неприкосновенность». Напомню, что его коллеги, причастные к музыкальному авангарду 20-х гг., подвергались жестокой травле. Александр Мосолов был печатно объявлен «врагом народа», его сочинения были запрещены после 1929 г. к исполнению и публикации. Сам он был репрессирован в ноябре 1937-го. Первая симфония Гавриила Попова после премьеры в Ленинградской филармонии в июне 1935 г. под управлением Фрица Штидри была запрещена к исполнению по распоряжению Репертуарного комитета Ленинграда «как отражающая идеологию враждебных нам классов»[7]. Композиторы уходили от академических жанров и в поисках средств к существованию обращались к киномузыке, к театральной музыке, к собиранию и обработкам фольклора.
Уникальную ситуацию с Д. Шостаковичем можно отчасти объяснить удаленностью Ленинграда от Кремля. Свидетельство тому — водружение бюста композитора в фойе филармонии (скульптор Гавриил Гликман), произведенное по инициативе его почитателей без ведома высших властей. Но главная причина лежит, вероятно, в том, что Сталин до поры до времени приберегал таланты некоторых выдающихся людей искусства, дабы иметь в своем распоряжении придворных портретистов, воспевающих его сочинителей од, песен, опер, романов, фильмов.
Шостакович в основном продолжал писать музыку прежней, условно говоря, авангардистской ориентации; она (за исключением Четвертой симфонии) исполнялась. Тем не менее ему приходилось расплачиваться за это благо комментированием своего творчества на страницах газет. Очевидна несоизмеримость смысла его музыки и авторского комментария к ней. Последний был призван «запутать след», защитить музыку двусмысленным словом о ней.
Публицистика Шостаковича 30-х гг. воспринимается сейчас по-разному. Можно читать ее по законам прямого «авторского слова» и расценивать как элементарное приспособление к власти. Но можно уловить в ней искусное лексическое лицедейство, «словесный театр масок», характерный для высказываний в тоталитарном обществе. В публицистике Шостаковича, а также в его письмах и устном общении, как утверждает И. Гликман, все это проявилось с особой отчетливостью[8].
[140]
Газетная речь Шостаковича поражает шокирующим столкновением словесных «масок» — «чужого слова» {М. Бахтин) и «авторского слова». «Чужое слово» предложено самим официальным партийным жаргоном; это обычная риторика сталинских лет, однако поданная Шостаковичем то в «высоком», то в пародирующем, порой косноязычном стиле. Стоящее рядом серьезное «авторское слово» также внезапно сменяется самопародией. Мозаика «словесных масок», где «чужое» и «свое» порой неразличимы, делает публицистику Шостаковича весьма острым чтением.
Защитные функции этого «словесного театра» можно по-настоящему оценить в политическом контексте газетных полос. Возьмем, к примеру, ленинградскую вечернюю «Красную газету» за январь 1934 г. Читаем заголовки:
13 января, с. 3 — «”Леди Макбет Мценского уезда”. На репетициях в МАЛЕГОТе».
14 января, с. 3 — «К партсъезду»; с. 2 — «Вредители. Процесс колпинских хищников (ОРС Ижорского завода)» (71 человек назван «шайкой классовых врагов»).
16 января, с. 2 — «Вредители» (продолжение процесса).
19 января, с. 1 — «Обращение V областной и II городской конференции большевиков Ленинграда и области: “Вождю мирового пролетариататов. Сталину”»; с. 4 — «Вредители».
20 января, с. 3 — «Писатели, журналисты и творческая среда» (статья Н. Свирина); с. 2 — «Процесс в Колпине».
21 января («Ленинский номер» газеты), с. 4 — «”Леди Макбет Мценского уезда” в МАЛЕГОТе. Композитор об опере и спектакле».
23 января, с. 3 — «Премьера “Леди Макбет”» (в статье говорится: «Спектакль имел исключительный успех... Завтра театр показывает “Леди Макбет” делегатам областной и городской партконференции»; с. 2 — «Дело вредителей Ижорского орса» (приговор суда: семь человек — «к высшей мере социальной защиты» — расстрелу, остальные — к десяти, двум, трем годам тюремного заключения).
25 января, с. 3 — «Композиторы к XVII партсъезду. Лицом к массовому репертуару» (статья 3. Л. Орловой, где говорится: «Ленинградские композиторы включились в творческий поход имени XVII партсъезда. 70 авторов дали обязательства написать в ударном порядке музыкальные произведения, которые должны отобразить жизнь Страны Советов на пороге XVII съезда»). Центр 3-й страницы занимает статья Д. Шостаковича «Творческий рапорт композитора». «...Этим спектаклем, — пишет он, — я рапортую XVII партсъезду... Много еще надо работать над своим мировоззрением, но благодаря правильному, глубоко чуткому руководству нашей партии в этом отношении сделано много... Большой прорыв у меня в области камерной и камерно-эстрадной (разрядка моя. — И. Б.) музыки. Произошло это из-за некоторой недооценки этих жанров...
[141]
Мне кажется, что советские композиторы недооценивают необходимость работы в разнообразных жанрах. Какая ошибка! Посмотрите, что только и для чего писали такие великие мастера, как И. С. Бах, Моцарт. И в этом отношении нам необходимо следовать за ними. Нельзя заключиться, как в скорлупе, в симфонии, опере, балете и тому подобное». Заметка напечатана рядом с положительной рецензией Ивана Соллертинского и стихотворной пародией Александра Флита с пророческим названием «Жизнь и смерть “Леди Макбет Мценского уезда”».
Убийство Кирова 1 декабря 1934 г. внесло новый мотив в предновогодние отчеты деятелей искусств и еще больше ожесточило кровавый контекст. Читаем «Ленинградскую правду» от 28 декабря. В статье под названием «Будем трубачами великой эпохи» Шостакович пишет о будущей Четвертой симфонии: «Это должна быть монументальная программная вещь больших мыслей и больших страстей. И, следовательно, большой ответственности. Многие годы я вынашиваю ее. И все же с тех пор еще не нащупал ее формы и „технологию"... Подлое и гнусное убийство Сергея Мироновича Кирова обязывает меня и всех композиторов дать вещи, достойные его памяти. Сугубо ответственная и тяжелая задача. Но отвечать полноценными произведениями на “социальный заказ” нашей замечательной эпохи, быть ее трубачами — дело чести каждого советского композитора». (Примечательно, что в приведенной цитате словосочетание «социальный заказ» взято Шостаковичем в кавычки — редкий для него случай выделения «чужого слова». К 30-м гг. выражение «социальный заказ» уже читалось как «социальный приказ».) В том же номере газеты некто В. Бобров от имени рабочих публикует отклик на приговор «ленинградскому центру», вынесенный накануне: «Вечное им проклятье, смерть!.. Немедля нужно стереть их с лица земли».
Тем не менее музыкальное творчество Шостаковича до 1936 г. оставалось свободным как в выборе концепции, так и музыкальной техники. Гавриил Попов, сам в 1935 г. мечтая «разорвать» во Второй симфонии «пошлость общественного вкуса», совершить «прыжок в будущее», не без восхищения писал в Дневнике о музыке своего современника: «31 октября, Детское село. Четвертая симфония Шостаковича (слышал на рояле первую часть до репризы и читал партитуру половины первой части) очень терпка, сильна и благородна»[9]. В период, когда в искусстве начала насаждаться идеология государственного оптимизма, Шостакович действительно писал «вещи больших мыслей и больших страстей», при этом уверяя читателя, будто это и есть выполнение «социального заказа». Он осмелился говорить своей музыкой — оперой «Леди Макбет Мценского уезда» и Четвертой симфонией — о страданиях и страстях человека, о страхе,
[142]
о катастрофе. Удар по нему в редакционных статьях 1936 г. («Сумбур вместо музыки» и «Балетная фальшь» в «Правде» от 28 января и 6 февраля) во многом объясняется несовместимостью подобного искусства с тотально утверждаемым официальным стилем, несовместимостью независимого Дара Шостаковича с желанным для власти идеалом унифицированного советского художника.
В 1936 г. для композитора наступил час испытания его душевной силы и мужества. Он должен был ответить на редакционные статьи своим новым сочинением. Нельзя исключить, что вождь ожидал от художника чего-то вроде благодарственных стихов Бориса Пастернака Сталину, которые совсем недавно — 1 января 1936 г. — появились в газете «Известия»[10]. Во всяком случае, Сталин мог надеяться на «Кантату о Сталине» или «Кантату о партии». Шостакович ответил симфонией без текста. Спасительная многозначность музыки позволила ему сохранить тайную свободу.
Две проблемы стояли перед композитором — нравственная и стилистическая. Ведь «ответ советского художника» будут слушать и тиран (или его слуги), и «публика Шостаковича», и сама Вечность. В то же время следовало избегать «формалистического», «сумбура», «диких созвучий», «крика и скрежета оркестра». Музыкальная речь Шостаковича должна была достигнуть «большей простоты», но остаться достойной Мастера. Не случайно композитор писал, что «рождению этого произведения предшествовала длительная внутренняя подготовка»[11]. Остановимся лишь на первой из двух названных проблем.
Одним из самых мучительных моментов «внутренней подготовки», вероятно, было преодоление страха. Страх застенка и казни сковал город. Приведу отрывки из неопубликованного и малоизвестного дневника Любови Яковлевны Шапориной[12] — человека из круга, близкого Шостаковичу; эти фрагменты интересны нам сейчас, так как раскрывают психологический климат в период премьеры Пятой симфонии.
«2 ноября [19J37 [года]. Нет сил жить — если вдуматься во все, что творится вокруг. <...> 29-го я возвращаюсь с работы — открывают мне дверь и на меня сразу бросаются Наташа и Вася — Евгения Павловна арестована, Ира у нас».
[143]
«20 ноября. Ира пошла к прокурору Шпигелю, взяв накануне к нему пропуск. <...> Шпигель выгнал ее — „Нечего тебе валандаться, а то мы тебя в детский дом отдадим"»
«21 ноября. Играли в филармонии 5 симфонию Шостаковича. Публика вся выдала и устроила бешеную овацию — демонстративную на всю ту травлю, которой подвергся бедный Митя. Все повторяли одну и ту же фразу: ответил и хорошо ответил. Д. Д. вышел бледный, бледный, закусив губы. Я думаю, он мог бы расплакаться. Из Москвы приехали Шебалин, Александров, Гаук — одного Шапорина не было. <...>
Встретила [Гавриила] Попова: „Знаете, я стал трусом, я трус, я всего боюсь, я даже Ваше письмо сжег"».
«б января [19J38 [года]. Вчера утром арестовали Веру Дмитриевну...».
«27 марта. Взяли Е. М.Тагер...».
«19 февраля 1939 [года]. ...Умер А. И. Рыбаков — в тюрьме. Умер Мандельштам в ссылке. Кругом умирают, бесконечно болеют — у меня впечатление, что вся страна устала до изнеможения, до смерти. Лучше умереть, чем жить в постоянном страхе, в бесконечном убожестве, впроголодь...».
Страх владел всеми — без сомнения, и Шостаковичем. Не многие могли вытеснить его из своего сознания. Искусство и творчество оставалось последним прибежищем. А. Ахматова писала тогда:
Полно мне леденеть от страха,
Лучше кликну Чакону Баха...
Кого «кликнул» Дмитрий Шостакович? Баха и Моцарта, Мусоргского и Малера. Двое последних уже в 20-е гг. особенно много дали ему для обретения трагического стиля. К общеизвестным фактам, свидетельствующим об отношении Шостаковича к Малеру, добавлю еще один. Шостаковичу принадлежит незаконченное четырехручное переложение I части Десятой симфонии Малера (эскизы двух вариантов рукописи не датированы)[13]. Вероятно, оно делалось во второй половине 20-х гг.
Кажется, уже многие понимают, что музыкальная семантика финала Пятой Шостаковича заключает в себе феномен двойного с м ы с -л а: искусство тиранических режимов издавна пользовалось зашифрованной речью. (Например, в 1937 г. к ней прибегнул О. Мандельштам, как показал анализ его сталинской оды, сделанный Л. Кацисом в статье «Поэт и палач»[14].)
[144]
Первый план финала Пятой симфонии Шостаковича составляет семантика «героического шествия»[15] и последующего апофеоза, которая и определила восприятие музыки буквально со второго такта. Тембр труб и квартовые ходы литавр действовали безошибочно. Для апофеоза-коды композитору особенно важно было опереться не на расхожие советские образцы, но на достойную модель. Ею стали апофеозы Первой и Третьей симфоний Малера.
Но в финале Пятой Шостаковича действительно существует второй семантический план, отрицающий вышеназванные смыслы. Этот второй план составляет семантика, условно говоря, «последнего пути». Причем, не желая, чтобы его цитаты и намеки были опознаны «чужими», Шостакович обращается к тонким контекстным связям — воспроизведению оркестровой фактуры («фактурному образу»), к деталям оркестрового письма.
Содержание финала достаточно сложно. В этой музыке гуляют лютые силы, и в ней же возникают озаряющие светом лирические темы. Однако доминируют в финале исторически закрепленные культурные и музыкальные символы «последнего пути», скрытые в зашифрованных реминисценциях из партитур различных мастеров. Важнейшие из этих символов — траурное шествие, романтический мотив ухода-прощания, шествие на казнь, апокалиптическое шествие. Упомяну лишь некоторые из них.
Открывающее IV часть трезвучие d-moll fortissimo с тремоло литавр вряд ли может стать началом героического финала. Оно ассоциируется с другим рядом: грозным, лишающим надежды первым аккордом увертюры к «Дон-Жуану», с «Dies irae» из «Реквиема» Моцарта[16] (см. пример 1 на с. 145).
Четыре первых звука главной темы у труб и тромбонов — a-d-e-f, лишенные традиционного «золотого хода»
Здесь Шостакович рискует раскрыть цитату, приблизившись к секундо-вой интонации Штрауса (g, fis). В ц. 133 (т. 1-8) он заостряет ее минорным ладом, превращая в ламенто (с3, Ь2, а2), — из советских исследователей этот выразительнейший штрих в апофеозе Пятой, кажется, был замечен только Г. Орловым[17]. Последние аккорды апофеоза — многократно повторенное мажорное трезвучие духовых в мелодическом положении квинты — отсылают слух к завершению «Шествия на казнь» Берлиоза. Наконец, «оголение» квартовых ударов литавр у Шостаковича в 3-м такте от конца, где внезапно перестают звучать массивные аккорды, производит зловещий эффект. Малер в своих апофеозах обычно не оставлял литавры звучать соло. Но в конце жизни он написал устрашающее solo большого барабана — тупые удары в начале финала Десятой симфонии, с которой Шостакович был знаком по факсимиле.
В причудливом гибриде двух полярных семантических комплексов кроется жесткая правда советской действительности 30-х гг., в которой аутодафе целого народа совершалось под звуки гимнов и маршей.
Хотел ли, мог ли Шостакович рассчитывать на восприятие второго плана финала? Думается, в его намерения входило расщепление рецепции. Это и произошло. В истинный оптимизм финала поверили не все. Кое-кто заметил «недостаток» сочинения, правда, приписав его не идеологическому изъяну, а техническому просчету. Даже такой серьезный музыкант, как Мясковский, нашел «конец финала совсем плоским» и «пустым»[18]. Однако ленинградская публика на премьере явно услышала в музыке нечто иное. «Ответил, и хорошо ответил» — эти слова относились к общему потрясающему впечатлению от симфонии, в которой слушатели различили — эмоционально, а не аналитически — признаки трагического жанра, и такое впечатление не только не было разрушено финалом, но, напротив, было укреплено им.
Альфред Шнитке полагает: Д. Шостакович принадлежит к типу, «казалось бы, слабовольных по внешним признакам композиторов... как бы он на себя ни воздействовал, а он делал много попыток выдать то, что от него требовали, он все равно оставался самим собой. Шостакович не мог себя разрушить, не хотел, и, когда это делалось под давлением, оно не получалось. <...> Он не мог заставить себя сломаться, не мог себя перебороть, но он был носителем какого-то более сильного импульса, который жил не его волей, а был вложен в него изначально»[19]. В таком случае в финале Пятой работала не рационально скомпонованная система реминисценций, но деятельное воображение, в котором подсознание
[156]
освободило кладезь ассоциаций. Финал, ускользнув из-под контроля самоцензуры, словно написал сам себя. В любом случае искусство музыки, мельчайшие материальные элементы которой — в отличие от слова — «лишены конечных значений»[20], дало Дмитрию Шостаковичу в 30-е гг. тайную свободу — возможность сказать правду о себе и о своем времени
Кшиштоф МЕЙЕР. Шостакович. Жизнь. Творчество. Время (фрагменты из книги)
Глава 11
1935 — 1937
«Сумбур вместо музыки». — Официальное осуждение Шостаковича. — Большой террор. — Четвертая симфония
[183]
После возвращения из Турции Шостакович был полон энергии и воодушевления, но посвящал себя в основном исполнительству. Уйма разных дел заставила его на некоторое время отложить творческую работу. В течение всего 1935 года он не сочинил почти ничего — лишь Пять фрагментов для оркестра, имевших типично «лабораторное» значение, и несколько начальных страниц новой, Четвертой симфонии.
Тем временем популярность его музыки продолжала расти. «Леди Макбет» не сходила с оперных сцен Ленинграда и Москвы. До конца 1935 года в Ленинграде ее исполнили 83 раза, а в Москве — даже 97. За границей к этой партитуре обращались все новые и новые театры. «Светлый ручей», хотя и раскритикованный, встречал горячий прием у публики, поэтому после ленинградской премьеры его поставил Большой театр. Тем не менее музыка Шостаковича постоянно порождала страстные споры и дискуссии. Борис Асафьев подчеркивал сложность стиля композитора, другие не слишком способны были понять характерную для него в те годы стилистическую неоднородность, выражавшуюся в почти одновременном создании столь различных произведений, как «Нос» и «Золотой век». «Леди Макбет» и Фортепианный концерт. Его творчество вызывало не только разногласия, но и зависть. Шостакович уже давно имел репутацию enfant terrible советской музыки. Успех. которым пользовались его сочинения, превосходил воображе-
[184]
ние и испытывал терпение коллег, а достаточно эксцентричное повеление, без сомнения, не прибавляло ему друзей.
Y Шостаковича было много планов. В нем зрела концепция новой симфонии, которая должна была стать переломной в процессе осовременивания музыкального языка. «Я не боюсь трудностей. Быть может, проще и удобнее ходить проторенными дорожками, но это скучно, неинтересно и бесполезно», заявил он[1].Тем временем в музыкальной жизни начали происходить явные перемены. Власти то и дело призывали творить искусство с помощью выразительных средств, доступных широким массам, все чаще раздавались произвольные обвинения в формализме. Золотой период русского авангарда неотвратимо уходил в историю.
22 октября 1935 года в Ленинградском Малом оперном театре состоялась премьера оперы Ивана Дзержинского «Тихий Дон» по еще не оконченному роману Михаила Шолохова. Писатель стоял на пороге литературной и партийной карьеры, был в милости у самого Сталина, и показ его оперы выходил далеко за рамки обычного культурного события. Об этом свидетельствовал хотя бы такой весьма знаменательный факт: 17 января 1936 года на спектакле «Тихий Дон» в Большом театре появился сам вождь в сопровождении Молотова и некоторых других высокопоставленных персон. После представления Сталин вызвал в свою ложу композитора, дирижера и режиссера, чтобы авторитетно высказаться по поводу сочинения Дзержинского и советской оперы вообще. Он сделал ряд положительных замечаний о музыке Дзержинского, которая явно пришлась ему по вкусу. Но чтобы не слишком переусердствовать с похвалами, он обратил также внимание на пробелы в мастерстве композитора (так!) и указал на некоторые недостатки постановки, а потом порекомендовал Дзержинскому продолжать «учиться»[2]. Содержание этой беседы было опубликовано чуть ли не во всех советских газетах.
28 января 1936 года Шостакович писал Соллертинскому: «26-го я приехал в Москву. Вечером пошел к Гисину[3]. <...> ...Пока я у него сидел, позвонил зам. директора ГАБТа Леонтьев и потребовал меня сейчас же в филиал. Шла "Леди Макбет". На спектакле присутствовал товарищ Сталин и тт. Молотов, Микоян и Жданов. Спектакль прошел хорошо. После конца вызывали автора (публика вызывала), я выходил раскланиваться и жалел, что этого не сделал после 3 акта. Со скорб-
[185]
ной душой вновь зашел я к Гисину, забрал портфель и поехал на вокзал»[4].
Письмо к другу содержит только упоминание о факте, что в театре присутствовал Сталин и несколько ею приближенных, но ни слова не говорится об атмосфере, царившей на спектакле. Между тем сохранились гораздо более драматические воспоминания об этом вечере (хотя и отличающиеся в деталях от рассказа Шостаковича), которые принадлежат американскому певцу польско-русского происхождения Сергею Радамскому:
«Сталин, Жданов и Микоян сидели в правительственной ложе, с правой стороны оркестровой ямы, вблизи от медных духовых и ударных. Ложа была бронирована стальным листом, чтобы предупредить возможное покушение из ямы. Шостакович, Мейерхольд, Ахматели и я (как гость Шостаковича) сидели напротив этой ложи, так что могли в нее заглянуть. Однако Сталина видно не было. Он сидел за небольшой шторой, которая не заслоняла ему вид на сцену, но ограждала от любопытства публики. Каждый раз, когда ударные или медь играли fortissimo, мы видели, как Жданов и Микоян вздрагивали и со смехом оборачивались к Сталину.
Мы думали, что во время антракта Шостакович будет приглашен в ложу Сталина. Но поскольку этого не произошло даже во время второго антракта, мы начали волноваться. Шостакович, который видел, как вся троица напротив смеялась и веселилась, спрятался в глубине нашей ложи и заслонил лицо руками. Он был в состоянии крайнего напряжения.
К его изумлению, наибольшее веселье вызвала любовная сцена из второго акта. Посреди сцены лежал соломенный матрас, на котором, мягко выражаясь, почти натурально занимались любовью. В Ленинграде эту сцену поставили гораздо деликатнее, на большом расстоянии виднелись только тени, а иллюстративная музыка в совершенстве позволяла представить развитие действия. <...>
После второго акта Шостакович хотел отправиться домой, но тут пришел директор театра и сказал, что поскольку Сталин еще не высказался насчет произведения, то уходить из театра было бы крайне неблагоразумно. После третьего акта Сталин наверняка пригласит композитора к себе.
Четвертый акт содержит самую мелодичную во всей опере музыку, продолжающую традицию народных песен, которые пели в царское время скованные цепями каторжники, сквозь
[186]
холод и снег бредущие в ссылку. Занавес опустился; Шостаковича не вызвали на сцену, а Сталин и два его приспешника покинули театр, не выразив охоты встретиться с композитором.
Критик "Известий" рассказал нам позже, что когда он спросил Сталина, понравилась ли ему музыка, то услышал в ответ: "Это сумбур, а не музыка!"»[5].
Композитор оставался в Москве лишь сутки, а затем уехал в Архангельск, где вместе с Виктором Кубацким должен был выступить в нескольких концертах. Это было 28 января. Еще на железнодорожной станции Шостакович купил свежий номер «Правды» и увидел в нем небольшую статью под названием «Сумбур вместо музыки. Об опере "Леди Макбет Мценского уезда"». Он начал читать, сначала с недоумением, а потом с ужасом:
«Вместе с общим культурным ростом в нашей стране выросла и потребность в хорошей музыке. Никогда и нигде композиторы не имели перед собой такой благодарной аудитории. Народные массы ждут хороших песен, но также и хороших инструментальных произведений, хороших опер.
Некоторые театры как новинку, как достижение преподносят новой, выросшей культурно советской публике оперу Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда". Услужливая музыкальная критика превозносит до небес оперу, создает ей громкую славу. Молодой композитор вместо деловой и серьезной критики, которая могла бы помочь ему в дальнейшей работе, выслушивает только восторженные комплименты.
Слушателя с первой же минуты ошарашивает в опере нарочито нестройный, сумбурный поток звуков. Обрывки мелодии, зачатки музыкальной фразы тонут, вырываются, снова исчезают в грохоте, скрежете и визге. Следить за этой "музыкой" трудно, запомнить ее невозможно.
Так в течение почти всей оперы. На сцене пение заменено криком. Если композитору случается попасть на дорожку простой и понятной мелодии, то он немедленно, словно испугавшись такой беды, бросается в дебри музыкального сумбура, местами превращающегося в какофонию. Выразительность, которой требует слушатель, заменена бешеным ритмом. Музыкальный шум должен выразить страсть.
Это все не от бездарности композитора, не от его неумения в музыке выразить простые и сильные чувства. Это музыка,
[187]
умышленно сделанная "шиворот-навыворот" так, чтобы ничего не напоминало классическую оперную музыку, ничего не было общего с симфоническими звучаниями, с простой, общедоступной музыкальной речью. Это музыка, которая построена по тому же принципу отрицания оперы, по какому левацкое искусство вообще отрицает в театре простоту, реализм, понятность образа, естественное звучание слова. Это перенесение в оперу, в музыку наиболее отрицательных черт "мейерхольдовщины" в умноженном виде. Это левацкий сумбур вместо естественной, человеческой музыки. Способность хорошей музыки захватывать массы приносится в жертву мелкобуржуазным формалистическим потугам, претензиям создать оригинальность приемами дешевого оригинальничания. Это игра в заумные вещи, которая может кончиться очень плохо.
Опасность такого направления в советской музыке ясна. Левацкое уродство в опере растет из того же источника, что и левацкое уродство в живописи, в поэзии, в педагогике, в науке. Мелкобуржуазное "новаторство" ведет к отрыву от подлинного искусства, от подлинной науки, от подлинной литературы.
Автору "Леди Макбет Мценского уезда" пришлось заимствовать у джаза его нервозную, судорожную, припадочную музыку, чтобы придать "страсть" своим героям.
В то время как наша критика — в том числе и музыкальная — клянется именем социалистического реализма, сцена преподносит нам в творении Шостаковича грубейший натурализм. Однотонно, в зверином обличий представлены все — и купцы и народ. Хищница-купчиха, дорвавшаяся путем убийств к богатству и власти, представлена в виде какой-то "жертвы" буржуазного общества. Бытовой повести Лескова навязан смысл, какого в ней нет.
И все это грубо, примитивно, вульгарно. Музыка крякает, ухает, пыхтит, задыхается, чтобы как можно натуральнее изобразить любовные сцены. И "любовь" размазана во всей опере в самой вульгарной форме. Купеческая двуспальная кровать занимает центральное место в оформлении. На ней разрешаются все "проблемы". В таком же грубо натуралистическом стиле показана смерть от отравления, сечение почти на самой сцене.
Композитор, видимо, не поставил перед собой задачи прислушаться к тому, чего ждет, чего ищет в музыке советская аудитория. Он словно нарочно зашифровал свою музыку, перепутал все звучания в ней так, чтобы дошла его музыка только
[188]
до потерявших здоровый вкус эстетов-формалистов. Он прошел мимо требований советской культуры изгнать грубость и дикость из всех углов советского быта. Это воспевание купеческой похотливости некоторые критики называют сатирой. Ни о какой сатире здесь и речи не может быть. Всеми средствами и музыкальной и драматической выразительности автор старается привлечь симпатии публики к грубым и вульгарным стремлениям и поступкам купчихи Катерины Измайловой.
"Леди Макбет" имеет успех у буржуазной публики за границей. Не потому ли похваливает ее буржуазная публика, что опера эта сумбурна и абсолютно аполитична? Не потому ли, что она щекочет извращенные вкусы буржуазной аудитории своей дергающейся, крикливой, неврастенической музыкой?
Наши театры приложили немало труда, чтобы тщательно поставить оперу Шостаковича. Актеры обнаружили значительный талант в преодолении шума, крика и скрежета оркестра. Драматической игрой они старались возместить мелодийное убожество оперы. К сожалению, от этого еще ярче выступили ее грубо натуралистические черты. Талантливая игра заслуживает признательности, затраченные усилия — сожаления».
Статья не была подписана, а это означало, что она выражает мнение партии и правительства, Вероятнее всего, она вышла из-под пера Давида Заславского, журналиста, специализировавшегося на подобных пасквилях[6]. В прессе того времени появлялись такие статьи, уничтожавшие ученых, инженеров, писателей и поэтов; они всегда возвещали о преследованиях, грозили арестом, ссылкой или расстрелом.
Свидетелем ситуации, в которой Шостакович увидел статью в «Правде», оказался Абрам Ашкенази: «В Архангельске был мороз тридцать градусов. Шостакович стал в очередь за газетой. Долго стоял. Купил, тут же развернул газету и, когда увидел статью "Сумбур...", зашатался, а из очереди закричали: "Что, браток, с утра набрался?"»[7]. Кубацкий пробовал утешить Шостаковича, показывая пальцем те места в тексте, где композитору не отказывали в таланте, однако обоим было ясно, что это не имеет большого значения. Новость распространилась с быстротой молнии. «В Радиокомитете его [Шостаковича] встретил председатель бранью: "Негодяй. Вон. Чтобы я тебя не видел". Шостакович выбежал и забежал в какой-то подъезд, совсем растерялся»[8].
[189]
Однако осуждение со стороны официальных деятелей вызывало и диаметрально противоположную реакцию, в чем Шостакович вскоре смог убедиться на своем концерте. "Когда я вышел на сцену. - писал он Атовмьяну,-- поднялся такой шум, что мне показалось, что, видимо, обрушился потолок, и я невольно посмотрел в сторону зала. Я увидел, что публика стоя, а не сидя, бурными аплодисментами приветствовала меня. Я даже опешил и быстро подошел к роялю, поклонился (притом несколько раз) и еле-еле дождался, чтобы публика утихла. Концерт свой я играл спокойно и, кажется, неплохо»[9].
Соллертинский, который в качестве «трубадура формализма» испытывал особенно сильный нажим со стороны властей, обратился к Шостаковичу с вопросом, как ему себя вести в этой чрезвычайно трудной для него ситуации. «Делай что хочешь», — ответил ему создатель «Леди Макбет». Тогда Соллертинский выступил с публичной самокритикой, отрекаясь от былых восторгов по поводу оперы Шостаковича.
Не прошло и нескольких дней, как Шостаковича настиг очередной удар: 6 февраля на страницах той же газеты появилась редакционная статья под названием «Балетная фальшь», направленная против «Светлого ручья». По тону и упрекам, брошенным произведению, она напоминала предыдущую публикацию.
5 и 7 февраля в Ленинградском отделении Союза композиторов прошло собрание, на котором ораторы состязались в нападках на «Леди Макбет» и Шостаковича. Выступали ведущие деятели музыкальной жизни, в том числе Максимилиан Штейнберг. Профессор Ленинградской консерватории высказался довольно путано. С одной стороны, он подчеркнул: «Драма Шостаковича — это моя личная драма» — и хвалил Первую симфонию. С другой стороны, он не упустил случая припомнить: «Меня очень огорчило выступление Шостаковича в печати, в котором он заявлял, что в консерватории ему только "мешали сочинять"», а напоследок добавил: «Когда Шостакович пришел ко мне с "Афоризмами", я ему сказал, что ничего в них не понимаю, что они мне чужды. После этого он перестал ко мне приходить». Под конец Штейнберг заявил, что ему непонятно, почему молодой композитор выбрал для либретто оперы произведение, в котором «действуют не люди, а сплошь звери».
[190]
Критически высказался и Иван Дзержинский, хотя его опера «Тихий Дон», заслужившая недавно похвалу Сталина, создавалась при значительной помощи Шостаковича, который давал ему различные советы относительно инструментовки, а затем помог завязать контакты с Ленинградским Малым оперным театром и тем самым содействовал постановке этого произведения. Дзержинский из благодарности посвятил ему оперу, но в изданной позднее партитуре снял посвящение. В памяти собравшихся он запечатлелся своими исключительно грубыми нападками на Шостаковича.
Нежданным противником оказался также Борис Асафьев, еще не так давно хваливший «Леди Макбет». Правда, на собрание он не явился, но прислал письмо, в котором, признавая, что Шостакович обладает «моцартовской легкостью», одновременно вспоминал об «уродливой — гротескной — "игре масок"» в опере «Нос», которая привела Шостаковича к следующей опере, представляющей собой «грубо натуралистический показ проявления взаимного издевательства» героев[10]. Другие выступавшие критиковали Фортепианный концерт и Прелюдии, а нашлись и такие, которые вообще начали ставить под сомнение приемлемость музыки Шостаковича для советской культуры.
В середине января в Москве прошло аналогичное собрание, описанное Сергеем Радамским:
«Собралось более четырехсот композиторов, критиков, режиссеров и других людей театра. Отсутствие Шостаковича было многозначительным, поскольку он пребывал тогда в Москве и его тоже ждали. Получив приглашение от секретаря Союза композиторов Григория Шнеерсона, я был проинструктирован, что моей задачей будет рассказать о фиаско, которое потерпела постановка оперы в нью-йоркском театре "Метрополитен" под управлением Артура Родзинского. <...> Меня посадили в первый ряд около композитора Шебалина... который решил не выступать.
Композиторы, дирижеры и критики, хвалившие оперу после того, как она была поставлена Немировичем-Данченко, сейчас по очереди выходили на трибуну, чтобы отречься от своего прежнего мнения. Критики отказывались от положительных оценок, а все остальные признавали себя виноватыми в том, что совершили ошибку, на которую только "великий вождь" Сталин открыл им глаза. Когда Евгений Браудо, один из веду-
[191]
щих историков советской музыки, вышел на подиум, чтобы подхватить эти песни, Шебалин и я опустили головы - так нам было стыдно за него.
Передо мной предполагался еще один выступающий, композитор Книппер. Было общеизвестно, что он завидовал успеху Шостаковича, поэтому никто не ожидал, что он станет ею хвалить. Но никто не мог предвидеть и того, что он обвинит Шостаковича в антинародной позиции: это было самое тяжкое обвинение, которое в то время можно было выдвинуть. Однако Книппер сделал это, а в подтверждение рассказал о происшествии, которое имело место, когда однажды ленинградских композиторов попросили выступить перед моряками. Все приехали вовремя, кроме Дмитрия, который появился с пятнадцатиминутным опозданием, и вдобавок не вполне трезвым. В этот момент по залу прошел глухой шум. Книппер сделал короткую паузу, после чего добавил:
— Но ведь мы пришли сюда не для того, чтобы вбить последний гвоздь в гроб Шостаковича...
Услышав это, я выкрикнул:
— Подлец! <...>
В зале заволновались, кто-то крикнул: "Хватит!" Протестующие голоса так усилились, что Книппер уже не мог продолжать. Поэтому председательствующий объявил перерыв, а на сцену поднялся присутствовавший на собрании представитель Центрального комитета Коммунистической партии и устроил спешное совещание. <...> Через несколько минут Шнеерсон сообщил мне, что очень сожалеет... но я не смогу выступить в дискуссии»[11].
Шостакович так и не появился на собрании, хотя он действительно находился тогда в Москве. Искал поддержки у друзей — встречался с Шебалиным, Обориным, Татьяной Гливенко. Но прежде всего он подал прошение Сталину с просьбой принять его, рассчитывая на возможность разговора и прояснения ситуации. Соллертинскому он сообщал: «Тихо живу в Москве. Безвыходно сижу дома. Ожидаю звонка. Надежды на то, что буду принят, у меня немного. Но все-таки надеюсь»[12]. Однако ответа от вождя он так и не дождался. Не получил ответа и Максим Горький, который в связи с нападками на Шостаковича написал Сталину:
«Т[оварищ] Кольцов сообщил мне, что первыми вопросами Мальро[13] были вопросы о Шагинян, о Шостаковиче. Основная
[192]
цель этого моего письма тоже откровенно рассказать Вам о моем отношении к вопросам этим. <...>
<...>Шостакович — молодой, лет 25, человек, бесспорно талантливый, но очень самоуверенный и весьма нервный. Статья в "Правде" ударила его точно кирпичом по голове, парень совершенно подавлен. <...> "Сумбур", а почему? В чем и как это выражено "сумбур"? Тут критики должны дать техническую оценку музыки Шостаковича. А то, что дала статья "Правды", разрешило стае бездарных людей, халтуристов всячески травить Шостаковича. Выраженное "Правдой" отношение к нему никак нельзя назвать "бережным", а он вполне заслуживает именно бережного отношения как наиболее одаренный из всех современных советских музыкантов»[14].
Кроме Горького в защиту Шостаковича обратились к Сталину — тоже безуспешно — Михаил Булгаков и Лео Арнштам.
Тем временем Шостакович навестил Тухачевского. Маршал только что вернулся из поездки в Лондон и Париж, и в газетах почти каждый день пели ему дифирамбы. Будучи страстным меломаном и почитателем искусства, Тухачевский хорошо знал «Леди Макбет» и неоднократно отзывался о ней с восторгом. Он пообещал помочь Шостаковичу по мере своих возможностей — как вскоре оказалось, очень небольших. «Они надолго удалились вдвоем в кабинет. Не знаю, о чем там разговаривали, но из кабинета Шостакович вышел обновленным человеком. <...> Михаил Николаевич... не отрывал восхищенного взгляда от друга, в которого верил и которому сумел внушить веру в самого себя»[15].
Шостакович, никогда прежде не интересовавшийся рецензиями и статьями о своей музыке, теперь старательно собирал все выступления, касавшиеся «Леди Макбет». Еще из Архангельска он послал своему другу Исааку Гликману телеграмму с просьбой собирать газетные вырезки. Позже он в хронологическом порядке вклеил их в альбом, а некоторые места даже подчеркнул карандашом. До наших дней сохранился этот печальный документ — альбом, который содержит девяносто страниц, заклеенных рецензиями, высказываниями и критическими статьями по преимуществу с уничтожающими оценками шедевра Шостаковича.
Разумеется, и в Москве и в Ленинграде театры сняли «Леди Макбет» и «Светлый ручей», хотя это произошло не сразу, что доказывают многочисленные публикации на эту тему. В Моск-
[193]
ве состоялись еще три спектакля "Леди Макбет" - 3I января, 4 и 10 февраля. В Ленинграде оперу показали еще пять раз: 28 января, 5, 10 и 16 февраля, а в последний раз 7 марта. Однако с того момента «Леди Макбет Мценского уезда» существовала только как символ вырождения и формализма в музыке.
Шостаковича ждало в этот период много неприятностей от людей, в порядочность которых он верил. Многие, до недавнего времени числившиеся его друзьями, теперь обходили его за версту. Приятным исключением была позиция Прокофьева, который в эти дни сказал: «У нас иногда называют формализмом то, чего не понимают с первою прослушивания»[16]. Были и такие, кто хотел Шостаковичу помочь, но сам он считал это бесполезным. Левон Атовмьян вспоминал:
«Я ему сообщил, что был в ЦК партии и добился проведения в Большом театре концерта из произведений Д. Шостаковича и согласовал даже программу, в которую были намечены следующие сочинения: Фортепианный концерт и целиком последний, четвертый акт "Леди Макбет".
— А зачем нужно устраивать этот концерт? — возразил Шостакович.— Разве не ясен тебе его исход? Публика, конечно, будет аплодировать — ведь у нас считается "хорошим тоном" быть в оппозиции,— а потом появится еще одна статья под каким-нибудь заголовком вроде "Неисправимый формалист". Ты что — этого добиваешься? Не надо быть Дон-Кихотом»[17].
Вскоре на Шостаковича наклеили ярлык «врага народа», а от такого обвинения до ареста и физической расправы мог оставаться всего один шаг. Жизнь предоставляла сколько угодно подобных примеров, и ближайшие месяцы принесли усиление террора, в значительно большей степени распространившегося на художественную интеллигенцию.
В 1936 году при невыясненных до конца обстоятельствах умер тяжело болевший Максим Горький, который был всецело предан властям[18]. Когда двумя годами раньше убили его сына, Сталин прислал ему циничное соболезнующее письмо. Секретарь писателя Крючков (кстати, агент ОГПУ) был арестован по обвинению в причастности к убийству Горького и казнен. В 1938 году убили великого поэта Осипа Мандельштама. В том же году погиб в заключении поэт Борис Корнилов, автор слов популярной «Песни о встречном». Писателя Исаа-
[194]
ка Бабеля заключили в тюрьму в 1939 году, а смертный приговор над ним привели в исполнение, вероятнее всего, через два года. В 1940 году расстреляли Всеволода Мейерхольда, а его жену зверски закололи ножами в собственном доме. У Анны Ахматовой отняли второго мужа и сына; психически надломившаяся Марина Цветаева в 1941 году покончила с собой. В том же году был казнен арестованный в 1938 году писатель Борис Пильняк. Из музыкантов был заключен в тюрьму и, возможно, убит директор Московской консерватории Болеслав Пшибышевский (сын Станислава), репрессиям подверглись также композиторы Николай Жиляев. Александр Мосолов и Николай Попов, музыковед Дмитрий Гачев, органист Николай Выгодский, пианистка Мария Гринберг, а немного позднее Генрих Нейгауз и многие, многие другие.
В Ленинграде царило убеждение, что Шостаковичу тоже не избежать ареста. Сам он был к этому готов. Фраза из статьи в «Правде»: «Это игра... которая может кончиться очень плохо» — звучала как несомненная угроза. Но поводов для опасений было гораздо больше. Среди ближайших родственников Шостаковича были эмигранты, и прежде всего сестра матери, которая в 1923 году выехала на Запад. Долгое время Шостаковичи состояли с ней в переписке, а ведь получение письма из-за границы грозило десятью годами ссылки. Небезопасными могли оказаться и давние дружеские контакты с эмигрантом Евгением Замятиным, соавтором либретто «Носа». Впрочем, семьи композитора уже коснулись репрессии. Тестя отправили в лагерь под Караганду. Арестовали мужа старшей сестры, физика Всеволода Фредерикса, барона, происходившего из прибалтийского дворянства, а ее саму выслали в Сибирь; Марии пришлось отречься от мужа ради спасения собственной жизни, чем была очень возмущена мать.
Ход событий становился все более драматическим. 13 июня 1937 года в прессе появилось сообщение о расстреле группы высших военачальников и среди них Михаила Тухачевского. Вскоре начались аресты и преследования всех, кто имел какое-то отношение к казненным. Так погиб Николай Жиляев, друживший и с Тухачевским, и с Шостаковичем. Однажды Шостакович тоже получил повестку в Ленинградское управление НКВД. Первый допрос состоялся в субботу. Офицер по фамилии Закревский пытался убедить композитора, что тот входит в террористическую группу, готовящую покушение на Стали-
[195]
на, и требовал выдать имена остальных заговорщиков. Многочасовой допрос закончился приказом повторно прибыть в понедельник и зловещим обещанием, что если подозреваемый не предоставит сведений об остальных «террористах», то будет тут же арестован.
— Самым страшным было то, — рассказывал Шостакович автору этой книги, — что надо еще было прожить воскресенье. В понедельник допрос не состоялся: Закревский был уже расстрелян...
Поскольку НКВД приезжало к своим жертвам ночью, с этого времени и в течение долгих месяцев Шостакович ложился спать одетым, а на случай ареста всегда имел наготове небольшой чемоданчик. Он не спал. Лежал и ждал, вслушиваясь в темноту. Он был совершенно подавлен, его начали посещать мысли о самоубийстве, которые с большими или меньшими перерывами преследовали его в следующие десятилетия. Длительное ожидание худшего оставило прочные следы в его психике, и панический страх перед потерей свободы сопровождал его до самой смерти. Этот страх то уменьшался, то набирал силу, но не исчезал никогда. Теперь Шостакович видел в себе человека, втянутого в политику, поскольку формализм и впрямь считался преступлением против народа. Он искал забвения в алкоголе, причем все в большей степени.
Это ужасное время вспоминал впоследствии Давид Ойстрах: «Мы с женой пережили 37-й год, когда вся Москва по ночам ждала арестов. В многоэтажном доме, где мы жили, в подъезде в конце концов только моя квартира и квартира напротив, через площадку, оставались нетронутыми. Все остальные жильцы были арестованы. Я ждал ареста каждую ночь, и у меня для этого случая были приготовлены теплое белье и еда на несколько дней. Вы не можете себе представить, что пережили мы, слушая по ночам приближающийся шум автомобилей и стук парадных дверей. В народе эти черные машины называли "маруси". Однажды "маруся" остановилась у нашего парадного входа... К кому? К нам — или к соседям? Больше никого нет. Вот хлопнула дверь внизу, потом заработал лифт, наконец на нашей площадке остановился. Мы замерли, прислушиваясь к шагам. К кому пойдут? Позвонили в квартиру напротив. С тех пор я не боец...»[19]
Трудно себе представить, в каком аду пришлось жить людям в Советском Союзе. В Европе об этом было известно немногое:
[196]
там в основном следили за развитием событий в Третьем рейхе, a в СССР доходили только отрывочные и ложные сведения. Дезинформацию распространяла чрезвычайно вероломная пропаганда, которой были склонны верить даже те, кто посещал Советский Союз. Создавались полуправдивые легенды, повторяемые (из лучших побуждений?) выдающимися западными интеллектуалами. Андре Мальро воспевал строительство Беломорского канала, возникшего — о чем он, быть может, не знал - благодаря усилиям сотен тысяч посылаемых на принудительную работу заключенных, большинство из которых погибли вследствие нечеловеческих условии. Джордж Бернард Шоу уверял, что голода в России нет. Еще дальше пошел Лион Фейхтвангер, который в книге «Москва, 1937» описал свою встречу со Сталиным, подчеркнув его гениальность и восхваляя достоинства его характера, благодаря чему получил возможность оказаться в качестве наблюдателя на суде над Радеком[20], а затем изобразил ход политических процессов в Москве, утверждая при этом, что они необходимы и содействуют развитию демократии. Наконец, можно лишь с крайним изумлением читать сегодня слова Луи Арагона, который в августовском номере «Commune» за 1936 год писал о сталинской конституции:
«Разве в огромной сокровищнице человеческой культуры новая сталинская конституция не занимает первого места перед величественными творениями фантазии Шекспира, Рембо, Гёте и Пушкина? Это великолепные страницы о труде и радости 160 миллионов людей, воодушевленные большевистским гением, плод мудрости партии и ее руководителя, товарища Сталина, философа марксистского типа, которому не достаточно просто истолкования мира».
Несмотря на безумство террора, в Советском Союзе все же встречались люди, которые сумели сохранить духовную независимость и не боялись преследований. Композитор Альфред Шнитке рассказывал писателю Николаю Самвеляну:
«Однажды Сталин заявил, что хочет послушать Концерт для фортепиано d-moll Моцарта. Трудно себе представить, как ему удалось объяснить, о каком произведении идет речь, но факт остается фактом — каким-то способом он дал это понять своим приближенным. Оказалось, однако, что у нас нет грамзаписи этого концерта, а ведь вождь требовал именно пластинку. Разумеется, последовал ответ:
[197]
- Сейчас сделаем, товарищ Сталин!
Исполнители приказа мигом помчались удовлетворять желание "отца народов" - а пластинки нет!
"Записи-то они не нашли, зато узнали, что этот концерт исполняет пианистка Мария Юдина. Вызвали ее, организовали ночную запись. Дали ей неповторимую возможность выбрать дирижера. Она отклонила несколько кандидатур, не помню уже, кого в конце концов выбрала. Несложно понять, что все трудности были преодолены и утром была изготовлена пластинка в единственном экземпляре. Вождь мог вволю общаться с бессмертным искусством, за что велел выплатить пианистке гонорар в количестве скольких-то там тысяч рублей. В ответ он получил от нее письмо, в котором Юдина благодарила за оказанную ей честь, но деньги просила направить на восстановление одной из церквей, разрушенных в приступе атеистической истерии. При этом она добавила, что будет молиться за Иосифа Виссарионовича, чтобы ему были отпущены его грехи. Человек, передавший Сталину это письмо, уже имел при себе приказ о ликвидации Марии Юдиной. Однако он явно поспешил. Нужно помнить, что Сталин любил разные игры и был опытным игроком. Он не умертвил ни Булгакова, ни Платонова, ни Пастернака, хотя прекрасно отдавал себе отчет в их таланте, уровне культуры и степени противостояния. Он был нелюдим, жил в изоляции, чувствуя себя порой словно голый на морозе. Думаю, что иногда его забавляли такие перебои в этом запрограммированном одиночестве, как письмо Юдиной. К тому же Сталину, вероятно, нравилось, чтобы кто-нибудь за него молился: известно, что он учился в духовной семинарии. Он сохранил несколько мистический способ мышления, жаждал перевоплотиться в образ богочеловека. Впрочем, вся страна принимала участие в колоссальных ритуальных обрядах, носивших название торжественных собраний, посвященных роли и значению тов. Сталина. <...> Это была смесь египетского культа бога-фараона и персидского деспотизма. <...> А тех, кто отваживался на дерзость, Сталин, как подобает уверенному в себе диктатору, иногда умел помиловать. <...> Сталин прочитал письмо Юдиной, спрятал его в карман и не сказал ни слова. К разговору на эту тему он никогда больше не возвращался. Ей была дарована жизнь, но запрещены всякие выступления. А когда Сталин умер, в его кабинете нашли ту
[198]
самую пластинку, записанную той ночью по специальному срочному заказу»"[21].
Можно сколько угодно гадать, почему Шостаковича не арестовали, но ответить на этот вопрос, по-видимому, невозможно. Без сомнения, Сталин лично принял решение оставить композитора на свободе, невзирая на его близкие отношения с такими уже осужденными «врагами народа», как Мейерхольд и Тухачевский. Реакция тирана всегда была непредсказуемой, и он часто играл со своими жертвами, как кот с мышью. Доказательство тому — знаменательная история первого ареста Мандельштама: когда поэта приговорили к трехлетней ссылке, Сталин лично позвонил по телефону Борису Пастернаку (дружившему с Мандельштамом), заверяя его, что изо всех сил хлопочет о помиловании его коллеги.
Охваченный паническим страхом Шостакович не решился на какую-либо оппозицию против Сталина. Однако можно только восхищаться его самоотверженностью, поскольку он, несмотря ни на что, сумел вернуться к творческой работе и нашел в себе достаточно сил, чтобы непосредственно после этих трагических событий без остатка отдаться музыке. Он говорил тогда Гликману: «Если мне отрубят обе руки, я буду все равно писать музыку, держа перо в зубах»[22]. Его поглотила работа над новой симфонией, начатой в набросках еще в прошлом году, а задуманной за несколько лет до того. Но в основном творческий замысел был реализован после январских статей. Композитор работал над партитурой без передышки и 20 мая 1936 года закончил огромное, длящееся целый час произведение. Это одно из самых потрясающих и трагических сочинений Шостаковича, отражение его тогдашнего психологического состояния.
Четвертая симфония колоссальна. Ее инструментальный состав соответствует двум симфоническим оркестрам. Только экспозиция тем первой части занимает 476 тактов и длится дольше, чем Седьмой струнный квартет Шостаковича; ее объем равен первым двум частям его Девятой симфонии. Вся эта огромная часть создана по принципам сонатной формы, так же как и следующее за ней скерцо. Только финал имеет строение, непохожее на классические образцы. Его открывает мрачный траурный марш, далее возникает как бы второе скерцо, масштабное и пронизанное симфоническим развитием, и наконец появляется конгломерат юмористических эпизодов —
[199]
гротескных галопов, маршей, вальсов и полек. Трагическая
кода, длящаяся почти десять минут, перекликается с начальным траурным маршем и навязчиво повторяет тонику до (симфония написана в тональности c-moll).
В партитуре обнаруживаются все типичные стилистические черты музыки молодого Шостаковича. Она содержит много фрагментов, привлекающих своей изобретательностью. К тaким моментам относится драматическая кульминация главной темы в экспозиции первой части и ошеломляющее фугато струнных инструментов в разработке, создающее общее впечатление шума с чуть ли не кластерным звучанием, в чем видно сходство с некоторыми эпизодами Второй симфонии. Превосходно также окончание первой части, оперирующее резкими sforzato при значительном участии ударных. Скерцо насыщено полифонией, а его разработка — это строгая фуга. В последней части привлекает своим размахом второй эпизод (allegro), забавляют гротескные фрагменты, продолжающие специфический юмор «Носа», отдельных моментов Второй и Третьей симфоний и трех балетов. Очень жаль, что в таком облике они появились у Шостаковича в последний раз.
Хотя он и в дальнейшем будет часто писать музыку веселую, безмятежную и даже юмористическую, но уже никогда не решится на такое озорство, беспечность и эксцентричность. Наиболее существенно, однако, то, что во всем произведении, независимо от количества забавных эпизодов в финале, чувствуется этот трудно определимый словами трагический тон, накал страсти и глубина, составляющие творческую индивидуальность композитора.
В Четвертой симфонии Шостакович выразил также свою огромную любовь к музыке Густава Малера. В период ее написания он живо интересовался творчеством австрийского симфониста. Некоторые фрагменты Четвертой — например, финальный траурный марш или эпизод, предшествующий коде, — созданы под сильным влиянием автора «Песни о земле».
Осенью 1936 года в Советский Союз приехал Отто Клемперер. Будучи в Ленинграде, он навестил в том числе и Шостаковича. В этой встрече участвовали Фриц Штидри, Иван Соллертинский и Исаак Гликман, который обратил внимание на выражение лица Клемперера, когда Шостакович играл на рояле Четвертую симфонию: «Клемперер был восхищен симфонией и попросил передать ему право зарубежной премьеры. Он
[200]
рассказывал, с каким успехом объездил всю Америку с программой, в которую входили балетные сюиты и Фортепианный концерт Шостаковича»[23]. Его возражения вызвал только чересчур большой, по его мнению, состав оркестра, и особенно шесть флейт, которыми он не располагает в концертных поездках. Однако Шостакович был непреклонен и только и сказал, усмехнувшись: «Что написано пером, того не вырубишь топором».
Первое исполнение Четвертой симфонии было намечено в Ленинграде в том же 1936 году. Когда началась подготовка. Фриц Штидри, который тремя годами ранее дирижировал премьерой Фортепианного концерта, заявил, что с такой партитурой в жизни еще не сталкивался. Один из скрипачей впоследствии вспоминал:
«Ознакомление с партитурой началось с проигрывания не всем оркестром, а только струнной группой. В зале сидел худенький молодой человек, еще не имевший в наших глазах большого симфонического авторитета. <...> Низко склонившись над партитурой и водя по ней пальцем. Фриц Штидри то и дело нетерпеливо спрашивал у автора, проверяя текст: "Верно? Так?" Оркестр останавливался, следовал быстрый ответ: "Верно! Верно!"»[24].
Проигрывание фрагментов никому не могло дать представления о произведении. Исаак Гликман вспоминал:
«Дмитрий Дмитриевич приглашал меня на репетиции Четвертой симфонии... <...> Не знаю, как Дмитрий Дмитриевич, но я чувствовал, что атмосфера в зале была настороженной. Дело в том, что в музыкальных и, главным образом, в околомузыкальных кругах распространились слухи о том, что Шостакович, не вняв критике, написал дьявольски сложную симфонию, напичканную формализмом.
И вот в один прекрасный день на репетицию явились секретарь Союза композиторов В. Е. Иохельсон и еще одно начальственное лицо из Смольного, после чего директор филармонии И. М. Рензин — по профессии пианист — попросил Дмитрия Дмитриевича пожаловать в директорский кабинет. Они поднялись по внутренней винтовой лестнице наверх, а я остался в зале. Минут через 15 — 20 Дмитрий Дмитриевич зашел за мной, и мы отправились пешком на Кировский проспект, № 14. Я был смущен и встревожен продолжительным молчанием моего опечаленного спутника, но в конце концов он ровным,
[201]
почти без интонаций голосом сказал, что симфония исполняться не будет, что она снята по настоятельной рекомендации Рензина, не пожелавшего использовать административные меры и упросившего автора отказаться самому от исполнения симфонии.
Прошло с тех пор немалое количество лет, и возникла легенда о Четвертой симфонии... Суть ее состоит в том, что Шостакович, якобы убедившись, что Фриц Штидри не справляется с симфонией, решил ее снять»[25].
Ни в том году, ни в течение многих последующих лет симфония так и не была исполнена. Композитор доверил рукопись Александру Гауку. Во время блокады Ленинграда пропал чемодан, в котором хранились рукописи Четвертой, Пятой и Шестой симфоний Шостаковича, хотя некоторые позднейшие высказывания Гаука позволяют усомниться в правдивости этих сведений[26]. Еще немного — и произведение перестало бы существовать. Но сохранились оркестровые голоса, а в 1946 году было опубликовано четырехручное переложение симфонии — недоступное, впрочем, широким кругам любителей музыки. Долгие годы Четвертая симфония оставалась загадкой для музыкального мира, дожидаясь своего открытия.
Глава 18
1946 — 1943
Борьба с «космополитами» и «формалистами». — Совещание в ЦК ВКП(б). — Постановление «Об опере "Великая дружба " В. Мурадели». — I съезд Союза композиторов: «суд» над Шостаковичем.
[277]
В первые послевоенные годы в Советском Союзе наблюдалось усиленное вмешательство партии в дела культуры и науки. Никогда со времен I съезда советских писателей в 1934 году и кампании 1936 года против оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» искусству не уделялось так много места в официальных документах и средствах массовой информации, как в 1946 году.
28 июня 1946 года была основана газета «Культура и жизнь», выпускавшаяся каждые десять дней Отделом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). Она стала трибуной острых выступлений против всяких идеологических отклонений, причем особенно жесткому контролю подвергалась работа историков и творчество литераторов. Поскольку от литературы требовали актуальной тематики и пропагандистского звучания, то нет ничего удивительного, что важнейшими книгами того периода были признаны, к примеру, «Цемент» Федора Гладкова или «Железный поток» Александра Серафимовича. Исключительно большое значение придавалось «Молодой гвардии» Александра Фадеева — роману о героях-комсомольцах, которые в горняцком городе Краснодоне организовали движение сопротивления немцам. Однако ее автор, в то время бывший уже членом ЦК ВКП(б) и генеральным секретарем Союза советских писателей, забыл подчеркнуть руководящую роль партии в организации подпольной борьбы и поэтому стал в 1947 году объектом резких нападок вершителей судеб культуры. Под влиянием
[278]
критики Фадеев переработал роман, но в новом варианте он оказался значительно хуже.
Во главе идеологического наступления, проводившегося с 1946 года, встал секретарь ЦК ВКП(б) Андрей Жданов, а после его смерти в 1948 году эту задачу взял на себя Михаил Суслов. В своих выступлениях Жданов сурово требовал полном ликвидации влиянии западной культуры. Он осуждал любые отступления от принципов культурной политики, обозначенной партией, при этом сущность таких уклонов истолковывалась совершенно произвольно, в зависимости от потребностей, создаваемых текущим моментом. Нападки на деятелей культуры носили официальный характер, и о них объявлялось в специальных партийных постановлениях. Первым из них было датированное 26 августа 1946 года постановление «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению». Вслед за ним, 4 сентября, появилось постановление «О кинофильме "Большая жизнь"». В 1948 году вышло постановление «Об опере "Великая дружба" В. Мурадели», направленное против музыкантов. В конце того же года было опубликовано очередное, самое резкое и ставшее одним из главных проявлений бушевавшего в то время антисемитизма постановление «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». Этот печальный список замыкают два документа, относящиеся к 1951 году, — статьи в «Правде» «Неудачная опера» (об опере Г.Жуковского «От всего сердца») и «Об опере К. Данькевича "Богдан Хмельницкий"».
В 1946 году объектом нападок Жданова стал Михаил Зощенко, сатирические произведения которого пользовались необычайной популярностью, а затем — великая поэтесса Анна Ахматова, предмет любви и почитания русской интеллигенции. На страницах чуть ли не всех советских газет появились бесчисленные статьи с осуждением этих художников. Жданов публично назвал Ахматову «взбесившейся барынькой, мечущейся между будуаром и молельней», а Зощенко — «беспринципным и бессовестным литературным хулиганом». Кампания продолжалась несколько месяцев, Ахматову и Зощенко исключили из Союза писателей и запретили публикацию их сочинений, практически лишив обоих возможности заниматься литературным трудом.
Однако апогей борьбы с «космополитами и формалистами» наступил только через три года после этих событий. В первой
[279]
половине 1949 года атаки на деятелей культуры велись уже во всех областях творчества: в литературе, музыке, театре, изобразительном искусстве и кинематографии. 28 января 1949 года в «Правде» появился отклик на партийное постановление, касавшееся театральных критиков. Наряду с явными антисемитскими акцентами статья содержала такие обвинения, которые в свете советского законодательства могли быть истолкованы как тяжкое умышленное преступление. Вскоре на собрании московских писателей Константин Симонов публично «разоблачил» «заговорщицкий характер антисоветской деятельности безродных космополитов», а сами обвиняемые приписывали себе всевозможные прегрешения, признавая даже свою причастность к тайной антисоветской деятельности. По этому случаю Симонов раскрыл настоящие фамилии писателей, печатавшихся под псевдонимами, чтобы развеять всякие сомнения в их еврейском происхождении.
В музыкальной сфере кульминация событий наступила в первой половине 1948 года, а предлогом для массированной атаки на композиторов стала опера Вано Мурадели «Великая дружба». В музыкальном отношении опера не представляла большой ценности (впрочем, как и все творчество этого грузинского композитора), однако она имела явный идеологический подтекст, и это сулило надежды на ее успех: содержанием либретто была борьба с «врагами народа» в Закавказье, а одним из главных героев выступал грузинский комиссар Серго Орджоникидзе, эффективно «очищающий» родину от «вражеских элементов».
Премьера «Великой дружбы» состоялась 28 сентября 1947 года в городе Сталине (ныне Донецк). В результате усиленных стараний местной партийной организации постановка оперы была рекомендована двенадцати другим советским театрам, при этом выражалось пожелание, чтобы день премьеры совпал с торжественным празднованием тридцатилетия Октября. Таким образом, четыре следующие постановки были подготовлены к 7 ноября, а одна из них, особенно пышная, состоялась в Московском Большом театре, где для этой цели выделили гигантскую сумму в шестьсот тысяч рублей.
Однако успех спектакля был столь же ошеломляющим, сколь и кратковременным. Вскоре после премьеры состоялось закрытое для широкой публики представление, на котором присутствовал Жданов, а вероятнее всего, и сам Сталин, кото-
[280]
рому случалось посещать Большой театр. Власти оценили «Великую дружбу» крайне негативно. Во-первых, были замечены важные политические упущения в изображении национальных конфликтов в Закавказье. Во-вторых, Сталину пришлась не по вкусу музыка, которую он раскритиковал за отсутствие (по его мнению) народного характера, и уже окончательно его возмутила лезгинка — распространенный на Кавказе народный танец, использованный Мурадели в опере. (Сталин имел определенные музыкальные пристрастия; к примеру, было известно, что его любимая песня — грузинская народная мелодия «Сулико».) Последняя премьера «Великой дружбы» прошла 14 декабря 1947 года в Алма-Ате, после чего события стали развиваться с молниеносной быстротой. Первым делом состоялась драматическая встреча Жданова с Мурадели и директором Большого театра Яковом Леонтьевым. Мурадели покаялся, а Леонтьев через несколько дней умер от сердечного приступа. В январе 1948 года Жданов отдал распоряжение организовать совещание московских композиторов, чтобы после трехдневных заседаний многозначительно заявить: «Центральный комитет... учтет итоги дискуссии и сделает соответствующие выводы»[27].
Январское совещание имело особый характер. Главной его целью была, разумеется, не критика создателей и постановщиков оперы «Великая дружба», а составление списка композиторов, представляющих формалистическое направление. Сталин поручил Жданову выявить самых «антинародных» деятелей музыкального искусства, а тот постарался, чтобы составлением «черного списка» занялись сами композиторы.
Спустя годы это собрание вспоминал композитор Никита Богословский:
«За каждым столиком сидело четыре человека — три музыкальных деятеля, а четвертого, как правило, никто не знал. Все заседание эти самые "четвертые" что-то строчили в своих тетрадках... Я сидел с Самосудом и Соловьевым-Седым. Прокофьев Сергей Сергеевич опоздал и сел где-то впереди. Он был в пимах, с огромным толстым портфелем и со значком лондонского королевского общества. Было душно, он выглядел уставшим... Сел, закрыл глаза и, наверное, задремал. Сидевший рядом Шкирятов (заместитель председателя Комиссии партийного контроля. — К. М.) вдруг громко, на весь зал сказал: "Прокофьеву не нравится речь Андрея Александровича [Жданова]. Он заснул". Прокофьев открыл глаза и спросил: "А вы,
[281]
собственно, кто такой?" Шкирятов показал на свой портрет, висящий на стене, и говорит: "Вот это я". Прокофьев очень удивился: "Ну и что?" Тогда встал Попов, секретарь ЦК, который вел это собрание, и сказал: "Товарищ Прокофьев, вы тут шумите, а если вам не нравится речь Андрея Александровича, можете уйти!" Прокофьев встал и ушел...»[28]
Жданов перечислил имена композиторов, на которых, по его мнению, лежала наибольшая вина за плачевное состояние советской музыки: Шостакович. Прокофьев, Мясковский, Хачатурян, Попов, Кабалевский и Шебалин. После этого он прервал чтение своего доклада и обратился к залу:
— Кого вам угодно будет присоединить к этим товарищам?
Из зала послышался голос:
— Шапорина!
Таким образом в «черном списке» Жданова оказался (правда, временно) и Шапорин.
«Обвиняемые» не выказали особой склонности к публичному самобичеванию. Виссарион Шебалин на совещании почти не касался своего творчества и при этом осмелился защищать своих коллег (особенно Шостаковича) от нападок. Гавриил Попов вообще отказался от выступления.
Шостакович выходил на трибуну дважды. Первый раз он говорил весьма лаконично, отметил некоторые недостатки в работе композиторов (прежде всего, консервативного направления). Очевидно, такое поведение было сочтено неудовлетворительным, и в последний день работы совещания Шостаковичу пришлось выступить вторично. На сей раз он покритиковал и «формалистов» (больше всего Мурадели), хотя наряду с этим дал высокую оценку таланту Прокофьева, Мясковского и Хачатуряна. Говоря о своем творчестве, он лишь в обшей форме признал наличие в нем «неудач и серьезных срывов».
Зато один из наиболее агрессивных участников совещания композитор Владимир Захаров выступил в таком тоне:
«Весь народ сейчас занят выполнением пятилетки. Мы читаем в газетах о героических делах, которые совершаются на заводах, на колхозных полях и так далее. Спросите вы у этих людей: действительно ли они так любят 8-ю и 9-ю симфонии Шостаковича, как об этом пишут в прессе? <...>
<...> Для того чтобы вести народ, надо разговаривать с народом на языке, который понятен народу».
[282]
И далее: «...в Ленинграде, когда люди умирали на заводах, около станков, эти люди просили завести им пластинки с народными песнями, а не с 7-й симфонией Шостаковича»[29].
Дело дошло даже до таких исключительно грубых выпадов:
«У нас еще идут споры о том, хороша 8-я симфония Шостаковича или плоха. По-моему, происходит что-то непонятное. Я считаю, что, с точки зрения народа, 8-я симфония — это вообще не музыкальное произведение, это "произведение", которое к музыкальному искусству не имеет никакого отношения».
Вот еще образец захаровской демагогии:
«...8-я, 9-я, 7-я симфонии Шостаковича будто бы за границей рассматриваются как гениальные произведения. Но давайте спросим, кем рассматриваются? За границей есть много людей. Помимо реакционеров, против которых мы боремся, помимо бандитов, империалистов и так далее, там есть и народы.
Интересно, у кого же эти сочинения там пользуются успехом? У народов? Я могу на это ответить совершенно категорически — нет и не может быть»[30].
Ситуация складывалась угрожающая. Перепуганные композиторы обвиняли друг друга, множились доносы и интриги, фальсифицировались факты. Почти каждый всеми доступными ему способами боролся за то, чтобы его имя не оказалось в известном списке. Вписываниям и вычеркиваниям не было конца, но два имени, с самого начала открывавшие перечень,— Шостакович и Прокофьев — так и остались на переднем плане. В такой чрезвычайно подлой форме дала о себе знать многолетняя зависть к международной славе обоих творцов музыки. Наконец список представителей «антинародного формалистического направления» был окончательно укомплектован: в нем значились почти все первоначально названные Ждановым композиторы, лишь имя Кабалевского было вычеркнуто в результате не выясненных по сей день обстоятельств.
10 февраля 1948 года было опубликовано чреватое последствиями партийное постановление «Об опере "Великая дружба" В. Мурадели», отредактированное по поручению Жданова Асафьевым. Постановление начиналось критикой произведения Мурадели, которое признавалось немелодичным, модернистским, оторванным от традиций, антихудожественным и формалистическим, а далее появлялись слова, касавшиеся советской музыки вообще:
[283]
«Еще и 1936 году, в связи с появлением оперы Д. Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда", в органе ЦК ВКП(б) "Правда" были подвергнуты острой критике антинародные, формалистические извращения в творчестве Д. Шостаковича и разоблачен вред и опасность этого направления для судеб развития советской музыки. "Правда", выступавшая тогда по указанию ЦК ВКП(б), ясно сформулировала требования, которые предъявляет к своим композиторам советский народ.
Особенно плохо обстоит дело в области симфонического и оперного творчества. Речь идет о композиторах, придерживающихся формалистического, антинародного направления. Это направление нашло свое наиболее полное выражение в произведениях таких композиторов, как тт. Д. Шостакович, С. Прокофьев. А. Хачатурян, В. Шебалин, Г. Попов, Н. Мясковский и др., в творчестве которых особенно наглядно представлены формалистические извращения, антидемократические тенденции в музыке, чуждые советскому народу и его художественным вкусам. Характерными признаками такой музыки является отрицание основных принципов классической музыки, проповедь атональности, диссонанса и дисгармонии, являющихся якобы выражением "прогресса" и "новаторства" в развитии музыкальной формы, отказ от таких важнейших основ музыкального произведения, какой является мелодия, увлечение сумбурными, невропатическими сочетаниями, превращающими музыку в хаотическое нагромождение звуков. Эта музыка сильно отдает духом современной модернистской буржуазной музыки Европы и Америки, отображающей маразм буржуазной культуры, полное отрицание музыкального искусства, его тупик.
<...> Творчество многих воспитанников консерваторий является слепым подражанием музыке Д. Шостаковича, С. Прокофьева и др.
ЦК ВКП(б) констатирует совершенно нетерпимое состояние советской музыкальной критики. Руководящее положение среди критиков занимают противники русской реалистической музыки, сторонники упадочной, формалистической музыки. Каждое очередное произведение Прокофьева, Шостаковича, Мясковского, Шебалина эти критики объявляют "новым завоеванием советской музыки" и славословят в этой музыке субъективизм, конструктивизм, крайний индивидуализм, про-
[284]
фессиональное усложнение языка, т. е. именно то, что должно быть подвергнуто критике. <...>
ЦК ВКП(б) постановил:
1. Осудить формалистическое направление в советской музыке, как антинародное и ведущее на деле к ликвидации музыки.
2. Предложить Управлению пропаганды и агитации ЦК и
Комитету по делам искусств добиться исправления положения в советской музыке, ликвидации указанных в настоящем постановлении ЦК недостатков и обеспечения развития советской музыки в реалистическом направлении.
3. Призвать советских композиторов проникнуться сознанием высоких запросов, которые предъявляет советский народ к музыкальному творчеству, и, отбросив со своего пути всё, что ослабляет нашу музыку и мешает ее развитию, обеспечить такой подъем творческой работы, который быстро двинет вперед советскую музыкальную культуру и приведет к созданию во
всех областях музыкального творчества полноценных, высококачественных произведений, достойных советского народа.
4. Одобрить организационные мероприятия соответствующих партийных и советских органов, направленные на улучшение музыкального дела»[31].
Нетрудно было предвидеть результаты этого выступления. По всей стране начали организовываться собрания и конференции, поддерживавшие постановление от 10 февраля. Документ «обсуждался» везде: на фабриках и заводах, в колхозах и учреждениях, причем, если верить тогдашней прессе, повсюду рабочие с энтузиазмом говорили о постановлении, потому что миллионы простых людей объединяло общее возмущение Шостаковичем, Прокофьевым и другими «формалистами». Много лет спустя сын Шостаковича Максим вспоминал: «...мне было 10 лет. В 1948 году, когда после речи Жданова травили отца, в музыкальной школе на экзамене меня заставляли его ругать»[32].
Создавшейся ситуации прибавлял пикантности тот факт, что одним из самых активных пропагандистов постановления был сам Мурадели. Он участвовал в собраниях всех доступных ему организаций, прохаживался среди людей, каялся и, как бывший «формалист», торжественно заявлял, что с этих пор уже никогда не собьется с пути реализма. Если выпадала возможность,
[285]
он тут же садился к роялю или пианино и наигрывал фрагменты своих будущих реалистических произведений, а на встречах в консерваториях предостерегал молодых композиторов от модернизма, давал советы и поучения.
Почти сразу после опубликовании постановления было созвано очередное собрание в Москве, в Союзе композиторов. На этот раз оно длилось неделю, с 17 по 26 февраля. Произошла реорганизация структуры союза: прежнюю форму правления, называемую оргкомитетом, ликвидировали и во главе союза поставили тридцатипятилетнего композитора Тихона Хренникова, который прославился тем, что в своей опере «В бурю» первым вывел на сцену образ Ленина.
Галина Вишневская, жена Мстислава Ростроповича, вспоминает: «В зале, битком набитом народом, где яблоку негде было упасть, Шостакович сидел один — в пустом ряду. Уж у нас так повелось: никто не сядет рядом. Как публичная казнь. Да и была публичная казнь — с той лишь разницей, что там убивают, а здесь великодушно оставляют жить — оплеванным. Но за это великодушие ты обязан сидеть, слушать все, что выплевывают тебе в лицо, и каяться — да не про себя, а вылезай на трибуну и кайся вслух, публично предавай свои идеалы. Да еще и благодари за это партию, и правительство, и лично товарища Сталина»[33].
Важнейшим элементом февральских заседаний были выступления тех композиторов, которых постановление обвиняло в формализме. Самокритикой вынуждены были заниматься также все музыковеды, исполнители и рецензенты, деятельность которых оказалась каким-либо образом связана с Шостаковичем, Прокофьевым и остальными композиторами из «черного списка». Это было нелегко. Например, Гавриила Попова, который во время выступления признался в предъявленных ему обвинениях, неоднократно прерывали из президиума собрания, требуя еще большей самокритичности и готовности к борьбе с врагами советской культуры.
Сергей Прокофьев вообще не появился на собрании и лишь прислал открытое письмо, зачитанное во время прений:
«...Элементы формализма были свойственны моей музыке еще лет 15-20 тому назад. Зараза произошла, по-видимому, от соприкосновения с рядом западных течений. После разоблачения "Правдой"... формалистических ошибок в опере Шостаковича я много размышлял о творческих приемах моей музыки и
[286]
пришел к заключению о неправильности такого пути, <...> Наличие формализма в некоторых моих сочинениях объясняется... недостаточно ясным осознанием того, что это совсем не нужно нашему народу. <...>
В атональности, которая часто близко связана с формализмом, я тоже повинен... <...>
...Хочется высказать мою благодарность партии за ее указания, помогающие мне в поисках музыкального языка, понятного и близкого нашему народу...»[34]
Наконец слово дали Шостаковичу. Он встал и пошел через весь зал с последнего ряда. По пути, воспользовавшись замешательством композитора, ему в руку всунули листок с готовым выступлением — оставалось только прочесть незнакомую ему речь, из которой вытекало, что все его творчество было чередой ошибок и заблуждений. «После известной разгромной статьи 1936 года ("Сумбур вместо музыки") он все время стремился исправиться, развивать свое творчество "в ином направлении". "Казалось", что "порочные черты своей музыки он уже начал преодолевать". Однако этого не случилось. Он "опять уклонился в сторону формализма и начал говорить языком непонятным народу". Сейчас ему снова ясно, что "партия права". Правда, в своей "Поэме о родине"[35] он как будто делал все, что требуется, но произведение опять "оказалось неудачным". И вот теперь он будет снова "упорно трудиться". Глубоко благодарит за "отеческую заботу" партии о художниках»[36].
Кульминационным моментом февральского обсуждения речи Жданова было выступление Хренникова, который остро критиковал многих советских и зарубежных композиторов: Хиндемита, Берга, Кшенека, Мессиана — и даже Жоливе и Бриттена представил как буржуазных формалистов. Особенно резко он осудил музыку Стравинского, назвав его балеты «Петрушка» и «Весна священная», а также Симфонию псалмов декадентскими произведениями. Критикуя творчество молодого Прокофьева, Хренников сказал о его балете «Шут», что «музыкальный язык этого произведения близок... балетам Стравинского». Признаки вырождения были обнаружены им в Оде на окончание войны Прокофьева, а именно в ее инструментальном составе (!), включающем 16 контрабасов, 8 арф и 4 рояля. Хренников назвал формалистической также кантату Прокофь-
[287]
ева «Расцветай, могучий край» (написанную в ознаменование 30-й годовщины Октябрьской революции), и Шестую симфонию, и последние фортепианные сонаты. Хачатуряна он осудил за использование 24 труб в Симфонии-поэме (тоже созданной в честь Октябрьской революции), критически отозвался и о большинстве произведений Мясковского, в том числе о Патетической увертюре и о кантате «Кремль ночью».
Особенно резким нападкам по очевидным причинам подверглась «Великая дружба» Мурадели. Однако главной мишенью нападок Хренникова был Шостакович. О его музыке было сказано следующее: «Своеобразная зашифрованность, абстрактность музыкального языка часто скрывала за собой образы и эмоции, чуждые советскому реалистическому искусству, экспрессионистическую взвинченность, нервозность, обращение к миру уродливых, отталкивающих, патологических явлений». Хренников заявил, что влияние формализма отчетливо заметно среди молодых композиторов, особенно студентов Московской консерватории, и это, очевидно, связано с тем фактом, что в ней обучают такие «формалисты», как Шостакович и Мясковский, а Шебалин даже занимает пост директора. «Такие студенты консерватории, как Галынин, Чугаев, Борис Чайковский (ученики Шостаковича. — К. М.) красноречиво демонстрируют в своем творчестве губительное влияние формализма»[37].
С 19-го по 25 апреля проходил 1 Всесоюзный съезд композиторов СССР. Открытый двумя вступительными докладами — отсутствующего в зале Бориса Асафьева (текст был зачитан композитором Владимиром Власовым) и Тихона Хренникова, он стал поворотным пунктом в истории музыкальной культуры Советского Союза и оказал серьезное влияние на музыку остальных стран так называемой народной демократии. На съезде выступили около ста композиторов и музыковедов из разных республик и представители других творческих союзов. В президиуме съезда заняли место несколько десятков человек, и среди них композиторы (преимущественно авторы массовых песен), в том числе В.Соловьев-Седой, И.Дунаевский, М. Коваль, И.Дзержинский, а также музыковеды, в частности Б. Ярустовский. о котором в то время шутили, что он лучший чекист среди музыковедов и лучший музыковед среди чекистов. Вначале Василий Соловьев-Седой предложил выбрать «почетный президиум» съезда, в состав которого должно было войти
[288]
все Политбюро ВКП(б) во главе со Сталиным. Разумеется, предложение было принято единогласно, а аплодисменты после его утверждения длились несколько минут.
В течение семи дней участники съезда состязались в произнесении заезженных фраз на тему об исторической роли партии. Сталина. Жданова и постановления об опере «Великая дружба». С трибуны раздавались нескончаемые обвинения в адрес упомянутых в этом документе композиторов и всех тех, чья деятельность каким-либо образом была с ними связана. Постепенно количество «формалистов» росло, поскольку вслед за постановлением от 10 февраля во всех союзных республиках вышли постановления, обличающие местных композиторов.
«Виновных» стали допускать на трибуну лишь с четвертого дня съезда, когда перед его участниками предстал Мурадели. На следующий день выступил Хачатурян, а Шостаковичу предоставили слово на шестой день. В своем выступлении, которого все ожидали с огромным напряжением, автор Ленинградской симфонии, в частности, сказал:
«Прежде всего я должен извиниться перед делегатами Съезда, что я не являюсь хорошим оратором. Однако я считаю невозможным в дни, когда все мои товарищи напряженно работают над тем, чтобы найти конкретные пути выполнения указаний, данных нам Центральным Комитетом, не принять в этом посильного участия.
<...> ...Как бы мне ни было тяжело услышать осуждение моей музыки, а тем более осуждение ее со стороны Центрального Комитета, я знаю, что партия права, что партия желает мне хорошего и что я должен искать и найти конкретные творческие пути, которые привели бы меня к советскому реалистическому народному искусству.
Я понимаю, что это путь для меня нелегкий, что начать писать по-новому мне не так-то уж просто, и, может быть, это произойдет не так быстро, как этого хотелось бы мне и, вероятно, многим моим товарищам. Но не искать эти новые пути мне невозможно, потому что я — советский художник, я воспитан в советской стране, я должен искать и хочу найти путь к сердцу народа»[38].
Подводя итог дискуссии, Хренников заявил: «Сегодняшнее выступление Д. Д. Шостаковича показывает, что Дмитрий Дмитриевич очень хорошо и по-настоящему проникновенно продумал свою будущую деятельность в области музыки.
[289]
(Голоса: Правильно, правильно! Аплодисменты.) Это выступление резко отличается, скажем, от ни о письма, которое прислал в президиум В.Я.Шебалин (Голоса: П р а в и л ь н о! Аплодисменты.) и которое заполнено общими декларативными фразами»[39].
I Всесоюзный съезд композиторов закончился принятием текста письма Сталину со словами признательности за заботу о развитии музыкальной культуры. В руководство Союза композиторов были единогласно выбраны Борис Асафьев на должность председателя - - и Тихон Хренников — на должность генерального секретаря. После смерти Асафьева в январе следующего года место председателя уже никогда никем не занималось, и Хренников фактически встал во главе организации и оставался на этом посту до конца существования Советского Союза. Он умел приспосабливаться к любой политической ситуации и был равно хорош и в последние годы сталинского террора, и в период хрущевской «оттепели», и в бездушную эпоху Брежнева, и во время перестройки Горбачева. Сменялись только его заместители и подчиненные, обычно привлекавшиеся к ответственности за практическое выполнение указаний своего начальника. Композитор Богословский заметил в 1990 году: «Недавно я подсчитал, кто из деятелей всего мира и разных эпох дольше занимал руководящее положение. 1. Людовик XIV... — 72 года. 2. Австрийский император Франц-Иосиф — 68 лет. 3. Английская королева Виктория — 64 года. 4. Японский император Хирохито — 62 года. 5. И наконец, наш Тихон Хренников — 42 года. Нет в нашей стране человека, который занимал бы руководящий пост так долго»[40].
После съезда на страницах газет появился целый ряд критических статей, посвященных советской музыке в свете постановления от 10 февраля. Больше всего писали о Прокофьеве и Шостаковиче.
Композитор Мариан Коваль опубликовал в трех номерах «Советской музыки» политический донос, содержавший сокрушительную критику творчества Шостаковича в целом, начиная с его юношеских Фантастических танцев. По мнению Коваля, уже в Первой симфонии, хотя и свидетельствующей о несомненных способностях автора, обнаруживалось пагубное влияние «Петрушки» Стравинского. Бессмысленные диссонансы и какофония остро проявились в Первой сонате для фортепиано, в «Афоризмах» и особенно в опере «Нос». Вся ненависть Кова-
[290]
ля выплеснулась в оценке «Леди Макбет» и никому не известной, изъятой композитором Четвергом симфонии. О Пятой симфонии Коваль писал, что «искренность и правдивость смогла ослабить формалистические путы, владеющие композитором», но что симфония «была некритически перехвалена». Раздел о Шестой симфонии назывался «Назад, к формализму». ее первая часть была охарактеризована как «дорога никуда», скерцо — как производящее «впечатление отлично сделанных шумовых пустоцветов», а третья часть — как «симфоническая клоунада» и «откровенный галоп — канкан, переложенный с джаз-оркестра на симфонический». (В 1940 году тот же Мариан Коваль оценивал симфонию очень положительно.) В Ленинградской симфонии удачной ему показалась только первая часть. «...Приходится признать, — продолжал критик. — что Чайковский не в самом сильном своем произведении — увертюре "1812 год" — по основам своего творческого метода стоит на более верных позициях, чем Шостакович в 7-й симфонии. А если эту симфонию сравнить с Героической Бетховена, то порочные основы творческого метода Шостаковича становятся особенно явственными». Восьмую симфонию автор статьи считал произведением, стоящим на крайне низком идейном уровне. А что касается Девятой симфонии (которая для Асафьева с недавних пор сделалась «оскорбительной»[41]), то еще на собрании московских композиторов она послужила Ковалю поводом для такого высказывания: «Каким же карликом показал себя Шостакович среди величия победных дней!» Несмотря на такое отношение к достижениям Шостаковича, критик завершил свою статью пожеланием композитору «поскорее открыть новую главу в его творческом пути»[42].
Из всего бесчисленного количества опубликованных в то время пасквилей и доносов хочется еще процитировать слова поэтессы Веры Инбер: «Я очень люблю музыку, но я не могу себе представить такое душевное состояние, при котором мне захотелось бы слушать произведения Шостаковича»[43].
Осенью 1948 года Шостаковича лишили звания профессора Московской и Ленинградской консерваторий, причем довольно своеобразным способом. Приехав в Ленинград, композитор прочел на доске объявлений в консерватории, что он уволен за «низкий профессиональный уровень». В Москве же ему попросту не выдали на проходной ключ от аудитории.
[291]
С этого времени у Шостаковича наступило характерное раздвоение. С одной стороны, он замкнулся в себе и почти ни с кем не поддерживал дружеских контактов. Некоторых его друзей уже не было в живых, другие были арестованы, а кое-кто отдалился сам. С другой стороны, он. как никогда прежде, держался на виду. Выступал на собраниях, поспешно и нервно зачитывая подсунутые ему тексты, которые он не только не писал, но и не видел прежде. Не читая, подписывал обращения и политические воззвания. События 1948 года оставили его таким невозмутимым, что можно было подумать, будто он был лишь пассивным их наблюдателем. Он не реагировал ни на исчезновение из концертной жизни почти всех своих произведений, ни на бесконечные «письма трудящихся», осуждающие в прессе его музыку, ни даже на то, что дети в школе должны были узнавать об «огромном ущербе», который Шостакович нанес советскому искусству.
И только позднее, для себя, «в стол», он сочинил оригинальное произведение для голоса, хора и фортепиано под названием «Антнформалистический раёк»[44]. В нем он высмеивал Сталина и раболепных организаторов антиформалистской кампании 1948 года: Жданова, Асафьева и еще нескольких, которые в этом сочинении выступают под именами Единицына, Двойкина и Тройкина. В «Райке» есть поэтому и цитата из песни «Сулико», и неправильно акцентированная фамилия Римского-Корсакова — так, как ее произносил Шепилов[45]. Во введении к партитуре упомянут один из преследователей Шостаковича, музыковед Павел Апостолов (в партитуре Опостылов). Есть в этом своеобразном документе тех страшных лет и «музыкальный чекист» Борис Ярустовский, и много других намеков, цитат и аналогий.
Опубл.: Мейер К. Шостакович. Жизнь. Творчество. Время. СПб.: DSCH – Композитор, 1998. С. 183-201, 277-291.
размещено 17.04.2008
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Цит. по: Graeter M. Konzertfuehrer Neue Musik. Frankfurt am Main, 955 S. 166.
[2] История русской советской музыки. Т. 2. М., 1959. С. 12, 228.
[3] С. Н. Гисин был заместителем директора Большого театра.
[4] Цит. по: Михеева Л. История одной дружбы // Советская музыка. 1987. № 9. С. 79.
[5] Radamski S. Der verfolgte Tenor: Mein Saengerleben zwischen Moskau und Hollywood. Muenchen, 1972. S. 214 — 215.
[6] Давид Иосифович Заславский (1880 — 1965) — журналист, которого Ленин еще до революции назвал «известным клеветником» и «пером шантажиста по найму». Был доверенным лицом Сталина и по его поручению публиковал разные статьи, в том числе против Горького в 1935 г. Одной из последних статей Заславского был пасквиль, развязавший в 1958 г. кампанию против Бориса Пастернака в связи с романом «Доктор Живаго». Заславский умер заслуженным и уважаемым сотрудником «Правды».
[7] Хентюва С. М. В мире Шостаковича. С. 121.
[8] Там же.
[9] Атовмьян Левон. Из воспоминаний // Музыкальная академия. 1997. №4. С. 71.
[10] Все цитаты взяты из статьи: Творческая дискуссия в Ленинградском Союзе советских композиторов // Советская музыка. 1936. № 5.
[11] Radamski S. Op. cit. S. 215 — 217.
[12] Письмо от 29 февраля 1936 г. Цит. по: Михеева-Соллертинская Л. Д.Д.Шостакович в отражении писем к И. И. Соллертинскому: Штрихи к портрету // Д. Д. Шостакович: Сборник статей к 90-летию со дня рождения. СПб., 1996. С. 98.
[13] Речь идет о встрече известного в те годы советского журналиста Михаила Кольцова с Андре Мальро.
[14] Цит. по: Два письма Сталину // Литературная газета. 1993. 10 марта.
[15] Гусева Л. Весь для людей // Маршал Тухачевский. М., 1965. С. 156.
[16] Цит. по: Нестьев И. Жизнь С. Прокофьева. М., 1973. С. 386.
[17] Атовмьян Левон. Из воспоминаний. С. 71 — 72.
[18] В 1936 — 1952 гг. появилось шесть разных сообщений о смерти Горького, в которых представлены три различные версии убийства.
[19] Цит. по: Вишневская Г. Галина: История жизни. М., 1991. С. 251.
[20] Карл Бернгардович Радек (собств. Собельсон, 1885 — 1939) — революционер, соратник Ленина. После ареста в 1936 г. Сталин гарантировал ему помилование в обмен на предоставление прокуратуре сведений, подтверждающих виновность Бухарина и Рыкова. Несмотря на выполнение этого требования, Радек был осужден на 10 лет тюрьмы, затем переведен в лагерь и там убит уголовниками.
[21] Przekroj. 1989. 17 wrzesnia.
[22] Гликман И. «...Я все равно буду писать музыку» // Советская музыка. 1989. № 9. С. 45.
[23] Хентова С. Шостакович. Т. 1. С. 435.
[24] Там же. С. 439.
[25] Гликман И. Цит. соч. С. 47.
[26] Рукописи этих трех симфоний не найдены и по сей день.
[27] Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б). М., 1948. С. 170.
[28] «...Уцелел, потому что смеялся»: Беседа с Никитой Богословским //
Огонек. 1990. № 45. С. 27.
[29] Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б). С. 21, 24.
[30] Там же. С. 20, 21.
[31] Советская музыка. 1948. № 1. С. 4 — 8.
[32] Максим Шостакович о своем отце // Время и мы. 1982. № 69. С. 183.
[33] Вишневская Г. Цит. соч. С. 262.
[34] Советская музыка. 1948. № 1. С. 66 — 67.
[35] Поэма о Родине, ор. 74, — второстепенное произведение Шостаковича. Сочиненное по случаю тридцатилетия Октябрьской революции, оно является не столько оригинальной композицией, сколько попурри из массовых песен Александрова, Атурова, Дунаевского, Мурадели и собственных песен
Шостаковича.
[36] Цит. по: Житомирский Д. На пути к исторической правде // Музыкальная жизнь. 1988. № 13. С. 5.
[37] Все цитаты заимствованы из публикации этого выступления в журнале «Советская музыка» (1948, № 1, с. 54 — 62).
[38] Первый всесоюзный съезд советских композиторов: Стенографический
отчет. М., 1948. С. 343.
[39] Первый всесоюзный съезд советских композиторов. С. 355.
[40] «...Уцелел, потому что смеялся». С. 28.
[41] Так Асафьев выразился в своем докладе на съезде композиторов.
[42] Коваль М. Творческий путь Шостаковича // Советская музыка. 1948.
№ 2 — 4.
[43] К новому подъему советского искусства: Собрание московских писателей // Литературная газета. 1948. 3 марта.
[44] К работе над «Райком» композитор возвращался неоднократно. Первый, самый большой фрагмент он сочинил непосредственно после событий 1948 года.
[45] Очередной фрагмент произведения появился в 1950-е гг.. вскоре после II съезда Союза композиторов, на котором выступавший с официальной речью партийный и государственный деятель, член-корреспондент Академии наук СССР (!) Дмитрий Шепилов показал поразительное невежество, постоянно делая неправильное ударение в фамилии Римского-Корсакова.
(2.1 печатных листов в этом тексте
Голос Шостаковича
Фрагменты из книги И.Д. Гликмана «Письма к другу» (М. - СПб., 1993). Ему же принадлежат дословные комментарии, данные нами курсивом.
[1]
Знаешь, отчего я вписал в квартет партию фортепиано? Для того, чтобы самому ее исполнить и иметь повод разъезжать с концертами по разным городам и весям. Теперь уже глазуновцам и бетховенцам, которые ездят повсюду, без меня не обойтись! Вот я и погляжу на белый свет.
Мы оба без видимой причины рассмеялись.
Я спросил: «Ты не шутишь?»
Дмитрий Дмитриевич ответил: «Нисколько! Ты ведь заядлый домосед, а я в душе заядлый путешественник!»
И по выражению его лица было непонятно, шутит он или говорит вполне серьезно.
Я жалею, что ты не слыхал мою 8-ю симфонию. Я очень рад, как она прошла. Мравинский сыграл ее здесь [в Москве] 4 раза. 10-го декабря сыграет ее в 5-й раз. В Союзе советских композиторов должно было состояться ее обсуждение, каковое было отложено из-за моей болезни. Теперь это обсуждение состоится, и я не сомневаюсь, что на нем будут произнесены ценные критические замечания, которые вдохновят меня на дальнейшее творчество, в котором я пересмотрю свое предыдущее творчество и вместо шага назад, сделаю шаг вперед.
Твоя дружба помогает мне жить. А характер у меня мерзкий, скверный. Друзья это должны помнить и прощать.
Во время моей болезни, вернее, болезней, я взял партитуру одного моего сочинения. Я просмотрел ее от начала и до конца. Я был поражен достоинствами этого сочинения. Мне показалось, что, сочинивши такое, я могу быть горд и спокоен. Я был потрясен тем, что это сочинение сочинил я.
Можно не без основания предположить, что Шостакович имел в виду Восьмую симфонию.
У меня к тебе просьба: узнай, пожалуйста, где находится Галя Уствольская. Вернулась ли она в Ленинград и здорова ли? У меня к ней целый ряд дел. Я ей много писал и телеграфировал. Зная ее аккуратность, беспокоюсь из-за отсутствия известий. Если это тебя не очень обременит, то узнай: где она и здорова ли?
Всем, кто меня любил, принадлежит моя любовь. Всем, кто мне делал зло, шлю свое проклятье.
Распятый с двумя разбойниками Христос, учитывая предсмертное покаяние разбойника, решил взять его с собой в Царствие небесное. Его предсмертное покаяние перевесило чашу весов, на другой чаше которых находи-
[2]
лись жестокие злодеяния разбойника. «Тяготение от лжи», как ты пишешь, заставило тебя высоко оценить лицо, тяготящееся ложью. Прав ли ты, прав ли в аналогичном случае Христос? Вероятно, оба вы правы. Прав и я, когда думал о том, что автор ряда мелодичных и изящных произведений, существо до некоторой степени человекоподобное.
Я аккуратно посещаю репетиции моей оперетты. Горю со стыда. Если ты думаешь приехать на премьеру, то советую тебе раздумать. Не стоит терять время для того, чтобы полюбоваться на мой позор. Скучно, бездарно, глупо. Вот все, что я могу тебе сказать по секрету.
Имеется в виду «Москва-Черемушки». — Ред.
...написал никому не нужный и идейно порочный квартет. Я размышлял о том, что если я когда-нибудь помру, то вряд ли кто напишет произведение, посвященное моей памяти. Поэтому я сам решил написать таковое. Можно было бы на обложке так и написать: «Посвящается памяти автора этого квартета». Основная тема квартета [—] ноты D. Es. С. Н., т. е. мои инициалы (Д.Ш.). <...> Приехавши домой, раза два попытался его сыграть, и опять лил слезы. Но тут уже не только по поводу его псевдотрагедийности, но и по поводу удивления прекрасной цельностью формы. Но, впрочем, тут, возможно, играет роль некоторое самовосхищение, которое, возможно, скоро пройдет и наступит похмелье критического отношения к самому себе.
Имеется в виду Восьмой квартет. — Ред.
«Поспелов всячески уговаривал меня вступить в партию, в которой при Никите Сергеевиче дышится легко и свободно. Поспелов восхищался Хрущевым, его молодостью, он так и сказал — "молодостью", его грандиозными планами и мне необходимо быть в партийных рядах, возглавляемых не Сталиным, а Никитой Сергеевичем. Совершенно оторопев, я, как мог, отказывался от такой чести. Я цеплялся за соломинку, говорил, что мне не удалось овладеть марксизмом, что надо подождать, пока я им овладею. Затем я сослался на свою религиозность. Затем я говорил, что можно быть беспартийным председателем Союза композиторов [России] по примеру Константина Федина и Леонида Соболева, которые, будучи беспартийными, занимают руководящие посты в Союзе писателей. Поспелов отвергал все мои доводы и несколько раз называл имя Хрущева, который озабочен судьбой музыки, и я обязан на это откликнуться. Я был совершенно измотан этим разговором. При второй встрече с Поспеловым он снова прижимал меня к стенке. Нервы мои не выдержали, и я сдался.
<...> В Союзе композиторов сразу узнали о результате переговоров с Поспеловым, и кто-то успел состряпать заявление, которое я должен как попугай произнести на собрании. Так знай: я твердо решил на собрание не являться. Я тайком приехал в Ленинград, поселился у сестры, чтобы скрыться от своих мучителей. Мне все кажется, что они одумаются, пожалеют меня и оставят в покое. А если это не произойдет, то я буду сидеть здесь взаперти...».
В начале 60-х гг. П.Н.Поспелов — член Бюро ЦК по РСФСР. Рассказ Д.Д.Шостаковича приводится в кавычках, ибо это именно рассказ (а не письмо!), текстуально записанный И.Гликманом. — Ред.
Побывав недавно в Киргизии и находясь сейчас в Армении, прихожу к убеждению, что нет ничего прекраснее Земли. Беспрерывно вспоминаю «Песню о земле» Малера, но пока лишь в неясных мечтаниях.
Болезнь приковала меня к даче. Я никуда не хожу и стараюсь побольше гулять. В жизни все приходит к концу. Видимо, я кончаюсь, как композитор. Никак не могу написать музыку к кинофильму «Карл Маркс». Рошаль неистовствует. Пишу же я тебе вот по какому поводу. В четвертом номере журнала «Советская музыка» напечатана безусловно очень хорошая статья С.Слонимского о «Казни Степана Разина». Если тебе попадется этот журнал, прочти эту статью.
В четвертом номере журнала «Октябрь» есть статья А.Дремова, которая называется «Начало положено. А дальше?..» В этой статье подвергается вдохновляющей критике творчество Е.Евтушенко, в особенности его спекулятивное стихотворение «Бабий Яр». Почитай и расширь свой кругозор.
Речь идет о публикациях 1965 года. — Ред.
А.И.Хачатурян уже делился со мной своими впечатлениями о сценарии. Он высоко его оценивает. Правда, он считает, что недостаточно внимания уделено Историческому Постановлению об опере «Великая дружба». Он хочет внести в сценарий такого рода кадры: Историческое Постановление выходит и действует, а композитор в
[3]
это время сочиняет Скрипичный концерт и «Еврейские песни». Это соответствует исторической правде.
Речь о документальном фильме к 60-летию Д.Д.Шостаковича. — Ред.
Спасибо тебе за письмо, за твои суждения о «Казни Степана Разина». Все, что ты пишешь об этом opus"e, мною было так и задумано.
Не совсем так я представлял себе то место, где лихо играют дудочники, специально приглашенные на это мероприятие. Я думал, что народ на площади не заплясал, согласно данному ему указанию («Что, народ, стоишь, не празднуя? Шапки в небо и пляши»). Заплясали лишь артисты Ансамбля песни и пляски того времени. Народ же застыл в ужасе.
В этом шутливом названии дудочников дается проекция на нашу современность.
Перед тем как сесть за обеденный стол, он неожиданно попросил у Веры Васильевны гвоздь и молоточек, вытащил из кармана десятирублевый банкнот и приколотил его к стене. «Это для того, — сказал он, улыбаясь, — чтобы у вас всегда водились деньги». Дмитрий Дмитриевич с уважением относился к обрядам, преданиям, приметам, хотя и не был суеверен, как Пушкин.
Вера Васильевна — жена И.Гликмана. Описывается приход Шостаковича в новую квартиру друзей. — Ред.
Только что я закончил 2-й концерт для виолончели с оркестром. Т. к. в этом произведении нету литературного текста и программы, то затрудняюсь хоть что-либо написать об этом opus"e.
По размерам он длинный. В нем три части. 2-я и 3-я части идут без перерыва. Во второй части и в кульминации третьей имеется тема, очень похожая на одесскую песню «Купите бублики»! Никак не сумею объяснить, чем это вызвано. Но очень похоже. Когда сочинял, то, конечно, думал об изумительном М.Ростроповиче. Рассчитываю на его исполнение.
В «Новом мире» № 3 напечатана повесть Чингиза Айтматова «Прощай, Гюльсары!». Почти вся повесть произвела на меня огромное впечатление. Обязательно прочти.
Видимо, Ч.Айтматов обладает огромным талантом. Д.Ш.
Очень советую тебе достать журнал «Простор» №№ 7 и 8 за 1966 год и почитать напечатанную в этих номерах повесть Марка Поповского «1000 дней академика Вавилова». Действующие лица этой повести академики Н.И.Вавилов, Т.ДЛысенко, Б.М.Завадовский и ряд других деятелей биологической науки, как то И.И.Презент и др. Читается с волнением и даже с ужасом.
Не наблюдая в течение 18 дней никакого улучшения в моей способности ходить по лестницам, мы, проф. Работалов и я, пришли к согласию, что мне стало значительно лучше и что я могу бодро и радостно идти домой.
Весь текст письма, касающийся болезни, представляет собой блестящую по сарказму и вместе с тем горькую, как полынь, насмешку над бессилием именитых врачей...
Оглядываясь с высоты своего 60-летия на «пройденный путь», скажу, что дважды мне делалась реклама («Леди Макбет Мценского уезда» и 13-я симфония). Реклама, очень сильно действующая. Однако же, когда все успокаивается и становится на свое место, получается, что и «Леди Макбет» и 13-я симфония фук, как говорится в «Носе».
«Фук» — словечко гоголевского Собакевича, означающее вздор, пустяк.
Благодаря большому количеству свободного времени, на меня наваливаются в большом количестве воспоминания. Я много думаю об ушедшем навсегда времени, об ушедших навсегда людях, друзьях, знакомых. Но лучше иметь мало свободного времени, тогда воспоминания не беспокоят. Но, Боже мой, какое изумительное явление — эти воспоминания.
Завтра мне исполнится 62 года. Люди такого возраста любят пококетничать, отвечая на вопрос «если бы вновь родились, то как бы вы провели ваши 62 года, как и эти?» — «Да, конечно, были неудачи, были огорчения, но в целом я провел бы эти 62 года так же».
Я же на этот вопрос, если бы он мне был поставлен, ответил бы: «Нет! Тысячу раз нет!»
Как много среди негениальных поэтов настоящих больших художников. Я говорю о Кюхельбекере, над которым смеялись его современники и даже Пушкин. Выйду из больницы, буду изучать негениальных писателей и поэтов.
Вопросам любви я уделил внимание хотя бы в «Крейцеровой сонате» на слова Саши Черного. Вопросами смерти я не занимался. Накануне ухода в больницу я
[4]
прослушал «Песни и пляски смерти» Мусоргского, и мысль заняться смертью у меня окончательно созрела.
Я бы не сказал, что я смиряюсь перед этим явлением. Вот и стал я подбирать стихи. Подбор стихов возможно случайный. Но мне кажется, что музыкой они объединены. Писал я очень быстро. Я боялся, что во время работы над 14-й симфонией со мной что-нибудь случится, например], перестанет окончательно работать правая рука, наступит внезапная слепота и т. п. Эти мысли меня изрядно терзали. Но все обошлось благополучно.
Подобные страхи Шостакович неоднократно испытывал в процессе сочинения очередного произведения.
...прошу тебя прочитать повесть Чингиза Айтматова «Белый пароход». Эта повесть напечатана в журнале «Новый мир» N° 1 за 1970 год. Мне показалось, что это великолепное произведение. Думается мне, что Айтматов является одним из самых сильных прозаиков в нашей стране, да и во всем мире.
Стравинского-композитора я боготворю.
Стравинского-мыслителя презираю.
Огромный интерес к автору «Петрушки» и «Весны священной» Дмитрий Дмитриевич... как бы материализовал в фотопортрете Игоря Федоровича, который лежал у него под стеклом на письменном столе московской квартиры... Но Дмитрия Дмитриевича ужасно огорчал чудовищный эгоцентризм Стравинского...
Я очень соскучился по тебе и, как ни странно, по Ленинграду.
Когда я в кино или по телевидению вижу Неву, Исаакия и т. д., у меня набегают слезы на глаза.
Я как-то был в Москве на «Трех сестрах». В этом спектакле звучал избитый романс времен Чехова, и представь себе, что эта музыка, которая сама по себе ничего не стоит, произвела на меня большое впечатление. Произошло это потому, что она была на своем месте.
Пьер Булез, занявший в Нью-Йорке пост Леонарда Бернстайна, делает очень много для пропаганды классической и современной музыки. Кстати сказать, с ним у меня произошел небольшой конфуз. Это случилось на банкете. Представь себе, что сверхмодернист Булез подошел ко мне, схватил мою руку и поцеловал ее, а я от неожиданности не успел ее выдернуть. Вот какой произошел конфуз.
«Кто сомневается, тот уже совершает грех против сталинской религии. Грешник мог спастись только при помощи покаяния.
И меня, как ты помнишь, после "Сумбура вместо музыки" начальство уговаривало покаяться и искупить свою вину.
А я отказался каяться <...>
Вместо покаяния я писал Четвертую симфонию».
Вновь текстуально записанный И.Гликманом рассказ. — Ред.
Мне трудно судить о Микеланджело, но, как мне кажется, главное вышло. А главное в этих сонетах мне показалось следующее:
Мудрость, Любовь, Творчество, Смерть, Бессмертие.
Публикуется по: Музыкальная академия. 2006. №3. С. 1 - 4.
Марк АРНОВСКИЙ. Вызов времени и ответ художника
[15]
У искусствознания, как и у самого искусства, есть свои «вечные темы». Одна из наиболее распространенных — Художник и Время. В самом деле, что может быть естественнее, чем начать исследование творчества художника с выяснения его отношений с современностью, эпохой? Такой подход мы привыкли называть историзмом, испытывая к нему вполне оправданное почтение. И все же он нередко расставляет нам капканы, в которые мы попадаем легко и даже с известной готовностью. Вот только один пример. Мусоргский, Римский-Корсаков и Чайковский жили в одной стране и в одно и то же время, но при этом создали три совершенно различные «картины мира». Когда мы смотрим на Россию сквозь призму творчества Римского-Корсакова, то видим одну страну; когда судим о ней по музыкальным драмам и песням Мусоргского — совершенно другую, а Россия Чайковского вообще предстает, мало связанной как с той, так и с другой — как некая третья. Выходит, что одновременно на одной и той же территории сосуществовали как бы «три России» — подобно тому, как в фантастических романах в одном месте и в одно время развертываются совершенно разные «параллельные миры». Между тем, сам по себе этот факт нас не удивляет, хотя он достоин удивления. Более того, рассматривая «одну Россию», например Чайковского, мы настолько углубляемся в нее, что она становится для нас как бы «единственной», исчерпывая представление о России и «отодвигая» в сторону другие, например, полностью ей противоположную Россию Римского - Корсакова. Но не так ли мы поступаем, когда думаем о «Петербурге Достоевского» или «Москве Островского»? Это вообще типичный для искусствоведения способ видения исторической реальности сквозь призму искусства. Но в таком случае закономерен вопрос: что и посредством чего мы объясняем — художника через его эпоху или же эпоху через творчество художника?
Неоспоримо, что между художником и его эпохой возникают сложные, напряженные, многоэтапно опосредованные отношения. Художник всегда управляет нашим сознанием, и та реальность, которую он развертывает перед нами, является не просто виртуальной, воображаемой, рожденной его фантазией, но незаметно для нас самих превращается в «факт истории», в источник интерпретации эпохи и страны. Россия «Шинели» Гоголя, «Братьев Карамазовых» Достоевского, «Войны и мира» Толстого существует для нас отнюдь не как авторский вымысел, как принадлежность определенных текстов (скажем, наподобие реальности детективных романов, не выходящей за пределы обложки), но как подлинная, существовавшая в действительности; она как бы покидает границы текстов и распространяется на реальное российское пространство, населяя его своими персонажами и означивая его их судьбами. Другими словами, наше представление об истории страны в непоследней степени формируется искусством, в том числе музыкой.
Своего рода перевод образов мира, созданного искусством, в систему представлений о мире реальном свидетельствует о власти искусства над нашим сознанием, о переходе факта искусства в «факт истории». Мы говорим: «байронический герой», «маленький человек», «лишние люди», «чеховский персонаж», и каждое из этих клише становится обозначением реального типа человека, существовавшего в то или иное историческое время. Как это ни парадоксально, но историзм в подходе к искусству означает не столько изучение искусства с точки зрения исторических реалий, сколько проекцию искусства на историческую действительность. Мы об -
[16]
ращаемся к документам эпохи не для того, чтобы понять, каким должно было быть искусство, а чтобы объяснить, почему оно стало таким, а не иным. Другими словами, мы априори исходим из справедливости той «картины мира», которая предстает перед нами в творчестве того или иного художника, и стремимся понять его реальные мотивы.
Все эти рассуждения имеют самое непосредственное отношение к интерпретации творчества Шостаковича. Как было сказано выше, композитор на наших глазах переступил черту, отделявшую его от истории. Дело, однако, не только в том, что ушел из жизни художник, — ушла в историю сама эта жизнь, и теперь мы должны говорить о нем и его эпохе в категориях исторического исследования.
Кем же был Шостакович для своей современности? Какой «портрет эпохи" он нарисовал? И сколь адекватен оказался этот «портрет» реальности?
Не забудем, что одновременно были и другие. Даже советское время, несмотря на унификацию идеологии, не смогло отменить естественный для искусства закон "разно-гласия", даже в условиях идеологических репрессий продолжали сосуществовать различные «параллельные миры». Но когда Мясковский мучался сомнениями, метался между «объективным» и «субъективным» типами творчества, а Прокофьев продолжал верить в аполлонический идеал искусства, требующий дистанции по отношению к жизни, только Шостакович не побоялся максимально приблизиться к той неприглядной реальности, что вызывала страх и отвращение, и сделать создание ее беспощадного по точности обобщенно - символического изображения делом и долгом своей жизни как художника.
«ТРАГИЧЕСКИЙ ПОЭТ»
Каждый большой художник несет в себе некую тайну, разгадать которую заманчиво, но вряд ли до конца возможно. Важно, однако, попытаться хотя бы приблизиться к разгадке. У Шостаковича, жившего и выжившего в обстановке репрессий, тайн — и больших, и малых, — видимо больше, чем у кого-либо из художников XX века. Но есть одна, которая заставляет задумываться над многообразием отношений между творцом искусства и его временем. Как правило, исходные интенции творчества и сфера тех конечных метафизических выводов, к которым приводит творчество того или иного композитора, совпадают. Бах посвящал свой труд Богу, и потому нет ни малейшего различия между исходными стимулами творчества и конечным смыслом его музыки. Бетховен же отдал себя служению человечеству, рассматривая его предназначение в системе этико - космогонических (утопических по своей сути) воззрений; и здесь мы не найдем рассогласования между причинами и следствиями. Чайковского интересовала отдельная личность в ее смертельном поединке с судьбой. Число подобных примеров легко увеличить.
Мы, разумеется, далеки от того, чтобы утверждать, что подобное согласие у Шостаковича не встречается — встречается, и многократно. И все же перед нами особый случай. В музыке Шостаковича нередко ощущался некий мгновенно преодолеваемый «разрыв» между почти злободневным, узнаваемым содержанием музыки и тем ее конечным, обобщенным метафизическим смыслом, к которому она увлекала восприятие. Сегодняшнее бытие оказывалось измеренным по шкале вечных ценностей. И думается, что тайна Шостаковича состоит именно в этом мгновенном прохождении пути от сегодня к всегда. Это тем более удивительно, что речь шла о реальной жизни страны, которая выпала из исторического времени и оказалась вне общего культурного пространства, то есть об абсурдном исключении, о котором многие русские художники (особенно, Зарубежья) предпочитали вообще не рассуждать, поскольку речь шла, как они полагали, о явлении сугубо временном и к тому же густо замешанном на преступлении. Но Шостакович жил в Советском Союзе и понял сложившуюся здесь ситуацию как трагедию страны и народа, как характерный для своего времени тип человеческого бытия, который заслуживает нравственной оценки, а значит, и художественного исследования. И оказался прав. А то, что воспринимается в качестве трагедии, только как трагедия и может быть воссоздано.
Вполне тривиальна мысль о том, что каждый художник ведет особый диалог со своим временем, но характер детерминированности его творчества эпохой, «привязанности» к ней во многом зависят от свойств его личности. Если Прокофьев излучал здоровье и оптимизм, а Стравинский демонстрировал спокойствие олимпийца, то Шостакович жил бедами и болями своего времени, аккумулируя в себе, кажется, все его катастрофы. Его музыка — великий плач по человеческой судьбе в этом чудовищном по злодеяниям XX веке. Разумеется, Шостакович не был исключением. Злодеяния столетия имели планетарный масштаб, и потому искусство нашего века в целом преимущественно трагично. Но многое зависело от личности художника (речь идет, разумеется, о тех, кто занимался серьезным искусством). Человек со столь ранимой психикой и обостренной реакцией на ужасы современности не мог писать эпически спокойные полотна. Самой своей природой он был обречен стать великим «трагическим поэтом», как назвал его Соллертинский. Трагический уклон имела уже Первая, юношеская симфония. Ее образы отнюдь не безоблачны, а в финале слышатся завывания инфернальных вихрей. Не приходится доказывать трагический смысл Четвертой симфонии, финал которой начинается с траурного марша. Бесспорно, трагична и концепция Пятой, несмотря на попытки отнести ее к «оптимистическим» сочинениям. Ни у кого не вызывает сомнения трагический пафос Седьмой, хотя к этому понятию принято присоединять и другое — «героический». Но едва ли не самой трагической (если корректно говорить в данном случае о степени) справедливо считается Восьмая симфония; по-видимому, это вообще одно из наиболее трагических творений искусства XX века, сравнимое разве что с «Герникой» Пикассо. Из списка трагических обычно исключают Шестую и Девятую симфонии, что, впрочем, вряд ли правомерно; думается, здесь мы сталкиваемся с особым и чрезвычайно характерным для Шостаковича методом косвенного, кривозеркального отражения трагического в гротесковом, а по сути — абсурдистском ключе. Постепенно акценты менялись; в трактовке трагического все сильнее проступало обобщенное, метафизическое начало; все чаще образ Смерти приобретал вселенские, апокалиптические масштабы, как это свойственно, скажем, Десятой симфонии, в скерцо которой, кажется, мчатся всадники из Откровения Св. Иоанна Богослова. В сущности, тема
[17]
конца человеческой жизни проходит через все творчество Шостаковича, являясь лейтмотивом наиболее значительных его сочинений. При этом образ Смерти появляется в разных обличьях — мифологизированном, метафорическом, символическом, но и в обытовленном, человечьем, и когда-то композитор неизбежно должен был посвятить ей отдельное сочинение. Таковым стала Четырнадцатая симфония. И здесь Смерть сменяет разные личины, но через весь этот мрачный маскарад проходит единая мысль, формулируемая в последней части как общий закон: «Всевластна Смерть». Не составила, думается, исключения и последняя, Пятнадцатая симфония, заключительные такты которой, с их затихающим перестуком ударных — словно слабеющим биением человеческого сердца, — кажется, предрекают скорый уход самого композитора...
Все это не означает, что в творчестве Шостаковича мы не найдем светлых страниц. К ним, как известно, принадлежат Первая прелюдия (до мажор), открывающая цикл из 24 прелюдий и фуг, Четвертый, Шестой квартеты. Из более раннего творчества можно вспомнить озорной Первый фортепианный концерт, цикл Прелюдий, а из более позднего — некоторые песни вокального цикла «Из еврейской народной поэзии» и многое другое. Напомним и то, что смолоду Шостаковичу были присущи озорство, дразнящая обывательские вкусы шутка, цирковая эксцентрика. Но жизнь все больше, все неумолимее вползала в гигантскую национальную катастрофу, устрашающе множились признаки всеобщей гибельной судьбы, сливаясь в единую черную полосу, пересекающую годы и десятилетия, и чуткий художник, естественно, не мог этого не заметить. Нарушался природный ход вещей. Смерть входила в каждый дом, входила будничной, отнюдь не торжественной, а скорее торопливой, греховной походкой преступника. То не был венчающий жизнь естественный конец, с которым человек, осознавший свою смертность, примирился еще на заре своего существования и который не мешал ему радоваться жизни и исполнять свой земной долг. Смерть стала кошмарной повседневной реальностью, почти бытовым явлением. Массовое уничтожение людей, разумеется, маскировалось, оправдывалось мнимыми причинами, пряталось за фасадом псевдоидеалов. Но объявленные цели и практика режима абсурдно не совпадали. Жизнь расслаивалась на «форму» и «содержание», при этом внешняя «форма» проповедовала и внушала людям одно, а «содержание», сама реальность свидетельствовала о совершенно противоположном. Для нормального человеческого сознания этот раскол жизни был нестерпимо мучителен, иссушал душу, и не случайно отсюда стремление его преодолеть, отторгнуть негативное, готовность ничего не видеть и не слышать, и охотно, подчас с внутренним облегчением, принимать ложь за правду, маску за подлинный лик. Человеческая психика просто не в состоянии постоянно, ежечасно и в течение долгих лет испытывать непрекращающееся давление отрицательных эмоций, это действует на нее губительно, и потому, как правило, срабатывает механизм самосохранения — маятник, устанавливающий душевное равновесие, начинает двигаться в противоположную сторону, чтобы достичь положительного полюса. Власть, не искушенная в тонкостях психологии, чисто инстинктивно конструировала этот «положительный полюс» на основе высоких идеалов общечеловеческого звучания как приманку для индивида и общества в целом. На этой основе и формировался «советский миф». Его суть заключалась не в ложности самих идеалов (что плохого, в конечном счете, в равенстве, справедливости и братстве?), а в том, что реальность им резко не соответствовала. Феномен homo soveticus, кроме всего прочего, состоял в том, что в его сознании провозглашаемые «идеалы» и полностью противоположное им представление о реальности существовали одновременно, не сливаясь и не пересекаясь, как два мира, сделанные один из материи, а другой из антиматерии. Это странное сосуществование, разумеется, максимально поддерживалось, с одной стороны, пропагандой, а с другой — репрессиями. Однако проблема личности (и, следовательно, ее трагедия) заключалась в возникавшем стремлении к вытеснению из сознания образа реальности и замене его искусственной «системой идеалов».
Здесь скрыты механизмы мифологизации сознания homo soveticus. Есть ложь, и есть миф, и они не тождественны. Ложь остается ложью лишь до тех пор, пока не выходит за границы случайного, единичного, но она превращается в миф, когда становится содержанием массового сознания, то есть обретает статус всеобщего. Тогда она функционирует уже в качестве квазиистины. Миф подменяет истину и скрывает завесой подлинную реальность. Сознательное фактически подавляется бессознательным, иррациональное заменяет рациональный анализ. Как показал К. Г. Юнг, в основе любого мифа, в том числе и современного, лежат архетипы коллективного бессознательного. Тоталитаристский миф не мог бы возникнуть и успешно конкурировать с сознанием, если бы не опирался на древнейшие милленаристские мифы (М. Элиаде) и не эксплуатировал бы извечную мечту человечества о Золотом веке, о рае на Земле. Временное затемнение сознания потому и оказалось возможным — и притом в массовом масштабе, — что возрождало древнейшие иррациональные стимулы, покоящиеся на архетипах бессознательного. И коль скоро такая связь возникала, было уже совершенно бесполезно апеллировать к разуму или к фактам, ибо миф всегда сильнее и разума, и фактов. Опровергнуть его может только сама история.
Когда миф закрепляется в сознании масс, ситуация обретает характер абсурда, по кривозеркальным законам которого живет и функционирует целое общество. В силу этого проблема самоопределения личности обретает общезначимый смысл. В индивидуальной судьбе, как в капле воды, отражалась вся тоталитарная система. Трагедия личности заключалась в необходимости выбора между сохранением своего Я и переходом в не - Я, а точнее, в Анти - Я. Переходом вынужденным, а иногда и добровольным. Если бы дело заключалось только в смене мировоззрения, то проблема ограничивалась рамками абстрактного конфликта, наподобие тех, которыми занимались романтики, то есть сферой чистой метафизики. Но все было куда серьезнее. За привлекательным фасадом мифа скрывалось царство зла, и потому переход на позиции Анти - Я объективно означал оправдание зла. Так конфликт индивидуального и массового мифологизированного сознания обретал смысл проблемы совести, то есть переключался в плоскость этического, а этические проблемы, возникавшие в связи с отношением к совершающемуся злу, еще со времен античности становились предметом жанра трагедии. В этом смысле
[18]
понятие трагического сохранило для XX века свой традиционный смысл, но имелось все же одно важное отличие: в условиях массового нарушения биологического закона существования, каким был геноцид, катартический финал с его аффектом морального «очищения» (Аристотель) был явно не уместен. Тем не менее оставалась проблема этического выбора — участия или неучастия в совершении зла. Если искать более близкие к XX веку прецеденты, нежели античная трагедия, то проблема ответственности человека за участие в злодеянии была поставлена еще Достоевским («Преступление и наказание», «Братья Карамазовы») и у него же оказалась связанной с идеей насильственного переустройства мира в соответствии с искусственно созданной и потому насквозь порочной идеей («Бесы»). Провидец Достоевский предсказал тот конфликт, который стал центральным и трагическим, по сути, для всего XX века: идея социальной организации была навязана огромным массам людей на широчайших пространствах мира, вызвав грандиозные катаклизмы, неисчислимые жертвы и глубочайшие нарушения в структуре личности. В силу этого проблема ответственности человека за совершаемое в мире зло обрела в нашем столетии особую остроту и актуальность. Распадение единого, целостного сознания личности на Я и Анти - Я в действительности являлось лишь проекцией в духовную сферу реального расчленения общества на «виновных» и «судей», «врагов народа» и сам «народ». В наше время уже не нужно доказывать, что это был один и тот же субъект, лишь менявший свои функции в заданной системе отношений. Одни и те же «широчайшие народные массы», которые только что «осуждали» «врагов народа», могли тут же сами оказаться в их положении, становясь по прихоти властей то жертвами, то палачами. Причем переход из одной категории в другую происходил с ускользающей от контроля сознания легкостью. Это означает, что сознание индивида не просто мирилось с таким переходом, но предполагало его возможность и было к нему морально подготовлено. Как писал Юнг, «всегда есть огромное искушение позволить коллективной функции заменить собой развитие личности»[1]. Но тот, «кто идентифицирует себя с коллективной психикой... дает проглотить себя чудовищу...»[2]. Трагедия раздвоенного Я заключалась в том, что чудовище иррационального, обладая для масс поистине демонической силой притяжения, замещало собой индивидуальное сознание. В результате эта сила выводила на историческую арену таившиеся в глубинах психики самые темные и разрушительные инстинкты, которыми власть умело управляла. Вследствие явного перекоса в сторону коллективного начала возникала своего рода «этика коллективизма», порождавшая боязнь индивидуального как «греховного». Впавший в «грех индивидуализма» подвергался публичному позору, остракизму, если не казни. История повторялась. Когда-то испанская инквизиция действовала сходными методами, осуждая людей, придерживавшихся образа мыслей, отличного от того, который предписывался отцами католической церкви[3]. Советская система, в сущности, не придумала ничего нового и лишь гипертрофировала масштабы преследований. Боязнь самостоятельного поступка, «отличия от других» пронизывала всего человека от стандартной одежды до стандартизированных мыслей. Стоявший за спиной страх оказаться вне коллектива создавал психологические предпосылки для самоцензуры вплоть до самоподозрения и самообвинения, что невероятно облегчало режиму проводить судебные процессы над «врагами народа» и вершить массовые репрессии. Всей практикой советской жизни человек был подготовлен к трансформации из «стахановца», «народного артиста», «главнокомандующего», «выдающегося ученого» во «врага народа». Вероятность такого — поистине кафкианского — превращения висела над каждым, как дамоклов меч, вызывая чувство постоянной тревоги, психической неустойчивости, неуверенности в завтрашнем дне. Отсюда столь заманчивое и как будто обещающее спокойствие и уверенность в будущем, инстинктивное желание перейти на позиции коллективной психики, отказаться от себя, от своего Я в пользу Анти - Я и надежно слиться с массой. Излишне доказывать, что то была только иллюзия, вызванная страхом и чувством самосохранения.
Раскол личности на Я и Анти - Я при постоянном подчинении Анти - Я стал подлинной трагедией Человека XX века, в которой в индивидуальном плане отразилась глобальная трагедия Мира. Эта трагедия и образовала ядро симфонических концепций Шостаковича.
Почему именно музыке оказалось под силу раскрыть с потрясающей глубиной психологического анализа конфликт раздвоенного Я, на какой не могла решиться, скажем, литература? Ответ прост: вследствие «понятийной немоты» музыки. По сравнению со словом, музыка обладала некоторым преимуществом свободного маневра. Слово привязано к своему значению, и хотя их связь относительна и может меняться в довольно широких пределах, все же она ничем отменена быть не может. Поэтому слово «выдает» мысль, как бы ее ни скрывать. К тому же в условиях тоталитарного режима слово было целиком ритуализировано, заведомо наполнено ложью. В результате возникало обратное соотношение между Словом и Мыслью: не Мысль управляла Словом, а, наоборот, Слово главенствовало над Мыслью. Извращение, таким образом, проникало в самый центр Человека, в сердцевину его Я — в область мышления. Снять коросту ритуализации и пробиться к живой, пульсирующей плоти слова было подчас совсем непросто. К тому же ее могло там вообще не оказаться. Слово лишалось истинного своего «хозяина» — значения, которое подменялось мнимым. Советская цивилизация была цивилизацией вымороченного слова. Все, что могло быть прочитано и понято, не было надежным с точки зрения соответствия реалиям или истине.
Конечно же, и музыка, притом весьма усиленно, подвергалась ритуализации, ее тоже стремились выхолостить, тем более, что оформлять ритуалы — ее давняя «профессия». И все же именно музыке в ряде случаев удавалось обойти препятствия, хотя для этого ей порой приходилось изобретать свой вариант «эзопова языка»... Вот почему задолго до того, как «двоемирие» homo soveticus было обнаружено журналистами, стало объектом внимания советологов, а затем и предметом изучения социологией и психологией, оно поселилось в музыке, а точнее — в музыке Шостаковича: в его симфониях — жанре, который самой своей историей был подготовлен для выполнения подобных художественных задач.
Надо, однако, признать, что для Шостаковича проблема «двоемирия». имела не просто творческое, но и
[19]
автобиографическое значение. По сути, все его творчество и вся его жизнь стали воплощением трагического раздвоения личности. По своей природе Шостакович был личностью чрезвычайно цельной и болезненно воспринимал любые вмешательства в его духовный мир. Вместе с тем он трезво отдавал себе отчет в том, в какой стране живет, а значит и в неизбежности подчинения жестоким правилам «ритуального поведения». И, надо признать, выбрал оптимальный вариант. Он предпочел скрытому, застенчиво-трусливому камуфляжу откровенное размежевание: кесарю — кесарево, а все остальное — искусству. Этим он давал ясно понять, каково подлинное назначение всех этих «Песен о лесах» или «Над Родиной нашей солнце сияет» и как именно следует к ним относиться. Шостакович, конечно, был «данником» режима, но не «вассалом». «Данью» он пытался «откупиться» и оградить территорию подлинного искусства от идеологических посягательств. На время это удавалось, но силы были слишком неравными, и расплата неизбежно настигала: за каждым новым приступом идеологической паранойи (1936, 1948) следовали периоды травли, забвения и материальных лишений.
И все же деление творчества на две неравные части — «для них» и «для себя» — было лишь внешним проявлением «двоемирия». Гораздо важнее то, что оно проникало в самую сердцевину музыки Шостаковича, в ядро его симфонических концепций. Невозможно пройти мимо того факта, что, по крайней мере, в центральных симфониях (а в двух — Пятой и Восьмой — достаточно определенно), полярные силы «симфонического сюжета» представляют собой разные формы существования одного и того же тематического материала. Факт этот, разумеется, не укрылся от внимания исследователей. Так, Г.Орлов интерпретирует превращение темы главной партии первой части Пятой симфонии в свою противоположность в момент кульминации разработки как реализацию «томительных предчувствий»[4]. М.Сабинина более точна и пишет, что «жестокий образ разработки целиком вырастает из меланхолических раздумий главной партии, и, следовательно, злое, враждебное дано как изнанка человечного»[5]. В этой «изнанке» суть дела. Даже если бы превращение темы-медитации в наглый агрессивный марш произошло только в одной Пятой симфонии, то и в таком случае к этому факту следовало бы отнестись со всей серьезностью: слишком уж удалены друг от друга в смысловом отношении начальный и конечный пункты развития. Но аналогичная трансформация почти в точности повторяется в первой части Восьмой симфонии; затем мы обнаруживаем явные интонационные сходства между главной, «героической» темой первой части Седьмой симфонии и зловещей «темой нашествия», а при желании можно усмотреть завуалированные связи между темой начального, «баховского» Largo и тематизмом разухабистого финала Шестой. Если же расширить сферу наблюдений и включить в нее все многочисленные случаи функционирования «тем - оборотней» (М. Друскин), то на их фоне все перечисленное уже не покажется случайностью, а, напротив, предстанет в качестве ипостасей единой закономерности. И тогда надо будет вести речь о некоторых общих свойствах в характерном для Шостаковича построении семантического слоя музыки (и симфонии прежде всего). В таком случае не лишним будет вспомнить, что сам композитор считал свои симфонии произведениями программными и, думается, не лукавил, ибо писал об этом в те годы, когда от него могли потребовать отчета о содержании «программ» и когда много легче было бы спрятаться за хрестоматийной обобщенностью «чистой» музыки. Но если симфонии Шостаковича и в самом деле программны, то превращение звучащей в напряженной тишине одинокой темы - мысли (к которой, словно к голосу своей души, прислушивается «герой» симфонии) в блестящий, словно начищенные военные сапоги, наглый марш нельзя рассматривать в качестве рядового момента тематического развития; напротив, есть все основания считать его значимым фактом драматургической концепции.
Между тем, с чисто музыкальной точки зрения в самой этой трансформации нет ничего экстраординарного. Со времен вариаций на остинатный бас до монотематизма Листа музыка прошла такую школу тематических превращений (в том числе и жанровых, а здесь они — главные), что события, совершающиеся в музыкальной ткани симфоний Шостаковича, поражают не столько самим фактом тематических превращений, сколько их смыслом. Речь идет в данном случае, конечно, о внемузыкальном смысле. Любая внемузыкальная интерпретация допустима, если она опирается на факты самой музыки и если постепенное накопление признаков совершенно естественно подводит нас к тому моменту, когда включение всеобъясняющего логоса становится насущной потребностью. В этот момент мы переступаем из области собственно музыкального в область внемузыкальных соответствий. При сопоставлении основной темы главной партии первой части Пятой симфонии с кульминирующим маршем в разработке таким мостом, через который мы переходим на «другой берег», как это часто бывает, оказывается жанр. Ниже мы представим два списка признаков. При этом по вертикали мы получим ряды соответствий, накопление которых будет постепенно укреплять определенное качество, а по горизонтали — два ряда антитез:
главная партия кульминация
медленный темп быстрый темп
piano fortissimo
мелодика ритм
монодическое начало гармония
solo tutti
«чистая музыка» бытовой жанр
статика кинетика
эмоция характеристика
медитация действие
непосредствен- опосредованное высказывание
ное высказывание (символы, маски)
индивидуальное коллективное
Совершенно ясно, что антитеза индивидуальное — коллективное равнозначна антитезе Я — Анти - Я, а реализованный тематическим развитием вектор движения от Я к Анти - Я выступает в качестве драматургического стержня разработки. Таким образом, не остается сомнений в том, что разыгранная в разработке первой части интонационно-тематическая коллизия раскрывает доступными музыке средствами ту самую раздвоенность сознания, о которой шла речь выше. При этом и сам ход развития, и полярность его крайних точек убеждают в том, что цель композитора заключалась в том, чтобы представить единое как разное.
Этот драматургический замысел воплощен с железной логикой, исключающей его неопределенные интер-
[20]
претации. Закодированная в звуках идея расщепления сознания на противоположные сущности с явной тенденцией перерождения Я в Анти - Я становится темой произведения в широком смысле этого слова.
О том, что перед нами не случайное, а продуманное композиционное решение, свидетельствуют два его важных следствия.
Первое относится к пересмотру структуры, а следовательно, и семантического потенциала сонатного аллегро. Исследователи давно обратили внимание на характерность для Шостаковича медленных экспозиций. Не менее важно, однако, что истинный темп сонатного аллегро все же восстанавливается, но именно в момент кульминации, то есть тогда, когда уже сформирована антитеза главной партии. Таким образом, меняется весь темповый план первой части, а поскольку темп является фундаментом музыкальной структуры, легко предположить, что за этими изменениями скрываются какие-то существенные сдвиги в семантическом архетипе сонатной формы. Действительно, медленная экспозиция свидетельствует, по крайней мере, о двух важных моментах. Во - первых, она лишается внутреннего конфликта, в ней преобладает некая единая, варьируемая семантическая плоскость (сфера Я - сознания); тем самым конфликт выносится за ее пределы. Действительно, он предстает сформировавшимся только тогда, когда на кульминации в быстром движении возникает марш. Процесс экспонирования, таким образом, распространяется на разработку, но его особенность в том, что антитеза дается не как нечто готовое, сформировавшееся до симфонии, за пределами ее текста, а в самом его становлении. Другими словами, экспонирование и действие соединяются в единый процесс. О том, что для Шостаковича размежевание Я и Анти - Я имело принципиальное значение, свидетельствует Десятая симфония, где этот конфликт вынесен за пределы первой части вообще (наблюдение Г.Орлова); впрочем, нечто подобное можно заметить еще в Шестой симфонии (хотя и в другом плане). Во-вторых, благодаря медленной экспозиции в семантический слой первой части включается медитативный аспект, в норме, как известно, присущий медленным частям цикла; это, в свою очередь, приводит к замене семантической доминанты первой части — действие (homo agens) — синтезом медитация-действие (homo meditans - agens).
Второе следствие относится скорее к области метафизических интерпретаций музыкальной символики. Не будет преувеличением сказать, что сверхтемой жанра симфонии в целом всегда была проблема жизни и смерти, добра и зла, человека и судьбы. Трактовалась она по-разному, но, начиная с Бетховена и кончая Малером и Скрябиным, силы, противостоящие жизни, добру, Человеку, всегда рассматривались как трансцендентные, внеположные реальности и потому обозначаемые абстрактными символами типа трубных гласов,«стука судьбы» или традиционной секвенцией Dies irae. Шостакович делает нечто противоположное. Он «спускает» зло с небес на землю, обозначая его посредством знаковых элементов бытовых жанров. Более того, бытовой жанр становится объектом деформации, окарикатуривания. Жанр как бы «опускается» композитором ступенью ниже его реальной ценности и благодаря этому превращается в художественный символ отрицательных сил. Это снижение зла не может означать ничего другого кроме его деидеализации. У Шостаковича зло имеет сугубо земное происхождение, что подчеркнуто и самим его происхождением (Я – Анти – Я). Значит, зло есть порождение человека, и именно он несет за него всю полноту ответственности. Здесь мы возвращаемся к той этической мотивации симфонических трагедий Шостаковича, о которой шла речь выше. «Сон разума рождает чудовищ», - сказал Гойя. «Сон совести превращает в чудовище самого человека», - мог бы добавить Шостакович. Предстоит еще подумать, в какой степени шостаковическую тему ответственности личности можно связать с известными постулатами христианства об изначальной греховности человека. Зато аналогия с Достоевским напрашивается здесь как бы сама собой. Тем более, что его влияние не обошло стороной Шостаковича и сказалось, в частности, на трактовке образа Катерины Измайловой, несмотря на лесковский первоисточник оперы.
Итак, раздвоение личности, допускающее всесилие зла, было понято Шостаковичем как источник трагедии человека XX века. Тем самым внутренний конфликт, заключавшийся в феномене «двоемирия», обретал нравственно-философский смысл и становился проблемой этических оснований существования человека.
СИМФОНИЯ-АНТИУТОПИЯ
Некоторые особенности «сюжетов» симфоний Шостаковича подсказывают неожиданную параллель с романами-антиутопиями XX века. Речь идет, разумеется, не более чем о метафоре и, следовательно, о непреднамеренных сходствах в самом направлении мысли художников одного времени. Но справедливо напомнить, что метафора всегда имела объяснительную силу, не говоря уже о художественной функции.
Близость заметна прежде всего в самом объекте художественного анализа. Это тоталитарная система, а значит, человек, схваченный в ее тиски и неизбежно оказывающийся перед выбором между «жизнью во мгле» и гибелью ради идеи. Мотив раздвоения личности, один из типичных для романов-антиутопий, так или иначе присутствует у О. Хаксли, Дж. Оруэлла, Е.Замятина. Но имеются и другие сходства. Например, явная обличительная тенденция, столь характерная для романов-антиутопий, которая, правда, у Шостаковича принимает более сложные, завуалированные формы. И все же тот факт, что у Шостаковича образы зла резко снижены, обытовлены, окарикатурены, переведены из области вечных категорий в контекст злободневной современности, также сближает его с авторами антиутопий. Сочетание бытового начала, карикатурности и гротеска свидетельствует о том, что обличение является одной из сопутствующих целей, а способы обличения, как известно, традиционно принадлежат сфере комического. Если учесть, что романы-антиутопии, по сути, являются сатирическими памфлетами и не обходятся без комического элемента (вспомним хотя бы «Скотный двор» Дж. Оруэлла), то близость к ним некоторых сторон симфоний Шостаковича не покажется слишком большим преувеличением. Тем более, что пласт комического несет у него активный отрицательный заряд. Это относится не только к скерцозной сфере, которая уже в силу своей традиционной семантической функции вводит в симфонию комический элемент, а значит, и создает предпосылки для его преобразования в злое комиче-
[21]
ское, но и для тех же маршей, которые, по крайней мере, поначалу кукольно смешны и, кажется, не таят в себе ничего угрожающего. Страшными они становятся позже. В этом и состоит метод композитора. Он подвергает анализу реальность и обнаруживает зло в обычном, повседневно-бытовом. Зло ходит рядом, живет по - соседству. Смерть не желает вставать на котурны, избегает торжественности и боится словесного обозначения. Зло вырастает из реальной почвы, жизнь пронизана им, оно «такое же, как мы». Первоначальная неразличимость зла, его неотделенность от форм жизни, стертость становится исходной точкой вхождения в конфликтную ситуацию, по мере развертывания которой зло все отчетливее обнаруживает себя, все более расходится с жизнью. Это обытовление зла с последующим его разоблачением весьма типично для романов-антиутопий, где в самом контексте жизни, его формах, (фактически искусственно сконструированном быте) закодирована исходная враждебность тоталитарной системы человеку. Этим же Шостакович особенно близок Кафке и Платонову. Скерцозная сфера, символизирующая функцию homo ludens, подвергается переосмыслению в соответствии с задачами обытовления и разоблачения зла, наполняя широкие симфонические пространства гротескно деформированными элементами музыкального быта. Так сама традиция симфонической музыки помогает композитору находить «эзопов язык» для выполнения своей сверхзадачи.
И все же сопоставление симфоний Шостаковича с жанром романа-антиутопии объясняет только одну из их граней, хотя, возможно, именно ту, которой они весьма близко подходят к современным тенденциям в литературе XX века. Нельзя не признать, что симфонии Шостаковича шире, глубже и многообразнее любого из таких романов уже потому, что являются подлинными трагедиями и отнюдь не ограничиваются сугубо обличительными целями. Мощный пласт философского осмысления реалий, тонкий психологический анализ сложного духовного мира «героя» выводит эти произведения далеко за рамки жанра антиутопии, с его известным схематизмом и «заданностью» социальных концепций.
Тем не менее мы не склонны отказываться от понятия симфонии-антиутопии, но уже по другой причине — особого положения симфоний Шостаковича в истории этого жанра.
Симфония рождалась как классицистская утопия, оплодотворенная идеями века Просвещения и увидевшая современный ей патриархальный Мир совершенным, гармоничным, уравновешенным. Таким же прорисовывался сквозь эту картину благополучного Мира и образ Человека, для характеристики которого история стихийно отобрала наиболее существенные стороны его экзистенциальной природы: действие (homo agens), медитацию (homo meditans), игру (homo ludens) и единство с социумом (homo communis). Бетховен, в котором нередко видели предтечу романтизма, на самом деле полностью разделял сформировавшийся в раннем классицизме тип симфонии, но вывел ее на новые рубежи, дополнив раннеклассическую наивную идиллию осознанной утопической идеей. В самом деле, чем, как не утопией в звуках, явилась Девятая симфония? Но, по сути, все бетховенские симфонии распределились между двумя вариантами утопической концепции — героической и пантеистической. Романтическая симфония выступила как продолжение и вместе с тем как антипод классицистской. На всем протяжении своей более чем вековой истории она вела неутихающий спор с классицистской утопией, черпая в ней стимулы для своего развития и находя все новые и новые контраргументы. Эта полемика шла с переменным успехом и достигала пика напряженности в период позднего романтизма. Именно тогда в симфонии стали накапливаться черты, опровергающие самое возможность достижения на земле гармонии. В симфонии заметно усиливались трагические аспекты, все чаще складываясь в единую концепцию, в которой все больше давали о себе знать дисгармония, неуравновешенность, неразрешимая конфликтность. Соответственно происходило перераспределение семантических функций, что особенно явственно сказалось на финале, который нередко представал в качестве трагического итога; менялась структура симфонического цикла, в нем нарастали нарушения канона, расширялся масштаб частей, умножалось их число, усиливались тенденции преодоления замкнутости целого, тяготение к «открытой форме». Эти процессы, правда, не были строго последовательными, и периодически возникали возвраты к классической норме, но общая тенденция все же возобладала: XX век дал так много аргументов против какого - либо утопизма, что окончательно покончил с верой в достижение на земле гармонии и братства. Дважды за его историю «миллионы обнимались» в смертельных объятиях, а эксперименты над человеческим жизнеустройством навсегда подорвали доверие к разуму. Симфония, столь чуткая к любым изменениям, не могла пройти мимо этого мрачного* итога двухтысячелетней истории человечества, завершив свой путь полным отказом от утопической концепции...
В противоположность классицистской симфонии, с ее патриархальной идиллией, мы находим в симфониях Шостаковича потрясающие своим трагизмом картины вздыбленного, развороченного катастрофами мира, исполненного дисгармонии и страданий. Вместо целостной личности, в которой все стороны идеально сбалансированы, — личность, пораженную собственной раздвоенностью, превращающуюся в свою противоположность и пожирающую самое себя. Естественное тяготение к положительному итогу сменяется пессимизмом, ожиданием новых катастроф. Шостакович писал летопись своего времени, писал жестко и честно, но при этом с горячим чувством ненависти к палачам и сострадания к жертвам. Он обличал зло как факт своего времени и не обманывался относительно природы Человека. Никогда еще сомнения в человеческом разуме не звучали в музыке столь весомо, убедительно и громко. Никогда еще человеческое Я не подвергалось такому беспощадному анализу. И никогда еще общий трагический итог не подкреплялся столь мощными аргументами музыкально-драматургических конфликтов. Трагедия Человека и Человечества открывалась во всей своей бездонной глубине, и в результате на смену прекраснодушной и трогательно-наивной в своей детской простоте классицистской утопии пришла жесткая по своим выводам и резкости обличения антиутопия XX века.
Так симфонии Шостаковича завершили логический круг развития жанра симфонии. Диалектика этого завершения состоит в том, что не только по внешним признакам, но и по своей архетипической структуре жанр
[22]
сохранил присущие ему типологические признаки, ограничившись внутренним перераспределение семантических функций, но коренным образом изменился в своем глубинном философском аспекте, придя к полной противоположности по отношению к исходной точке своей истории.
Это не означает, что после Шостаковича или при его жизни не создавались выдающиеся партитуры. Но все, что писалось после Шостаковича (не в хронологическом, а в логическом смысле этого слова), было уже не столько дальнейшим развитием жанра, сколько рефлексией на историю жанра, если не всей европейской музыки в целом (Л. Берио, В. Лютославский, А. Шнитке и др.). Поэтому правильнее было бы называть этот период постсимфоническим. Частица «пост» оправдана в данном случае тем, что если не все, то, по крайней мере, многие, и притом лучшие, симфонии этого периода возникают не столько как непосредственное высказывание («прямая речь»), сколько в качестве некоего художественного анализа исторического материала, вследствие чего между автором и конечным результатом его труда оказывается целая система объектов-посредников — элементов стилей прошлых эпох, жанровых признаков и т.д., и т.п., то есть структур, принимающих фактически знаковую функцию («косвенная речь»). Первичность сохраняется только на уровне общей концепции, в то время как музыкальный материал зачастую намеренно вторичен. Идет обсуждение истории искусства средствами самого искусства. Искусство подвергает себя самоанализу. По сути, в таком подходе к художественному высказыванию продолжала действовать авангардная эстетика. Если авангард интересовался в первую очередь синтаксическими проблемами, то теперь исследованию подвергалась семантическая структура музыки, актуализируемая при помощи цитат, квазицитат, аллюзий и других образований вторичной природы. Обретаемый конечный стилевой результат можно было бы обозначить как метастиль, поскольку благодаря интеграции различных стилевых элементов он обретал способность выражать к ним свое отношение, «судить» о них и об их роли в истории музыки, занимал положение как бы над стилями, становился посредником между ними. Иногда такой подход к целям художественного творчества (например, в живописи) связывают с тенденциями поставангарда, что, наверное, имеет серьезные основания. Нас же здесь больше интересует другое. Элемент историко-стилевой рефлексии присутствовал уже в музыке Шостаковича, в его опытах «опосредования» музыкального высказывания, создающих эффект косвенной музыкальной речи. Этот опыт, безусловно, был ассимилирован полистилистикой (или апеллятивной техникой), что и привело в конечном счете к появлению феномена метастиля. Надо, однако, заметить, что обращение Шостаковича к любым видами структур - посредников никогда не было самоцелью и, напротив, всегда оставалось только средством решения стратегических задач, выдвигаемых симфоническими концепциями. К подобного рода структурам мы теперь и обратимся.
ПРИЕМЫ ТАЙНОПИСИ
Шостакович создал свой вариант художественного языка симфонии. В нем легко прослушивается история европейской музыки Нового времени (скажем, от барокко до XX века) и жанра симфонии в том числе. При желании можно проследить происхождение тех или иных приемов, найти их «первоисточники» и понять их место и значение в стилевой системе композитора. Нет сомнения в том, что прошлое очень помогало Шостаковичу выразить настоящее и не мешало создавать свой неповторимый стиль. В этом смысле он был антиподом Скрябина или, скажем, Дебюсси, но зато принадлежал к тому же типу «объединителей» европейской музыки, что и Бетховен, Чайковский или Малер.
Каждый жанр вырабатывает свой художественный язык. К тому времени, когда Шостакович вступил на стезю симфонизма, последний уже пережил период своей высшей зрелости в творчестве поздних романтиков (Лист, Брамс, Брукнер, Чайковский, Малер) и располагал разветвленной системой средств для воплощения самых сложных интеллектуальных построений. Специализация этих средств формировалась в соответствии с теми художественными задачами, которые множились и накапливались в процессе эволюции жанра симфонии и которые в целом можно разделить на три категории:
— выражения, обусловленного «прямой музыкальной речью», (непосредственным эмоциональным высказыванием);
— изображения, вызванного, во-первых, построением логично развивающегося «симфонического сюжета», а во-вторых, нередким включением в концепции симфонии изобразительных деталей;
— обозначения или символизации, связанных с персонификацией «сил действия» и «контрдействия», необходимостью точного указания на роль того или иного тематического образования в общей концепции симфонии.
Понятно, что все три функции, как правило, взаимодействовали, и предпринятое здесь их разделение преследует чисто аналитические цели.
Нет нужды доказывать значение в симфониях Шостаковича прямого эмоционального высказывания — это вообще одна из сильнейших сторон его музыки. Однако не лишним будет отметить усиление в его симфониях также изобразительного начала, причем прежде всего в построении событий «симфонического сюжета». По сути, Шостакович создавал свой вариант «инструментального театра», но не в постмодернистском значении этого понятия, а скорее более близкий искусству кино, с которым композитор смолоду активно сотрудничал. Все тематические трансформации, о которых шла речь выше, связаны с четким обозначением персонажей на разных стадиях их симфонической судьбы; причем их внутренняя сущность неотделима от их внешнего облика, движения, поведения. Само симфоническое развитие совершается как изменение масштаба образа, как его чисто пространственное разрастание, что по смыслу очень близко киноприему смены дальнего плана крупным, ближним. Благодаря всему этому симфония Шостаковича воспринимается как наглядно разворачивающееся действие.
Опыт кино мог повлиять и в другом отношении. Не исключено, например, что прием явного снижения образов зла, о котором говорилось выше, сложился под воздействием поэтики мультипликационного гротеска. Во всяком случае, в нем нетрудно заметить подмену реального персонажа окарикатуренным, условным.
[23]
Здесь мы сталкиваемся с еще одной особенностью поэтики Шостаковича — ролью в системе его художественных средств маски, символа, а следовательно, и методов зашифровки и расшифровки. Все эти случаи связаны с тем, что выше было названо косвенным высказыванием, с действием структур-посредников. Композитор не питал особых надежд на то, что «чистая» музыка, к которой он почти целиком обратился после разгрома «Леди Макбет», окажется ограждена от карающей длани политической цензуры. Ему предстояло найти такой способ самовыражения, который позволил бы, с одной стороны, полностью реализовать свои идеи, а с другой, — минимизировать поводы для новых гонений. Между Четвертой и Пятой симфониями он оказался перед трудным выбором и непростыми решениями. Язык симфонии давал ему возможность сказать многое, опираясь только на стереотипы жанра. Вместе с тем композитор должен был переосмыслить их таким образом, чтобы сквозь условности языка симфонии проступили бы четкие контуры современности. Его послание людям должно было быть услышано. Иными словами, композитор был вынужден выработать особый, музыкальный вариант «эзопова языка». И такой язык был им создан.
Особый интерес в связи с этим вызывает «персонажный слой» симфоний. В соответствии с его расчленением на сферы Я и Анти - Я в симфониях совмещались две формы высказывания — непосредственная и опосредованная. Для сугубо замкнутого внутреннего пространства Я - сознания существовал принцип непосредственного высказывания, так сказать, «прямой речи», чему способствовали традиции медитативных разделов цикла. Сюда допускался только один символ — монограмма DSCH, имевшая автобиографический смысл, что было, конечно, весьма символично, но из чего не следует делать вывод о полной автобиографичности творчества Шостаковича*. Монограмма лишь указывала на причастность личности композитора к процессам, которые станут предметом отображения в симфонии, но сами эти процессы объективны, как жизнь. Что же касается внешнего пространства, сферы действия Анти - Я, то именно здесь композитор остро нуждался в «эзоповом языке» масок и символов, то есть в знаках-посредниках, или, иначе, в опосредованном высказывании, в «косвенной» форме музыкальной речи. Именно здесь композитор и обращался к языку улицы, к низким бытовым жанрам, то есть к реальному материалу, скомпрометированному еще до того, как он вошел в симфоническую ткань, но материалу при этом еще больше «пониженному» благодаря средствам деформации. Этим достигался эффект усугубления, гиперболизации низкого. Так совершалось обличение зла, но одновременно в ходе развития происходил его «физический рост». В результате, ничтожное становилось квазиграндиозным, муляж оживал и превращался в смертоносную силу. Тем самым композитор обнажал суть конфликта: угрозой существованию человека оказывалась на сей раз не трансцендентная власть рока, а нечто отвратительное, выросшее из самой природы человека, из малодушного попустительства злу, из «сна совести». Раздувшееся до грандиозных размеров низкое, претендующее на «величие» ничто — в основе этого превращения по сути лежала идея абсурда. Но такова была и реальность, и композитор произносил ей суровый приговор.
Однако его надо было понять, «вычитать» из той звуковой коллизии, которая развертывалась перед слушателем. Композитору надо было найти такую форму, которая была бы адекватной конфликту, но вместе с тем оказалась бы достаточно закамуфлированной.
Нельзя, поэтому, обойти вниманием вопрос о роли бытовых жанров как элементов фольклора — вопрос, надо сказать, вполне хрестоматийный для истории русского симфонизма. То, что городские бытовые жанры имеют в конечном счете фольклорное происхождение, не требует подтверждений. Известно и то, что Шостакович был не первым, кто стал подвергать эту область музыки деформации, — до него это делали Малер, Стравинский (прежде всего, в «Петрушке»), Прокофьев (в «Шуте»). Почему же городской фольклор допускал деформацию, в то время как на крестьянском словно лежало табу? Этот вопрос требует отдельного обсуждения, невозможного в данной статье, поскольку он затрагивает глубинные слои поэтики народного творчества. Что же касается Шостаковича, то по тому, как композитор обращался с материалом городского фольклора, можно заключить, что как раз его-то он в качестве фольклора никогда не воспринимал и потому не испытывал к нему никакого пиетета. Перед собой он видел нечто совсем иное — музыкальный язык городской люмпенизированной массы, потенциально агрессивной, таящей в себе опасность, готовой по любому приказу убивать, жечь, уничтожать; массы, лишенной нравственных идеалов, веры в человека и тем более в Бога, насильно оторванной от вековых народных традиций и не обретшей никаких иных, кроме того суррогата, который вдалбливала в нее официальная пропаганда. Этот язык становился обобщенным символом определенной социальной среды, угрожающей самому бытию человека, подстерегающей его на каждом шагу, чреватой всеобщей катастрофой. Именно псевдодемократизм языка городских низов и допускал его деформацию.
В таком отношении к «городской речи» Шостакович был не одинок, и первым приходит здесь на ум имя Зощенко. Между этими художниками имелись поразительные сходства. Хотя Зощенко, как известно, не писал романов-трагедий, которые можно было бы поставить рядом с симфониями-трагедиями Шостаковича, мир, который он изображал в своих коротких рассказах и фельетонах, трагичен по своей сути. Недаром писатель удивлялся, почему его творения вызывают у читателей смех, а не содрогание. Он моделировал своих героев (как это присуще литературе) через их речь, но с той особенностью, что, не имея возможности вынести лексику подворотен на страницы газет и сборников, он сознательно конструировал ее литературно приемлемый эквивалент. Речь представала перед читателем искаженной, искривленной, будучи по сути вербальным слепком психики персонажей. Поэтому она становилась гигантским символом маргинала и его быта. То была жизнь на рубеже культуры и антикультуры. Писатель работал на острой грани, рискуя скатиться то к фельетонной развлекательности советской «сатиры», то впасть в пафос
[24]
обличения, но не скатывался и не впадал, веря, что речь его героев не требует комментариев.
Шостакович шел, в общем, сходным путем. Все эти польки, галопы, канканы, тустепы, фокстроты, кадрили, которые смертельным вихрем проносились в его симфониях, — не что иное, как тот же язык площадной антикультуры, язык массовых гуляний и гулянок, домашних танцулек и танцплощадок, к тому же порядком уже поистертый, устарелый и уже по этой причине лишенный ценности. Он мог быть только отрицательным символом — символом антидуховности и, по сути, антижизни. Не случайно он так легко перевоплощался у Шостаковича в образы смерти, уничтожения. Жизнь лишь внешне была жизнью, но по смыслу своему оставалась выхолощенным, пустым прозябанием, лишенным индивидуального содержания, и соседствовала с нежизнью, ибо легко в нее переходила. Любой человек мог незаметно оказаться за пределами нормального бытия. Символ расширялся, охватывая реально - нереальный мир бытия - небытия, где стирались границы между добром и злом, правдой и ложью. Деформированной жизни отвечала деформация как метод художественного воплощения. Он обладал огромной силой — даже не просто обличения, а полного и категорического отрицания. Зощенко приходилось камуфлировать сущность своих героев с помощью «общественно полезных», якобы сатирических сюжетов из бытовой жизни. Шостакович в этом не нуждался, поскольку симфонический цикл, традиционно включавший бытовые жанры, как бы легализовывал обращение к сниженной лексике. Обычно она концентрировалась в третьей и четвертой частях, но в принципе могла появиться в любой другой. Скерцозность есть специфически музыкальное преломление смеховой, карнавальной культуры, совершенно не случайно оказавшейся активной участницей серьезных, подчас трагедийных симфонических концепций. Определенная сторона человеческого бытия, связанная с миром игры (homo ludens), всегда балансирует на грани комедии и трагедии, готовая превратиться либо в ту, либо в другую. Шостакович реализует эту возможность, и в определенной плоскости его скерцо выступают составной частью «симфонических сюжетов», помогая аргументировать трагический итог.
Скерцозная лексика, бесспорно, создавала благодатную интонационную среду для развертывания метода маски, маска же открывала поистине неисчерпаемые возможности для интерпретации трансформирующейся реальности, где рационально постигаемое причудливо переплеталось с иррациональным и где грань между жизнью и абсурдом окончательно стиралась. Можно увидеть в этом сходство с Зощенко или Хармсом, а можно усмотреть и более глубокие корни, скажем, воздействие Гоголя, с поэтикой которого композитор вплотную соприкоснулся в работе над оперой «Нос». Гоголевский маскарад и в «Ревизоре», и «Петербургских повестях» мог явиться тем пережитым художественным опытом, который подсказал композитору принцип маски.
Надо заметить, что маска как прием для Шостаковича вообще была достаточно органичной формой самовыражения. Те, кому приходилось видеть, слышать Шостаковича или читать недавно опубликованные «Письма к другу», могли заметить, что маска вошла в ткань поведения и речи композитора, особенно, если иметь в виду официальную речь. Но дело в том, что ритуализированный стиль проникает и в сферу личного общения. То был сознательный прием. Вот образчик типичного для писем Шостаковича к Гликману эпистолярного стиля: «Я получил пластинку с Реквиемом Бриттена. Я кручу ее и восхищаюсь гениальностью этого творения. Это на уровне «Песни о земле» Малера, и ряда других великих созданий человечества. Слушая Реквием Б.Бриттена, как-то мне веселее, еще радостнее житъ[6]. Нетрудно узнать в последнем предложении парафразу известного высказывания Сталина из речи на XVIII съезде ВКП (б), произнесенной в разгар жесточайших репрессий: «Жить стало лучше, жить стало веселее». Письма Шостаковича буквально пестрят подобными парафразами официальной фразеологии. И не только в тех случаях, когда он наверняка уверен, что они подвергаются перлюстрации, но и в других, когда просто возникала возможность отвести душу пародированием, намеренным издевательством над официальной риторикой. Надо, однако, сказать, что Шостакович был в этом не одинок. В те времена подобная манера изъясняться вообще была в ходу у интеллигенции, особенно художественной. Суть этого пародирования заключалась в том, чтобы с помощью скрупулезного воспроизведения нелепостей ритуализированной фразеологии обнажить ее абсурдную сущность. То было отрицание через утверждение. Официальная лексика как бы выворачивалась наизнанку, обретая анекдотическое звучание. Нетрудно было угадать за такой речью ее истинных носителей.
Но принцип маскировки проникал и в музыкальное мышление композитора. Совершенно ясно, что маска нужна для того, чтобы ее затем снять и обнажить истинный лик. Однако все оказывается не так просто. В самом деле, что происходит, скажем, на кульминациях разработок первых частей Пятой и Восьмой симфоний — шифровка или расшифровка? С точки зрения смысла развития первого раздела разработки, конечно, расшифровка: Я превращается в Анти - Я, обнаруживая латентный слой личности. Но если рассматривать тот же процесс по отношению к реальности, то, безусловно, шифровка. Следовательно, мысль композитора движется, с одной стороны, от прямой речи к косвенной, но, с другой стороны, именно косвенная речь средствами символизации обнажает истинную сущность, скрытую в глубинных слоях подсознания.
Еще сложнее ходы мысли в финалах, где композитору всякий раз надлежит дать «окончательный ответ». В этом отношении предметом спора и разноречивых толкований всегда и прежде всего оставался финал Пятой симфонии. С того дня, когда устами А.Толстого он был признан свидетельством «исправления» заблудшего художника, Пятая симфония до сих пор иной раз рассматривается в качестве одного из наиболее конформистких сочинений Шостаковича*. Спорят о том, оптимистичен
[25]
или трагичен финал этой симфонии, что отобразил композитор — «становление личности» советского интеллигента в период «великих строек» (и, добавим, великих репрессий) или что-то другое — подход, который иначе, чем примитивным назвать нельзя. Великое художественное произведение объективно по отношению к Миру, оно вершит суд над жизнью, не заглядывая в глаза власть предержащих. Разумеется если это, действительно великое творение, а по отношению к Пятой симфонии в этом вроде бы никто не сомневается[8].
Но оставим полемику, она могла бы быть и более подробной. Финал, как известно, тематически связан с первой частью, а конкретно — с основной темой ее главной партии. Это как бы то же «действующее лицо», но теперь уже обретшее положительную активность и не превращающееся в свою противоположность. Борческое начало пронизывает финал единым энергетическим током. Восхитительная, широкая как песня, лирическая тема всегда служила тем аргументом итогового значения, который склонял иных критиков к точке зрения, высказанной А.Толстым: «Исправился - таки, наконец!» Однако даже по своему местоположению в середине части эта тема не может «работать на итог», не говоря уже о том, как завершается изложение темы и что следует после нее. Завершение темы — еще один характерный образец типичного для Шостаковича «слома», сникания, которым пронизан весь медитативно-лирический тематизм симфонии, начиная с ее «эпиграфа». Особенность же данного слома в том, что он вызывает сразу две ассоциации. Первая — с главной темой первой части, что вполне естественно ввиду ее лейттематической функции в симфонии в целом; ее появление после ослепительного мажора побочной партии финала звучит многозначительным напоминанием и вносит столь важный для общей концепции элемент скепсиса. Но эта же нисходящая последовательность, обнаруживает удивительное сходство с начальной фразой ариозо Ленского «Что день грядущий мне готовит?»: те же тональность (ми минор), звуковой состав (за исключением отсутствия опевания заключительной квинты), ритм. Момент этот мелькает в общем движении и заслоняется другими, более значительными событиями и потому вряд ли может обратить на себя внимание. Но то, что композитор, прерывая развертывание побочной партии, вводит его как бы «насильственно», подчеркивает и мелодическим ходом вверх на соль, и неожиданным вторжением ми минора после солнечного ля мажора, все это несомненно. Случайное совпадение? Вполне возможно. Но очень уж подходит по своему смыслу фраза Ленского к той ситуации, которая разыгрывается в партитуре: слом в «сюжете», переход от светлой темы - мечты к угрожающим событиям. Может быть, это все - таки корректно введенный символ, тайный знак? По этому поводу можно только строить догадки:
Но за ним следует еще один и уже более пространный и значительный. Сразу после «фразы Ленского» наступает драматический момент. На фоне тремоло дерева и высоких струнных в среднем регистре и в басах (валторны, тромбоны, низкие струнные) вниз движутся две параллельные «ленты» мажорных секстаккордов, в то время как трубы интонируют что-то вроде «фанфары рока». Внимательный анализ обнаруживает, что все три голоса секстаккордов представляют собой нисходящие целотонные гаммы, и знакомая ассоциация не заставляет себя ждать: в самой оркестровой ситуации мы узнаем черты строения сцены похищения Людмилы с той только разницей, что у Глинки верхние регистры (струнные, дерево) заняты изображением сверкающих молний, средние (кларнеты) держат педали-задержания, а в средних и низких (кларнеты, фаготы, валторны, альты и низкие струнные) совершается главное событие — знаменитое нисходящее движение в басах октав целотонной гаммы — этого своеобразного, придуманного Глинкой, русского аналога катабасиса. У Шостаковича же октавы заменены мощными гармоническими комплексами, составленными из трех удвоенных октавами целотонных гамм, вследствие чего идея Глинки подвергается как бы мультипликации, гиперболизируется, как бы возводится в куб. Удивительным образом совпадают и окончания эпизодов: у Глинки это уменьшенный квартсекстаккорд es—a — c; у Шостаковича — уменьшенный секстаккорд es—ges—c (то есть почти тот же самый аккорд) плюс уменьшенный септаккорд d—f—gis—h. Если для Глинки данный тип аккорда — стилевая норма, то для Шостаковича, конечно же, нечто противоположное — возврат к классической гармонии, то есть языковая цитата, акцентируемая двукратным применением и выполняющая роль стилевой аллюзии (см. пример на след. странице).
Вновь случайность? На сей раз в этом можно усомниться. Целотонная гамма — вещь столь экзотическая, что вряд ли она могла возникнуть спонтанно, и к тому же в утроенном виде, в столь усложненном, секстаккор довом наряде. Может быть, парафраза? Пересказ современными, обостренными средствами одного из самых известных мест в классической оперной литературе? Именно оперной, то есть подразумевающего определенную сюжетную ситуацию, не знать которую слушатель, а тем более профессионал, не может. Значит, снова символ, намек, который должен активизировать память, воображение и направить мысль к догадке. Главное, что убеждает в наличии «глинкинской подсказки», это оркестровка, распределение звуковых планов. Параллели наблюдаются во всем: фоновая функция верхних регистров, относительная нейтральность средних и главная, тематическая, отданная целотонному катабасису. Могла ли эта аналогия быть вызванной драматургической ситуацией? Несомненно. Что происходит с побочной партией? Она исчезает. В своем первоначальном сверкающем великолепии ей прозвучать уже не суждено. Сначала она появится как истаивающая тень у валторн (ц.112), затем в искаженном облике у высоких скрипок (Росо animato, ц.113), но это, собственно, уже не она, а скорее рефлексия на нее, воспоминание о ней, испол-
[26]
ненное боли и страдания. Упоительный образ светлой мечты уходит навсегда. Не то ли происходит и в волшебной сказке Пушкина — Глинки? Ведь все сказочные персонажи (а после работ Проппа это общеизвестно) — лишь воплощение архетипических семантических функций, и поэма Пушкина, эта восхитительная полушутливая амальгама вечных сказочных мотивов, собрала и объединила их великое множество. Тема рассматриваемого фрагмента из финала — утраченная мечта, исчезающая в небытие иллюзия, и все происходящее в партитуре далее это только подтверждает. Мы имеем в виду и медленное, словно с трудом возобновляющееся каноническое проведение в низких регистрах темы главной партии; и драматическую кульминацию, и следующее после Росо animato оцепенение. Идея симфонии возвращается на круги своя, к той точке, с которой началось музыкальное повествование в первой части. Вновь, как и в ее экспозиции, сменяют друг друга солирующие монологи, погружая слушателя в состояние глубокой медитации. И только затем гигантским усилием композитор заставляет себя выйти из затягивающей его статики. Мучительные усилия приводят к соответствующему итогу. Когда трубы достигают знаменитого си бемоль в абсолютно бесстрастном, абсолютно формальном ре мажоре, все становится на свои места: с таким трудом, с таким великим насилием над собой выжимаемый «победный гимн» в самый последний момент превращается в мучительный вопль. Именно этот вопль и есть подлинный итог симфонии, ибо после него уже ничего не звучит.
С этим корреспондируют весьма интересные наблюдения И.Барсовой относительно «участия» партитур Берлиоза, Р.Штрауса и Малера, так или иначе связан-
ных с мотивами казни, Страшного суда, они недвусмысленно указывают на трагическую суть финала Пятой симфонии. Верно и то, что при появлении Пятой симфонии далеко не все воспринимали финал как оптимистический[9]. Скажем иначе: оптимистическим его хотела видеть власть. Но все дело в том, что финал, действительно, давал повод для противоположных выводов. В этой амбивалентности и состоял, на наш взгляд, его секрет. То была еще одна маска, но особого рода, заключавшаяся в особом, двойном коде, который можно было расшифровывать и так, и эдак. Секрет состоял в композиционном построении финала: за каждым из аргументов в пользу оптимистической трактовки — побочной партией и мажорной кодой — следовали их опровержения. Слушатель мог выбрать то, что казалось ему более вероятным. Мажорные эпизоды, конечно, привлекали слух своей броской яркостью, и сделано это было, разумеется, намеренно, но именно «опровержения» несли истинный итоговый смысл финала, а следовательно, и симфонии в целом. «Имеющий уши: да слышит».
Еще сложнее реализуется принцип двойного кода в финале Шестой симфонии. Цикл Шестой всегда удивлял своей непропорциональностью: медитативная, по - баховски глубокая первая часть и затем два скерцо подряд. Причем веселый, бесшабашный (и потому весьма необычный для Шостаковича) финал резко не соответствует трагически сосредоточенному началу. Согласно распространенной в те годы официальной точке зрения, если Пятая симфония еще могла вызвать какие-либо сомнения, то Шестая окончательно их рассеивала: такой веселый и жизнерадостный финал мог написать только композитор, который действительно поверил в то, что «жить стало лучше, жить стало веселей». А как же иначе?
Оказывается, можно «иначе».
Действительно, финал Шестой буквально захлестывает безудержным весельем, казалось бы, ничем не омраченной, бьющей через край радостью жизни. Может быть, композитор и в самом деле «исправился»?
Но вслушаемся в музыку внимательнее.
Финал полон движения, натиска, напора стремительных ритмов и взвихренных интонаций; кажется, быстрый марш готов вот - вот перерасти в буйный пере-
[27]
пляс. Перед нами развертывается какое-то праздничное массовое действо — то ли демонстрация, то ли физкультурный парад. А завершающая его тема-песня, словно подслушанная у Дунаевского (впрочем, близкая и некоторым песням самого Шостаковича, например, к «Песне о Встречном»), звучит так лихо, так взахлеб, что невольно напоминает сверкающие финалы оперетт. И нет в этой музыке ничего недосказанного, все совершается здесь — теперь, все — наружу, все — напоказ.
Но странное дело: чем больше слушаешь эту музыку, тем сильнее ощущаешь ее внутреннюю пустоту. Да, она мажорна, подъемна, оптимистична, но как-то скользит мимо сознания, мимо чувства, увлекая скорее своей неуемной кинетикой, апеллируя скорее к оргиастическим инстинктам массы, нежели к интеллекту. И кажется, что кроме слепой восторженности толпы и целиком внешнего энтузиазма, кроме чисто физической, а не духовной, энергии в ней и в помине ничего нет. Слушая ее, невольно вспоминаешь слова Маяковского о «спрессованной массе», сквозь мощный голос которой не пробиться «писку единицы». Кажется, это и в самом деле вырвавшееся на волю «коллективное бессознательное», которое правит толпой, охваченной древнейшим инстинктом. Перед нами точно выписанный портрет массы. Причем портрет, не лишенный внешней привлекательности. Но именно внешней, за которой не просматривается ничего, что имело бы хоть какое-то отношение к миру чувств, идей и как - то соотносилось с интеллектуальным миром человека, раскрытым в первой части. Асимметрия налицо. Симптоматично, что на сей раз Шостакович не стремится деформировать музыкальный материал, характеризующий массу, избегает гротеска, ритмической или интонационной гипертрофии, столь свойственных ему в тех случаях, когда речь идет об изображении зла. Думается, композитор избирает здесь наиболее трудный путь: он дает портрет массы в высший момент ее торжества и упоения собственной силой. Но за броской внешностью зияет бездна бездуховности, все поглощается инстинктом толпы, охваченной единым порывом. В результате первой части, словно бы окруженной баховской аурой, противопоставлен физкультурный парад, благородной кантилене — залихватская массовая песня. В отличие от других симфоний композитор здесь не ищет общего резюме и лишь разводит полярные стороны конфликта на разные точки симфонического пространства. Ибо они несовместимы, как добро и зло, как жизнь и смерть, как отдельная личность и толпа. Все остальное слушатель должен домыслить сам...
Перед нами особый способ художественного обобщения. Композитор дает прямое изображение толпы, дает его крупным планом (на сей раз ощутимо влияние советской кинохроники) и при этом вычерпывает содержание до конца. Если в других случаях Шостакович как бы выворачивал объект наизнанку, показывая его скрытую сущность, то здесь он довольствуется «лицевой стороной», но при этом оказывается, что она ничуть не лучше изнанки. За блестящей формой не обнаруживается никаких ценностей, которые слушатель мог бы унести с собой и положить в копилку своего духовного опыта. Объект как бы саморасшифровывается, саморазоблачается, не нуждаясь ни в знаковой функции деформации, ни в гротеске. Самоутверждение приводит к самоотрицанию. Путь к выводу оказывается парадоксальным, но такова и реальность. И в конечном счете, именно осознание парадокса слушатель все-таки может «положить в копилку своего духовного опыта» и понять истинный смыл этого послания художника.
Так выясняется, что можно внешне следовать прямой форме высказывания, но при этом достичь противоположного результата. Это открытие принадлежит Шостаковичу. Но двойной код обнаруживается не сразу. Непосредственное впечатление нуждалось в переоценке post factum, в дополнительном интеллектуальном поиске. Процесс восприятия усложнялся, становился двуэтапным. Его результатом было уже не прямое соответствие форма — содержание, а возникающий над ними более высокий уровень рецепции — смысл.
Цитаты, автоцитаты, квазицитаты, стереотипизация лексики, стилевые аллюзии, знаки бытовых жанров, монограмма, парафразы, принципы двойного кода, символа, маски, мотивы - оборотни, реминисценции, интонационные арки и возвраты, тематические перевоплощения — весь этот богатейший инструментарий призван содействовать воплощению сложного, как правило, амбивалентного замысла, включающего постоянно взаимодействующие, а иногда и совмещающиеся процессы шифровки и расшифровки. Принцип двойного кода приобретает, по сути, универсальную функцию, охватывая как лексику, так и форму, проникая тем самым в состав композиционной техники. Смысл музыки постоянно балансирует на грани явного и тайного. То, что открывается непосредственному эмоциональному восприятию, нередко требует активной интеллектуальной коррекции.
Так совершается шостаковическая музыкальная тайнопись. Бывшая давней традицией литературы, с ее широкими возможностями интертекстуальных связей, она, как видим, в XX веке поселилась и в музыке. Новое время — новые песни.
Какие из отмеченных выше приемов тайнописи носили характер сознательных операций, а какие были подсказаны творческой интуицией, еще предстоит исследовать, Так или иначе, но в этой своей ипостаси Шостакович предстает как композитор с отчетливо выраженной семиотической направленностью художественного мышления. Этим он, бесспорно, выделяется среди лидеров музыки XX века и этим же подводит развитие симфонии к определенной черте, за которой открываются уже новые возможности, другие техники, другая стадия развития языка жанра в целом.
* Лаул Р. Музыка Шостаковича в контексте большевистской идеологии и практики. Опыт слушания // Д. Д. Шостакович. Сборник статей к 90-летию со дня рождения / Сост. Л. Ковнацкая. СПб., 1996. С. 141-157. (Далее - Сб. к 90-летию, с указ. стр. — Ред.).
Публ. по: Музыкальная академия. - 1997. №4.
Материал размещен 12 мая 2006 г.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Юнг К. Психология бессознательного. М.,1994.С.209.
[2] Там же. С. 232.
[3] См.: Льоренте Х. -А. Критическая история испанской инквизиции. М., 1936.
[4] Орлов Г. Симфонии Шостаковича. Л.,1961. С. 80.
[5] Сабинина М. Шостакович — симфонист. М., 1976. С.117. (Далее — Шостакович — симфонист, с указ. стр. — Ред.)
* Исключение составляет Восьмой квартет, содержащий, как известно, большое число автоцитат, но здесь это оправдано замыслом; композитор подытоживает предшествующий творческий путь.
[6] Письма к другу. Дмитрий Шостакович — Исааку Гликману. СПб.- М., 1993. С. 192. (Далее - Письма к другу, с указ. стр. - Ред.)
* Рекорд в этом отношении поставил Р. Лаул в статье «Музыка Шостаковича в контексте большевистской идеологии и практики. Опыт слушания»*. Прочитав бросившиеся в глаза строки: «Похоже, что основная тема Пятой симфонии — тема вступления интеллигента в партию...», можно подумать, что автор пародирует стиль партийной прессы 30-х годов, однако, при более подробном знакомстве со статьей с удивлением обнаруживаешь, что сказано это всерьез, что автор действительно именно так и слышит эту симфонию (напомним многозначительный подзаголовок: «Опыт слушания»). Добавим, что автор принимает на веру и статью А.Толстого, считая, что придуманный писателем сюжет «действительно читается в драматургии симфонии» (С. 151) и искренне полагает, что ее темой является «чувство вины русского интеллигента перед своим народом и ответственности за его страдания при царском режиме» (там же). Кажется, что эти строки написаны не сегодня, а 60 лет назад, в 1936 году и притом в газете «Правда».
[8] Даже Р. Лаул признает, что в Пятой симфонии стиль Шостаковича «образует единство высшего порядка» (как может этому способствовать «вступление в партию», остается загадкой, ответ на которую знает, по-видимому, только автор указанной статьи).
[9] См. Барсова И. Между «социальным заказом» и «музыкой больших страстей»: 1934 — 1937 годы в жизни Дмитрия Шостаковича. // Там же. С.121-140.
(2.1 печатных листов в этом тексте)
--------------------------------------------------------------------------------
Г. ТРЕЛИН Ленинский лозунг «Искусство – народу!» и становление советской музыкальной культуры
ЛЕНИНСКИЙ ЛОЗУНГ «ИСКУССТВО – НАРОДУ!» И СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
ШКОЛА, РОЖДЕННАЯ ОКТЯБРЕМ
[152]
А. В. Луначарский дал весьма точное широкое определение сущности художественного просвещения: «Художественное просвещение имеет две связанные между собой, но тем не менее отличимые друг от друга стороны. Одной его задачей является широкое ознакомление масс с искусством, другою — стремление вызвать из самих себя единицы и коллективы, которые сделались бы художественными выразителями души масс»[1].
Потребность в «художественных выразителях души масс» остро проявилась после Октябрьской революции и в области музыки. Она диктовалась бурно развивающейся музыкальной жизнью молодой Советской республики. «Октябрь, — писал А. В. Луначарский,— вулканическая вершина... не может не оказаться родителем певучих музыкальных рек, которые потекут, питаемые его ручейками, по долинам, превращая их в сады»[2]. Однако, чтобы эти «певучие реки» потекли и
[153]
стали полноводными, нужны были новые музыканты, близкие революции и народу, ее совершившему, не только способные, но и жаждущие создавать искусство для народа и служить ему.
Задача формирования многочисленных кадров советских музыкантов, разумеется, не могла быть решена сразу же после революции. Ее осуществление партия и государство неразрывно связывали с реорганизацией старой и созданием новой музыкальной школы. «Чтобы школьное образование поставить более солидно, — учил В. II. Ленин, — для этого нужен целый ряд материальных изменений: постройка школ, подбор учителей, внутренние реформы по организации и подбору преподавательского персонала. Это все вещи, которые требуют длительной подготовки»[3]. В первые послеоктябрьские годы Советская власть направляет свои усилия на то, чтобы заложить основы для радикального решения поставленной задачи в будущем.
Прежде всего эти основы складываются на ранних ступенях образования, в школьном и даже дошкольном возрасте. Здесь будущие живописцы и музыканты, поэты и актеры приобретают любовь к искусству, вкус и страсть к нему, начальные художественные навыки и знания. Это и учитывалось при создании советской системы народного просвещения. Большое внимание было уделено, в частности, овладению азами музыкальной грамоты. В 1918 году Музыкальный отдел Наркомпроса принял постановление, в котором подчеркивалось, что «эстетическое образование учащихся новая школа считает существеннейшей частью общего образования, а надлежаще поставленное преподавание пе-
[154]
ния и музыки — одним из наиболее деятельных и доступных средств для достижения этой цели»[4].
При разработке учебных планов в новой системе народного просвещения преподавание музыки и пения было отнесено к числу обязательных дисциплин. Это было закреплено уже в первом положении «Об единой трудовой школе». Вслед за общеобразовательной школой, музыкальное воспитание начинает внедряться и во внешкольные детские учреждения. В Петрограде, например, в 1920 году хоровое пение было введено в 80% школ, слушание музыки — в 60%. Что касается детских садов, то их музыкальное обслуживание было стопроцентным[5].
План преподавания музыки и пения в общеобразовательной школе, который действовал в 1918—1920 годах, видел цель музыкального обучения в том, чтобы «сделать оканчивающего общеобразовательную школу музыкально грамотным, сознательно относящимся к явлениям музыкальной жизни». На протяжении всего периода обучения в единой трудовой школе (то есть во всех ее девяти классах), учащиеся два раза в неделю должны были посещать музыкальные уроки. В первом и втором классах они занимались преимущественно пением по слуху. В третьем — осуществлялся постепенный переход к пению по нотам; здесь вводились элементы музыкальной грамоты и музыкальный диктант. В четвертом классе уже ставилась задача развития тонального и гармонического чувства, вводилось 2- и 3-голосное пение и упражнения по сольфеджио. В пятом классе практиковалось 2-, 3- и 4-голосное пе-
[155]
ние, выполнялись упражнения в пении интервалов, гамм, аккордов и сообщались теоретические сведения о них. В шестом классе изучался систематический курс элементарной теории, излагались основы гармонии и демонстрировались приемы анализа изучаемого материала. В последующих трех классах (седьмом, восьмом и девятом) учащиеся знакомились с музыкальной литературой. Им читались краткие курсы по истории музыки и истории русской народной песни. На протяжении всех девяти лет обучения обязательным элементом каждого музыкального урока являлось слушание музыки. Назначение занятий в последние три года определялось так: «слушать музыку, видеть в ней не непонятную игру звуков, а живое воспроизведение переживаний художника, вылившихся в изящные внешние формы»[6].
Основы профессионального музыкального образования закладывались и в различных студиях, курсах, народных школах и консерваториях, где учились уже взрослые, главным образом из числа рабочих, красноармейцев и их детей. До революции музыкальную подготовку получали, как правило, лишь выходцы из привилегированных классов. Найти пополнение для профессиональной музыкальной школы в среде трудящихся было почти невозможно. Его нужно было создать, привлекая любителей музыки к занятиям в особых, полупрофессиональных, полусамодеятельных, близких к массам учебных заведниях — студиях, курсах и т. п. Последние возникали в большом количестве во многих городах на волне той бурной общественной активности, которой были отмечены первые послереволюционные годы.
[156]
В июле 1918 года, в частности, открылись народные консерватории в Астрахани и Витебске[7]. Осенью того же года начала работу Нижегородская народная консерватория. Уже в год своего основания она впустила в свои двери 900 учащихся[8]. Видную роль приобрели народные музыкальные школы. В 1920 году на территории РСФСР их насчитывалось 75 — из них 19 в Москве (по одной в каждом районе) и столько же в Петрограде. Эти школы ставили перед собой задачу «дать слушателям общее музыкальное воспитание, а затем и образование»[9]. Занятия в них проводились в вечернее время. «На основании декрета о бесплатном обучении в школах всех ступеней, — гласило обязательное постановление по Музыкальному отделу Наркомпроса,— настоящим объявляется, что обучение в народных музыкальных школах... производится бесплатно»[10].
В организацию музыкальных учебных заведений для трудящихся и их детей включаются местные Советы, общественные организации, военное ведомство.
В Красной Армии и во Флоте была создана широкая сеть музыкальных школ студийного типа. В 1920 году только на базах Балтийского Флота работало 38 школ
подобного рода. В них обучалось 2 500 военных моряков5.
Очаги музыкального образования нередко возникали но инициативе самих трудящихся. Партия и пролетарское государство предпринимали все возможное,
[157]
чтобы стихийную художественность народа переключить на сознательное восприятие искусства.
Примечательна история открытия при содействии В. И. Ленина первой в стране детской музыкальной школы.
Участник этого события А. А. Фомин рассказывает: «Вскоре после Октябрьской революции у Путиловских рабочих возникла мысль: организовать при заводской школе детскую художественную студию. Раньше способные, талантливые дети рабочих не имели возможности развивать свои дарования, теперь же такая возможность была, и мы хотели воспользоваться ею. Школьный педагог — музыкант Михаил Александровичу Плотников охотно вызвался помочь нам. Предстояло выхлопотать отдельное помещение для студии, раздобыть рояли, струнные инструменты.
Заручившись согласием исполкома районного Совета, поехали мы с Плотниковым в Отдел народного образования. Здесь нас выслушали внимательно, а потом сказали:
— Идею вашу мы одобряем, товарищи путиловцы, но сами понимаете: время сейчас тяжелое, нет ни топлива, пи хлеба, а вы со своей студией... Придется годик подождать!
Услышал такой ответ Плотников и руками развел: ничего, мол, не вышло. А я и говорю ему:
— Поедем, Михаил Александрович, в Смольный, к товарищу Ленину.
В то время в Смольном бывало очень много всякого народа. Крестьяне-ходоки, солдаты, питерские и приезжие рабочие — все спешили в штаб революции по
неотложным делам.
Вот приехали и мы в Смольный. Разыскали без
[158]
особого труда приемную Ленина, докладываем секретарю, по какому делу прибыли.
Секретарь тоже выслушал нас внимательно и тут же посоветовал обратиться в... Отдел народного образования! Стал я возражать. Говорю, что были мы уже там, ничего толком не добились и больше туда не пойдем.
— К тому же, — говорю, — я являюсь делегатом от путиловцев.
Должно быть, говорил я довольно громко. Вдруг вижу — дверь сбоку открылась настежь, и на пороге показался товарищ Ленин.
— Что, что?—воскликнул он. — Путиловцы пришли? Проходите, товарищи!
От неожиданности мы с Плотниковым немного растерялись, тем не менее сразу же вошли в кабинет, где, кроме нас, были другие люди. Заложив левую руку за жилет, а в правой держа карандаш, Владимир Ильич спросил нас:
— Чем могу вам служить?
Тут мы и рассказали нашу историю.
— Вы слышите, что путиловцы хотят? — обратился товарищ Ленин ко всем, кто был в его кабинете. — Они хотят создавать свою трудовую интеллигенцию, а им говорят: «Подождите годик!» Никаких промедлений, студию надо организовать!
Снял он сейчас же трубку с телефонного аппарата и, связавшись с Отделом народного образования, сказал:
— К вам придут путиловцы — дайте им все, что нужно.
Сильно взволнованные таким приемом, мы горячо поблагодарили Владимира Ильича и вышли. А еще через день явились в Отдел народного образования, и
[159]
тут уж с нами разговаривали совсем по-другому. Прошло еще несколько дней. За это короткое время для нашей студии подобрали на Рижском проспекте (ныне проспект Огородникова) отличный особняк с хорошим садом. Путиловцы сами приняли деятельное участие в ремонте помещения; доставке музыкальных инструментов. Так было положено начало существованию заводской художественной студии для детей, преобразованной много позже в первую музыкальную студию Ленинграда»[11].
Народные музыкальные школы нуждались в особой методике преподавания, в особых учебных программах и пособиях, а главное — в многочисленных кадрах учителей широкого профиля. И все это предстояло создавать впервые, не имея никакого опыта. По инициативе Музыкального отдела Наркомпроса уже в 1918 году были организованы первые курсы учителей пения, а в 1919 году — инструкторов по общемузыкальному образованию[12]. Подобные курсы начинают вскоре возникать при местных музыкальных отделах, секциях и других органах народного просвещения. Они становятся важным источником подготовки музыкальных работников для учебно-просветительных организаций и различных форм музыкально-художественной самодеятельности. Той же цели служат и специальные школы по подготовке учителей музыки.
Одновременно широко открывается доступ в профессиональные учебные заведения народным учителям. Проявляя заботу об их музыкальной подготовке, Наркомпрос принял особое постановление. «Музыкальный отдел Народного Комиссариата по просвещению,— подчеркивалось в нем, — ...считает одной из главных
[160]
задач поднятие культурного уровня музыкального образования народных учителей и для проведения этой программы в жизнь устанавливает... свободный доступ народных учителей в специальные музыкальные школы...»[13] К организации музыкального образования трудящихся Наркомпрос привлекает крупных музыкантов-профессионалов. Руководителем Отдела общемузыкального образования в самом Наркомпросе и заведующим курсами по подготовке «внешкольных, школьных и дошкольных работников по общему музыкальному образованию» при Наркомпросе была назначена П. Я. Брюсова[14]. Активное участие в работе Музыкального отдела Наркомпроса принимали в те годы сестры Гнесины — Елена и Евгения[15]. К руководству народными музыкальными школами были привлечены Б. В. Асафьев, М. Н. Баринова, Ф. М. Бронфин, Н. И. Рихтер и другие видные музыканты[16].
На различных участках народного музыкального просвещения работали в первые годы Советской власти также А. Б. Гольденвейзер, К. П. Игумнов, А. Д. Кастальский, Г. Л. Катуар, Л. Э. Конюс, Э. А. Купер, С. А. Кусевицкий, Г. П. Прокофьев, С. В. Розанов и другие[17].
В результате всех этих мер уже в первые послереволюционные годы размах массового музыкального образования намного превзошел достижения старой Рос-
[161]
сии. Но для новой России этого было совершенно недостаточно. В специальном документе Наркомпроса, опубликованном в 1919 году, отмечалось, что «с вступлением первого полугодия 1920 года музыкальное образование и воспитание в стране пойдут но новому пути и но программе столь широко и глубоко задуманной, как не было еще нигде в мире... Искусство (в частности, музыка) как нечто отвлеченное, как нечто доступное лишь избранным, — должно раз и навсегда уступить место новому искусству — искусству народа и для народа. Проникнув в самые толщи народные, оно должно оттуда брать свою мощь, силу и обновленную красоту... Задача Музо — через посредство специалистов дать все необходимые знания пролетариату, для того, чтобы оттуда вышли новые, истинно пролетарские работники и творцы в области искусства...»[18]. Осуществление столь грандиозной программы требовало многочисленной армии высококвалифицированных профессионалов-музыкантов. Для их подготовки предстояло создать новую систему уже профессионального музыкального образования.
Эта новая система не могла возникнуть на пустом месте. Ее рождение было неразрывно связано с использованием того ценного, что имела старая профессиональная школа, что она накопила за длительный период своего дореволюционного развития. Вместе с тем, революция требовала устранить из нее те реакционные и чуждые народу черты, которые были несовместимы с нормами социалистической культуры. Перед партией и пролетарским государством во весь рост встала задача глубокой и длительной перестройки тон системы профессионального художественного образования, которую
[162]
Советская страна получила в наследство от старого общества.
Чтобы представить всю сложность решения этой задачи, следует, хотя бы кратко, остановиться на характеристике дореволюционных профессиональных музыкальных учебных заведений.
Было их для такой громадной страны, как Россия, ничтожно мало. Не считая пяти консерваторий, на всю Империю приходилось 47 музыкальных школ и училищ. В них обучалось 4 944 учащихся. Большая часть этих учебных заведений находилась в Европейской части страны. Здесь числилось 41 учебное заведение низшего и среднего звена. В Привислинских губерниях (территория ряда Польских губерний) работало 4 музыкальных школы и училища. На огромной территории Сибири и на Кавказе было только по одному учебному заведению подобного рода. Что касается Средней Азии (современная площадь Казахской, Киргизской, Таджикской, Туркменской и Узбекской союзных республик), то там вообще не было никаких очагов музыкального образования.
Но и существовавшие учебные заведения находились в тяжелом материально-правовом положении. Все они были либо частными, либо принадлежащими разным общественным организациям. Государство не обеспечивало их ни денежными средствами, ни достаточными правами. Из общей суммы в 380 053 рубля в год, на которые существовали все 47 музыкальных учебных заведений низшего и среднего звена, государственные субсидии составляли лишь 2,4% (около 9 000 рублей). Главным источником существования музыкальных школ была плата за обучение (339 940 рублей или 89,4%). Естественно, что она была весьма высока и доступна лишь зажиточным людям. При этом положение школ остава-
[163]
лось трудным, и держались они нередко лишь на энтузиазме музыкантов, осознававших необходимость создания национальной музыкальной школы. К тому же выпускники этих школ не пользовались никакими официальными правами, а тем более государственным распределением на работу[19].
Приведем несколько примеров.
Астраханское музыкальное училище было основано в 1900 году. Обучение в нем осуществлялось в течение 7 лет. Оканчивающие училище получали среднее музыкальное образование, однако никаких прав на трудоустройство они не имели и были предоставлены самим себе. Училище не имело собственного помещения. Здание, в котором проводились занятия, было наемным. За него ежегодно выплачивалась солидная сумма. Как и другие учебные заведения, училище существовало прежде всего за счет поступлений от учащихся. Из 19 516 рублей, уходивших на его годовое содержание, лишь 7 271 рубль поступал из других источников (главным образом, от меценатов) и 300 рублей от земств. Государственной субсидии не было совсем[20].
Семью годами позднее открылось музыкальное училище в Нижнем Новгороде. Оно возникло по инициативе группы энтузиастов, и прежде всего В. Ю. Виллуана — яркого музыканта и опытного педагога, в прошлом питомца Московской консерватории по классу выдающегося скрипача Ф. Лауба. Виллуан открыл в Нижнем Новгороде и бесплатные классы фортепианной игры,
[164]
где под его наблюдением преподавали старшие ученицы музыкальных классов Нижегородского отделения РМО.
Музыкант-демократ стремился сделать музыку «доступной всем, а не только состоятельным людям». Он немало сделал для того, чтобы распространить любовь к ней среди ремесленного рабочего населения города. Хотел он привлечь таланты из низших слоев и к профессиональному музыкальному образованию. Но созданное им училище вынуждено было брать с каждого ученика за обучение 70—80 рублей в год — сумма по тем временам немалая. И все же с каждым годом возрастали долги Нижегородского училища, и Виллуан сколько мог покрывал их своим директорским жалованием[21].
Такие же трудности испытывали учебные заведения и в столицах царской России. Так, в частности, обстояло дело с ныне знаменитым музыкальным училищем, основанным в Москве в 1895 году сестрами Е. и М. Гнесиными. Его годовое содержание стоило 18 000 рублей, и вся эта сумма поступала за счет платы за обучение, других источников не было[22].
В тяжелых материально-правовых условиях находились и столичные консерватории. Уже отмечалось, что они, как и многие другие профессиональные учебные заведения РМО, содержались на Частные пожертвования и на те средства, которые поступали от доходов с концертов и платы за обучение. Последняя, являясь основным источником средств, неуклонно росла. В Московской консерватории, например, плата за обучение в 1916 году составила 170 350 рублей против 90 300 рублей в 1906 году. Правительственная же субсидия за
[165]
этот период оставалась неизменной — 20 000 рублей в год[23].
Стремление профессуры добиться увеличения государственной помощи не встречало поддержки.
Показательно заявление вице-председателя Главной дирекции РМО В. И. Тимирязева на съезде консерваторских деятелей в январе 1917 года. В ответ на запрос представителя столичной консерватории об увеличении государственных ассигнований на нужды музыкального образования, он сказал: «При настоящих чрезвычайных обстоятельствах, последствия коих будут, без сомнения, очень длительными, едва ли можно рассчитывать на успех в случае возбуждения ходатайства о серьезном увеличении правительственной субсидии, усиление коей и в прошлое время не встречало особого сочувствия ни со стороны правительственной власти, ни со стороны законодательных учреждений»[24].
Все это не могло не сказаться отрицательно и на составе учащихся, и на организации и даже содержании учебного процесса.
Нужно было обеспечить получение высокой платы за обучение. В школы и даже в консерватории приходилось принимать иной раз зажиточных людей, не думавших о серьезных занятиях музыкой. Выпускники имели мало шансов на обеспеченную работу, и потому многие учащиеся совмещали занятия музыкой с другими, специальностями более перспективными. Состав школ и консерваторий был поэтому весьма неоднородным и мало стабильным. Даже школа сестер Гнесиных, по праву снискавшая себе еще в дореволюционный период немалую славу, вряд ли могла в ту пору рассматриваться
[166]
по настоящему профессиональным учебным заведением. Спустя десять лет после ее основания, в составе школы преобладали ученики из других учебных заведений. В 1905 году их было 82 из 141 обучавшегося в школе. Лишь 48 учащихся посвятили себя целиком профессии музыканта. К тому же, наряду со взрослыми, здесь обучалось 11 детей дошкольного возраста[25].
Естественно, что многие учащиеся не проходили курс до конца и уходили туда, где могли получить знания для иной, немузыкальной профессии. Так происходило не только с учащимися школ и училищ, но и со студентами консерваторий.
Московская консерватория, например, выпускала на протяжении первого двадцатилетия своего существования единицы, в лучшем случае, 10—15 человек в год. В 1892 году число окончивших полный курс консерватории впервые перешагнуло за 20, в 1900 году поднялось до 59 и с тех пор (вплоть до 1917 года) колебалось между 22 и 43. Между тем общее число учащихся в Московской консерватории составляло: в 1899/900 учебном году — 522, в 1904/905 — 644, в 1908/909 — 713, в 1909/910 году — 814, в 1913/14 — 932, в 1914/15 — 977[26].
Упомянутое выше музыкальное училище в Астрахани за 10 лет (1900—1910 годы) выпустило всего лишь 26 человек, хотя обучалось в нем только в 1909/10 учебном году 203 учащихся[27]. Музыкальная школа сестер Гнесиных за период с 1895 года по 1909 год подготови-
[167]
ло только 36 человек, а обучалось в нем в 1909/10 учебном году 180 человек
Весьма показательна и такая цифра. Число профессиональных музыкантов, выпущенных всеми учебными заведениями РМО в 1898 году, составило лишь 4% от общего количества обучавшихся[28].
Все это не могло не отразиться на учебных планах музыкальных учебных заведений. В них явно недоставало общеобразовательных и музыкально-исторических дисциплин, необходимых серьезному профессионалу, но ненужных любителю. Как отмечал профессор А. Б. Гольденвейзер, «в музыкальных школах культивировалась по-преимуществу игра на фортепиано»[29]. Не было и нужной координации между школами разных ступеней. Мы уже упоминали о пестром составе, например, школы Гнесиных. И в Московской консерватории уживались разновозрастные люди. Не всегда существовало заметное различие в планах школ, училищ и консерваторий. Так, почти совпадали и продолжительность занятий и программа по классу вокала и фортепиано Московской консерватории и Московского училища, основанного В. Ю. Зограф-Плаксиной[30]. По сути, в дореволюционной России не было сколько-нибудь стройной системы подготовки музыкантов-профессионалов.
И все же, русские музыкальные учебные заведения и в дореволюционное время достигли заметных успехов. Прежде всего, благодаря самоотверженной, энергичной,
[168]
бескорыстной работе своих педагогов. А педагогами этими были многие замечательные музыканты и удивительные люди. Особенно значителен был состав профессоров обеих столичных консерваторий. Среди них — Н. А. Римский-Корсаков, воспитавший таких композиторов, как А. К. Глазунов, А. А. Спендиаров и II. Ф. Стравинский, П. II. Чайковский, и его ученик С. И. Танеев. Последнему русская музыкальная школа обязана воспитанием целой плеяды ярчайших талантов, прославивших отечественную культуру. Его учениками были А. Н. Скрябин, С. В. Рахманинов, А. Д. Кастальский, Г. Э. Конюс, З. П. Палиашвили, Б. Л. Яворский, Р. М. Глиэр, С. Н. Василенко, А. II. Александров и многие другие. Имя Танеева как педагога стало нарицательным. Он не только обучал технике и культуре композиторского труда, но и воспитывал в своих учениках рыцарскую преданность искусству. «Это был учитель идеальный, каких мало в мире, какие рождаются только поколениями, — писал о нем критик Ю. Д. Энгель.— Учитель зреющих, как и учитель зрелых; учитель словом, как и учитель делом; учитель контрапункта, как и учитель жизни...»[31]. И сегодня называют танеевским самоотверженное и мастерское, умелое и тактичное, настойчивое и благородное отношение к педагогическому труду.
Несмотря на все сложности, русская музыкальная школа еще до революции получила мировое признание. Об этом, в частности, свидетельствуют успехи ее воспитанников на международных конкурсах. Член жюри Второго международного конкурса пианистов в Берлине в 1895 году Асгер Хамерик говорил о русских участниках конкурса: «Рубинштейн (Антон Григорьевич.—
[169]
Г. Т.) был бы горд видеть представленную на конкурсе фалангу превосходных русских пианистов, которые все проявили себя подлинными артистами». Называя воспитанников русской школы «превосходящими представителей других национальностей», А. Хамерик обращался к ним: «Вы представляете нацию, которая в настоящий момент занимает в музыкальной области чрезвычайно высокое место и в скором времени будет на первом»[32].
Нельзя не отметить, что многие русские музыкальные учебные заведения славились своим радикализмом. Еще в период первой русской революции педагоги- музыканты выступали за коренные реформы во всей жизни страны, в том числе художественной. В начале 1905 года была опубликована декларация московских музыкантов, в которой говорилось следующее:
«...Когда по рукам и ногам связана жизнь, не может быть свободно и искусство, ибо искусство есть только часть жизни. Когда в стране нет ни свободы мысли и совести, ни свободы слова и печати, когда всем живым творческим начинаниям народа ставятся преграды, чахнет и художественное творчество. Горькой насмешкой звучит тогда звание свободного художника. Мы не свободные художники, а такие же бесправные жертвы современных ненормальных общественно-правовых условий, как и остальные русские граждане. И выход из этих условий, по нашему мнению, только один - Россия должна наконец вступить на путь коренных реформ»[33].
Среди 29 выдающихся музыкантов и педагогов, подписавших декларацию, были А. Ф. Гедике, Р. М. Глиэр,
[170]
А. Б. Гольденвейзер, А. Т. Гречанинов, К. Н. Игумнов, Н. Д. Кашкин, К. А. Кипп, Ю. Э. Конюс, А. Н. Корещенко, Л. В Николаев, Г. А. Пахульский, С. В. Рахманинов, С. И. Танеев. Выступление московских музыкантов вызвало горячее сочувствие всей передовой музыкально-художественной интеллигенции. Оно было поддержано группой авторитетных петербургских педагогов во главе с Н. А. Римским-Корсаковым. К заявлению присоединились и студенты столичных консерваторий. Требования коренных реформ, выраженные столь четко в декларации, в полной мере относились и к профессиональной музыкальной школе. Но они могли быть осуществлены только на основе великой революционной перестройки всей общественной жизни.
Первым шагом пролетарского государства по пути революционного преобразования старой профессиональной музыкальной школы явилось радикальное изменение ее материально-правовых условий. Мы уже говорили выше о тех декретах Советской власти, которые изъяли музыкальные школы, училища и консерватории из ведения частных лиц и обществ и передали их в ведение государства. Национализация музыкальных учебных заведений не была формальным актом. Положив начало коренной перестройке всей деятельности старой музыкальной школы, она, тем самым, создавала необходимые предпосылки для формирования новой. В соответствии с ленинской идеей о широком использовании завоеваний старой школы, был взят курс на сохранение л укрепление существовавших профессиональных музыкальных учебных заведений и па открытие многих новых. Уже в первые годы революции, наряду с упоминавшимися народными музыкальными школами, в разных городах Советской республики по инициативе Му-
[171]
зыкального отдела Наркомпроса начали создаваться специальные музыкальные школы. Их число в 1920 году достигло 200, а количество учащихся — 26000 человек[34]. В качестве базы для профессиональных школ Музо Наркомпроса использовал лучшие из дореволюционных частных учебных заведений, национализированных Советской властью. Так, например, музыкальная школа Е. и М. Гнесиных была реорганизована во Вторую московскую государственную музыкальную школу. Учрежденная в 1903 году, музыкальная школа В. А. Селиванова — в Третью, а бывшее музыкальное училище В. Ю. Зограф-Плаксиной — в Шестую московскую государственную школу[35] и т. д.
Важной задачей государственных музыкальных школ было изменение социального состава учащихся. К концу гражданской войны в народных музыкальных школах процент учащихся из рабочей и крестьянской среды достиг 70, в профессиональных школах I и II ступени — около 50, в высших же музыкальных учебных заведениях он не превышал тогда 30[36]. Все же, впервые в истории человечества двери специальных учебных заведений в области музыки, в том числе консерваторий, широко открылись для трудящихся и их детей.
Чтобы усилить их приток, еще в 1918 году был принят специальный декрет, отменивший все существовавшие ранее ограничения при приеме в вузы. В целях ликвидации не только юридических, но и фактических привилегий для имущих классов по указанию В. И. Ленина были временно отменены и вступительные экзамены
[172]
в высшие учебные заведения, в том числе в музыкальные.
Правда, для консерваторий был принят особый порядок. Отмена вступительных экзаменов могла бы привести к заполнению их людьми, не имевшими никаких данных для обучения музыке. Поэтому Музыкальный отдел Наркомпроса своим «Обязательным постановлением» 1918 года указал на необходимость проведения приемных экзаменов по специальности. «Во исполнение декрета о всеобщем бесплатном обучении, — подчеркивалось в этом постановлении,— настоящим объявляется, что обучение в Государственных консерваториях производится отныне бесплатно. Прием в число учащихся производится по конкурсному испытанию особой приемной комиссией, причем зачислению подлежат лишь исключительно одаренные лица, могущие посвятить себя музыкальному искусству...»[37]. Являясь исключением из общего правила, указание Музыкального отдела позволило сохранить необходимый художественный уровень студентов консерватории, хотя и значительно удлинило процесс их пролетаризации. Необходимо было провести и более значительные и более трудные реформы: перестроить всю учебную, воспитательную и творческую жизнь учебных заведений и создать продуманную систему подготовки советских музыкантов-профессионалов.
Перестройка эта, начатая вскоре после революции, временно была приостановлена в связи с интервенцней и гражданской войной. Первое партийное совещание по народному образованию, на котором обсуждались пути коренной перестройки школы, состоялось в
[173]
декабре 1920—январе 1921 года. Оно поставило задачу «политически завоевать» высшую школу и «обеспечить революционное направление ее работы»[38]. 2 сентября 1921 года Совнарком утвердил Устав высшей школы. По этому Уставу руководство вузами возлагалось на Наркомпрос, a в каждом из них — на правление во главе с директором. Чтобы объединить педагогов родственных специальностей и тем положить начало кол- летальности в научно-учебной практике, создавались предметные комиссии. Во все руководящие органы вуза включались представители студенчества[39].
Проект нового Устава обсуждался и был одобрен Всероссийской конференцией высших учебных заведений. На ней представители профессуры согласились и с дальнейшей демократизацией управления высшей школы, и с установлением советского контроля над вузами. Однако проведение Устава в жизнь встречало сопротивление со стороны части старой интеллигенции. 3 июня 1922 года Советское правительство вынуждено было издать разъясняющее положение о высших учебных заведениях. На основе этих документов начала осуществляться коренная перестройка и музыкальной школы.
Необходимость такой перестройки обусловливалась не только крупными недостатками, которые существовали в постановке учебного дела в дореволюционных
консерваториях, но также новыми требованиями, предъявленными к ней революцией.
Предстояло четко определить задачи разных ступеней музыкальной школы, координировать их, превратив в подлинно высшие учебные заведения. Нужно бы-
[174]
ло преодолеть элементы «любительства» и сделать консерватории подлинно профессиональными учебными заведениями. Консерватории должны были теперь выпускать музыкантов, не только профессионально владеющих мастерством, но и умеющих связать свою работу со строительством новой жизни. А это требовало создания новых учебных планов и программ, введения ряда новых дисциплин — прежде всего, обществоведческих. Необходимо было решить и множество других вопросов, в том числе ликвидировать прежнее резкое несоответствие между числом учащихся и количеством выпускников консерваторий. До революции, в условиях платного обучения, не регламентировались и сроки пребывания в консерватории. Теперь понадобилось их точно определить, а потому разбить по годам и всю программу обучения.
Процесс перестройки консерваторий в те годы вошел в историю строительства советской музыкальной культуры под названием «типизации». К осени 1922 года в Ленинградской и Московской консерваториях под руководством работников Наркомпроса и при активном участии передовой профессуры были разработаны соответствующие проекты. Они содержали принципиальные положения и конкретные рекомендации по структуре и методике преподавания. В этих документах были объединены и сформулированы те мысли о задачах консерваторий, которые не раз выдвигались выдающимися русскими музыкантами еще в предреволюционные годы. Не все вопросы нашли свое освещение в указанных проектах. Однако многие их положения были настолько важными, что позволяли сделать серьезные шаги в направлении создания новой, советской системы музыкального образования. Принципиальное значение имел, на- пример, пункт о том, что консерватории должны «отве-
[175]
чать требованиям современной жизни» и «выпускать музыкальных художников, нужных и ценных для жизни и приспособленных к практической работе». Важную роль впоследствии сыграло требование воспитания "не узких техников-специалистов данной области музыкального искусства», а «подлинных музыкантов-художников, которые при полном технологическом вооружении по специальности обладали бы общим художественным развитием, имели бы основательные и широкие знания во всем музыкальном искусстве, в искусстве вообще и, наконец, в тех областях гуманитарных и естественных наук, которые соприкасаются с искусством и содействуют общему образованию художника и развитию его индивидуальности». В полном соответствии с ленинскими требованиями находился и тезис о том, что советские консерватории должны стоять на уровне «современного развития мирового музыкального искусства», «современной европейской науки о музыке», «современных музыкально-педагогических систем и методов»[40]. Соответствующие задачи выдвигались и в решениях партийных органов. Так, V партийная конференция Хамовнического района Москвы (на его территории в 20-е годы размещалось 18 высших учебных заведений, в том числе и Московская консерватория) в ноябре 1925 года специально подчеркивала: «особо важное значение в наших условиях приобретает постановка партийно-воспитательной работы в вузах с тем, чтобы они готовили не только специалистов, но и действительно командиров социалистического строительства в нашей стране»[41].
Кроме существовавших ранее композиторской и ис-
[176]
полнительской специальностей, проект реорганизации консерваторий намечал также подготовку музыковедов и работников массовой музыкальной культуры — руководителей рабочей и красноармейской самодеятельности, преподавателей-методистов для общеобразовательной школы, инструкторов клубной работы и т. п.
Немало полезных суждений содержалось в проектах и по вопросам перестройки методики и содержания преподавания в консерваториях. Указывалось, в частности, на необходимость разработки новых дисциплин и пересмотра программ и методов преподавания тех предметов, которые существовали в учебных планах дореволюционного времени.
«Типизация» консерваторий начала реально осуществляться с 1923/24 учебного года[42], когда вся система музыкального образования в стране была разделена на три ступени: начальную, среднюю и высшую. В результате проведения этой реформы младшие и средние курсы в консерваториях превращались, соответственно, и школу первой ступени и техникум, а старшие курсы. становились высшим учебным заведением.
Важное значение имело методическое совещание по художественному образованию, созванное Наркомпросом по указанию Центрального Комитета партии 6 апреля 1925 года[43]. Оно явилось как бы завершающим этапом в той реформе, которая подготавливалась в консерваториях в предшествующие годы. Совещание выработало «Положение о Ленинградской и Московской консерваториях», ставшее историческим в становлении и развитии всех советских консерваторий. Закрепляя за ними роль высших учебных музыкальных заведений,
[177]
«Положение» четко определяло их профиль и целевое назначение. «Консерватория, — говорилось в нем,— имеет целью готовить художников-профессионалов в области музыкального искусства, а именно:
а) композиторов и научно-музыкальных работников;
б) концертных и оперных исполнителей-солистов, концертных исполнителей в ансамбле, высококвалифицированных исполнителей в симфоническом и оперном оркестре, дирижеров симфонического оркестра и. оперы;
в) преподавателей в музыкальных техникумах по всем музыкальным предметам, руководителей по художественному воспитанию в области музыки для педагогических высших учебных заведений и техникумов, музыкальных инструкторов высшей квалификации для руководства музыкальной работой...»[44].
Подобно остальным вузам, консерватории получили факультетскую структуру. В середине 20-х годов в высших музыкальных учебных заведениях было учреждено три факультета: научно-композиторский, исполнительский и инструкторско-педагогический[45]. Основанием группировки специальностей. по факультетам служил тип будущей профессиональной деятельности выпускника. Научно-композиторский факультет подразделялся на отделения композиторское и научно-музыкальное (впоследствии переименованное в музыковедческое). Исполнительский факультет включал отделения клавишных инструментов, оркестровое, вокальное и дирижерское. Инструкторско-педагогический факультет объединял три отделения: общего музыкального образования, профессионального музыкального образования и
[178]
детского музыкального воспитания. В программу консерваторий (для всех специальностей) были включены обязательные общеобразовательные дисциплины, методика педагогической работы и педагогическая практика, хоровая музыка и организация хора[46]. Для преподавания этих дисциплин были созданы межфакультетские отделения. Особенно важное значение приобрели, общественно-политическое и музыкально-теоретическое отделения, стремившиеся охватить студенчество идейным воздействием и заложить прочную теоретическую основу для будущей работы по специальности. В тот же период в консерваториях были организованы кабинеты обществоведения и сформированы предметные комиссии по обществоведению. В Московской консерватории эти нововведения были осуществлены в 1923/24 учебном году[47]. С 1926/27 года в план был включен также цикл военных наук и стрелковое дело. Координирование преподавания общественных наук с военными обеспечивалось предметной комиссией по обществоведению[48]. В те же годы в консерваториях впервые была введена и курсовая система, дававшая возможность регулировать порядок обучения и планировать выпуск студентов.
Все эти и другие мероприятия сыграли важную роль. в дальнейшем развитии консерваторий как советских еысших музыкальных учебных заведений.
Осуществляя коренную перестройку старой школы, Советская власть предлагала и такие новые формы, каких дореволюционная Россия не знала. Особенно большое и даже принципиальное значение приобрели
[179]
рабочие факультеты (рабфаки), созданные постановлением Советского правительства в 1919 году. Через Ю лет только в РСФСР насчитывалось около 60 рабфаков. В них обучалось около 30 тысяч молодых рабочих и крестьян[49]. Рабочие факультеты сыграли важную роль и в становлении советского музыкального образования. В Москве поначалу был создан единый художественный рабфак. С первых лет своего существования он начал обеспечивать постоянный приток пролетарской и крестьянской молодежи и в число студентов Московской консерватории. Это заметно сказалось на ее составе. Если в 1922/23 учебном году в ее полуторатысячной аудитории насчитывалось лишь 164 студента из рабоче-крестьянской среды, то уже в 1927 году их было 476[50].
Классовый состав учащихся медленно, но неуклонно менялся и в Ленинградской консерватории. Здесь, наряду с другими, большую роль сыграли специальные студенческие бригады, систематически выступавшие на фабриках и заводах, в цехах и по местному радио ей рассказами о музыкантах, о музыкальном образовании, о своем вузе. Это способствовало привлечению одаренной рабоче-крестьянской молодежи в консерваторию, К 1 апреля 1925 года среди 836 учащихся Ленинградской консерватории (по всем трем ступеням) было уже 172 рабочих и 128 крестьян[51].
Новый состав учащихся явился могучим фактором, благотворно сказавшимся на всех сторонах жизни музыкальной школы. «Консерваторией завладели новые хозяева. По коридорам холодного помещения сновали
[180]
девушки в пальто, платочках, молодые люди в шине- лях и морских бушлатах, армейскнх бутсах с обмотками, в шлемах-буденовках, которые не всегда снимались с головы при входе в помещение консерватории,— вспоминает один из активистов-музыкантов Ленинградской консерватории С. И. Савшннский. — Вчерашние комиссары, политработники, командиры, красноармейцы и краснофлотцы, горячая молодежь, нередко пришедшая прямо с фронтов гражданской войны, внесли в застоявшуюся атмосферу «святилища чистого искусства» страстность классовых боев»1.
И на московском художественном рабфаке занимались преимущественно бывшие бойцы, командиры и политработники Красной Армии. Для того чтобы их . влияние на жизнь художественных вузов стало более эффективным, нужно было на базе единого художественного рабфака создать специализированные рабфаки при каждом из вузов искусства, в частности при консерваториях.
Вопрос о такой реорганизации был выдвинут коммунистами и комсомольцами консерватории весной 1929 года перед Хамовническим райкомом партии. Райком партии, поддержав их инициативу, 6 июля того же года принял решение, в котором предлага- лось «заинтересованным организациям подыскать и об- судить в 3-дневный срок кандидатуру на должность заведующего Музыкального рабфака». Одновременно районный комитет партии просил Главное Управление по профессиональному образованию Наркомпроса РСФСР «ускорить вопрос организации Музыкального рабфака при консерватории на основании решения... партийной организации» 2.
Так, при Московской консерватории в 1929 году, а при Ленинградской консерватории в 1931 году[52] были созданы рабочие факультеты. Они во многом способствовали дальнейшей активизации академической и общественной жизни консерваторий.
Рабфаки, однако, не стали для музыкальных вузов основным источником пополнения студентов, как это было в тех учебных заведениях, которые готовили кадры для промышленности и сельского хозяйства[53]. Обучение различным областям искусства, а особенно музыке, в высшем учебном заведении требуют хорошо и специально подготовленной молодежи. Ее не было, разумеется, в рабоче-крестьянской среде, выходцы из которой не имели до революции возможности профессионального обучения музыке. И даже те из них, кого привлекало это искусство, не могли сразу войти в классы консерваторий. Одного энтузиазма и преданности революции было недостаточно, чтобы стать ее студентами. Нужна была хорошая школа. Рабфак с этой задачей справиться в полной мере не мог. Консерватории искали и другие пути для подготовки своего пополнения.
[182]
В дореволюционное время лучшие педагоги сами активно искали талантливых молодых людей, и молодые таланты тянулись к этим мастерам со своей стороны. Педагог брал в ученики детей и делал их как бы членами своей семьи. Он не только обучал их, но и воспитывал — в малом и большом. Тесно общаясь с учениками, он руководил режимом их дня, направлял их занятия и в рабочие часы и в свободное время. Тесное общение позволяло учителю открывать причины удач и затруднений, как и успехов своих учеников, подсказывать им лучшие решения. Ведь умение работать— едва ли не самое ценное, чему педагог может научить формирующегося молодого художника. Воспитывая таким образом будущего музыканта с раннего детства, педагоги подготавливали замечательное пополнение для высшей музыкальной школы. Именно так учились в пансионате Н. С. Зверева Е. Бекман-Щербина и К. Игумнов, А. Зилоти и С. Рахманинов, А. Скрябин и другие в будущем выдающиеся музыканты. Так же формировала своих учеников замечательный петербургский педагог А. Н. Есипова[54].
При всей привлекательности, такой метод не годился в условиях резкого расширения контингента учащихся. Но выкристаллизовался другой путь: создание . школ для обучения особо талантливых детей непосредственно при консерваториях. Это позволяло педагогам высшего учебного заведения исподволь готовить себе учеников, длительное время влияя на их формирование, наблюдая за их развитием.
Приказом Наркомпроса от 29 июня 1932 года в состав Московском консерватории был влит Первый му-
[183]
зыкальный техникум и при нем открыта детская музыкальная школа с четырехлетним сроком обучения и подготовительным курсом. Осенью того же года руководство консерватории поставило вопрос перед Наркомом просвещения о создании специальных условий для сформировавшейся к этому времени группы особо одаренных детей.
Вспомним, что до революции консерватория также обучала и детей и юношей на разных ступенях образования. Новое положение, однако, лишь внешне напоминало былое. Консерватории к этому времени были уже по-настоящему профессиональными и строго организованными учебными заведениями. Включая в свой состав школу и техникум, они не потеряли этой организованности, а приблизили к себе контингент своих будущих студентов. Не слияние трех ступеней, а сохранение их раздельности, но с установлением теснейшей преемственности и взаимного контакта между ними — вот каков был смысл этой меры.
Опубл.: Трелин Г. Ленинский лозунг «Искусство – народу!» и становление советской музыкальной культуры. М.: Музыка, 1970. С. 152 - 183.
размещено 23.04.2009
--------------------------------------------------------------------------------
[1] А. Луначарский. Художественная задача Советской власти. «Художественная жизнь», 1919, № 1, стр. 2.
[2] А. В. Луначарский. В мире музыки, стр. 321.
[3] В. И. Ленин. О литературе и искусстве, стр. 436.
[4] Сборник декретов, постановлений и распоряжений по Музыкальному отделу Народного Комиссариата по просвещению, стр. 15.
[5] См.: «1917 — октябрь— 1920». Краткий отчет НКП, стр. 83.
[6] Музыка в единой трудовой школе, вып. 1. Пг. 1919, стр. 26.
[7] См.: «Искусство», 1918, № 1, стр. 20
[8] См.: Из музыкального прошлого. Сб. очерков, II, стр. 163.
[9] Сборник декретов, постановлений и распоряжений по Музыкальному отделу Народного Комиссариата по просвещению, вып 1.
[10] См.: Музыкальная культура Ленинграда за 50 лет, стр 431.
[11] В. II. Ленин. О литературе и искусстве, стр. 688—689.
[12] См.: «Советская музыка», 1967, № 3, стр. 61
[13] Сборник декретов, постановлений и распоряжений по Музыкальному отделу Народного Комиссариата но просвещению, вып. I, стр. 12.
[14] См.: «Советская музыка», 1967, № 1 3, стр. 61.
[15] Там же, стр. 72.
[16] См.: Музыкальная культура Ленинграда за 50 лет, стр. 433
[17] См.: ЦГАОР, ф. 4390, оп. 11, сд. хр. 209, л. 84.
[18] См. «Художественная жизнь», 1919, № 1, стр . 6—7
[19] Все приведенные выше данные указаны в кн.: Сборник статистических сведений о состоянии среднего и низшего профессионального образования в России, ч. 1. СПб., 1910.
[20] См.: Сборник статистических сведении о состоянии среднего и низшего профессионального образования в России, ч. 2. СПб., 1910 стр. 7
[21] См.: Из музыкального прошлого, II, стр. 150—158.
[22] См.: Сборник статистических сведении о состоянии среднего и низшего профессионального образования в России, ч. 2, стр. 235.
[23] См.: Эстетические очерки, вып. 1. Сост. В. К. Скатерщиков и С. X. Раппопорт М, 1963, стр. 239
[24] См.: Эстетические очерки, вып. 1, стр. 241
[25] См.: За тридцать лет. 1895—1925. Издание юбилейной комиссии по чествованию школы Гнесиных. М., 1925, стр. 12.
[26] См.: Хроника жюри. «Музыкальный современник», 1916, № 1, стр. 6.
[27] См.: Сборник статистических сведении о состоянии среднего и низшего профессионального образования и России, ч. 2, стр. 7.
[28] См.: Методические записки по вопросам музыкального образования, стр. 12.
[29] См.: «За тридцать лет. 1895—1925», стр. 34.
[30] См.: Л. Л. Артынова. Страницы истории в кн.: Методические записки по вопросам музыкального образования. М., 1966, стр. 12.
[31] Цит. по журн.: «Советская музыка», 1946, № 12, с.4.
[32] Цит. по кн.: 100 лет Ленинградской консерватории. Л, 1962, стр. 58—59
[33] Газ. «Наши дни», 1905, 2 февраля.
[34] См.: «1917 —октябрь—1920». Краткий отчет НКП, стр. 83.
[35] См.: Л. Л. Артынова. Страницы истории. В кн.: Методические записки по вопросам музыкального образования, стр. 16.
[36] См.: «1917 —октябрь—1920». Краткий отчет НКП, стр. 83/
[37] Сборник декретов, постановивший и распоряжений , вып 1, стр 14.
[38] ЦПА ИМЛ, ф.17, оп.60, ед. хр. 60, л.26.
[39] Там же, стр. 106.
[40] 100 лет Ленинградской консерватории, стр. 118.
[41] Партархив МК и МГК КПСС, ф. 88, оп. 1, ед. хр. 217, л. 77.
[42] Т а м же, ед. хр. 327, л. 4.
[43] См.: «Музыкальное образование», 1926, № 1—2, стр. 5—27.
[44] ЦПА ИМЛ, ф. 142, оп 1,ед хр. 463, л 3.
[45] Там же.
[46] См. в кн.: А. В. Луначарский. В мире музыки, стр. 502.
[47] Партархив МК и МГК КПСС, ф. 88, оп. 1, ед. хр. 327, л. 4.
[48] Там же.
[49] Партархив МК и МГК КПСС, ф. 88, оп. 1, ед. хр. 422, л. 2.
[50] См. сб.: К десятилетию Октября. 1917—1927. М., 1927, стр. 19—21.
[51] 100 лет Ленинградской консерватории, стр. 120.
[52] 100 лет Ленинградской консерватории, стр. 144.
[53] В 1923/24 учебном году Московское высшее техническое училище на 570 мест зачислило 400 рабфаковцев. Петровская (ныне Тимирязевская) Сельскохозяйственная академия на 400 мест приняла 305 рабфаковцев (ЦПА НМЛ, ф. 142, оп. 1, ед. хр. 469, л. 90). В конце 20-х годов основные индустриально-технические и социально-экономические вузы страны комплектовались рабфаковцами на 80-90% (ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 68, ед. хр. 396, л. 25). В том же 1923/24 учебном году в художественные вузы РСФСР на 2210 мест
было принято только 37 рабфаковцев. И в последующие годы картина существенно не изменилась. Так, в 1928 году Московская консерватория могла принять в число своих студентов лишь четырех рабфаковцев (ЦПА НМЛ, ф. 45, оп. 1, ед. хр. 469, л. 31).
[54] См.: С. Савшинский. Прошлое не умирает. «Советская музыка», 19G7, № 1, стр. 70.
(1.4 печатных листов в этом тексте)
--------------------------------------------------------------------------------
Елена БРОНФИН Музыкальная культура Петрограда первого послереволюционного пятилетия (1917 - 1922). Глава 4: Музыкальное воспитание и образование
[97]
<…> В дореволюционной России музыкальное образование и воспитание было отдано на откуп всевозможным попечительным и благотворительным организациям и церкви. Государство этими вопросами занималось в минимальной степени, не мешая частной инициативе, но бдительно следя за тем, чтобы нигде и ни в чем не было крамолы. Массовое музыкальное образование и воспитание практически
отсутствовало или, в лучшем случае, стояло на низкой ступени развития.
Сразу же после Октябрьской революции все коренным образом изменилось. Один из первых декретов молодого Советского правительства, который был подписан В. И. Лениным 12 июля 1918 года, это постановление о переходе Петроградской и Московской консерваторий «в ведение Народного комиссариата просвещения на равных со всеми высшими учебными заведениями правах»[1]. Так музыкальное образование, а вместе с ним и воспитание, стало прерогативой государства трудящихся, и значение его высоко поднялось.
При всех бесчисленных препятствиях и трудностях, которые, не щадя сил, должна была преодолевать Советская Республика, глава ее — В. И. Ленин — неустанно призывал народ овладевать культурой и знаниями, ибо видел в этом путь к утверждению и упрочнению завоеваний революции. «...Наши рабочие и крестьяне.. «делали» революцию и защищали дело последней, проливая потоки крови и принося бесчисленные жертвы,— так говорил Ленин, по воспоминаниям Клары Цеткин.—...Они получили право на настоящее великое искусство. Потому мы в первую очередь выдвигаем самое широкое народное образование и воспитание. Оно создаст почву для культуры...»[2]
Музыкальное образование и воспитание сразу же после Октябрьской революции стало составной и неотъемлемой частью общего образования и воспитания. Подавляющее большинство музыкантов-педагогов горячо откликнулось на призывы правительства, стремясь передать свои знания
[98]
и культуру народу. Их инициатива поддерживалась и направлялась Наркомпросом и, в частности (и в особенности), А. В. Луначарским. Но дело было новое, беспримерное. Новые формы и методы демократического (в подлинном смысле этого определения) музыкального образования не были известны, их надо было найти. А поиски в любой сфере никогда не бывают прямолинейны: на пути к поставленной цели неизбежны ошибки, заблуждения. Так было и в данной области. Педагогам-музыкантам приходилось действовать методом проб и ошибок. Одни эксперименты оказывались ложными, заводили в тупик, и их в конце концов отбрасывали; другие несли в себе рациональное зерно и потому совершенствовались, углублялись; третьи сразу представали как плодотворные, и их тотчас стремились применить на практике. Многое из найденного в ту пору успешно культивируется ныне, а кое-что и до сих пор не получило полноценного воплощения.
Наркомпрос, еще до образования в нем специального музыкального отдела, в конце 1917 года подготовил «Основные положения в работе с детьми», в одном из параграфов которого указывалось на роль и значение музыки в воспитании дошкольников Таким образом, с первых шагов своей деятельности руководящий орган выдвинул идею планомерного музыкального воспитания начиная с раннего детства.
Затем объектом реформ стала общеобразовательная школа. Уже в 1918/19 учебном году в ней появилось нововведение: музыкальные уроки по своему значению были приравнены к общеобразовательным. Сразу возникла необходимость совершенствования этих занятий, а следовательно, повышения квалификации школьных учителей музыки. 29 сентября, то есть в самом начале учебного года, обнародовано было за подписью А. В. Луначарского постановление от 10 сентября «О доступе народных учителей в специальные музыкальные учебные заведения», которое гласило: «Музыкальный отдел Народного комиссариата по просвещению, проводя в единой школе[3] преподавание музыки наряду с общеобразовательными предметами, считает одной из главных задач поднятие культурного уровня музыкального образования народных учителей и для проведения этой программы в жизнь устанавливает с началом текущего учебного года свободный доступ народных учителей в специальные музыкальные школы, инструментальные и хоровые, всех ступеней»[4].
Вслед за этим постановлением, 26 октября Музо Наркомпроса разослал «отделам народного образования при губернских и уездных совдепах и педагогическим советам учебных заведений Северной области» еще одно постановление, предусматривающее введение новой программы и увеличение количества часов на уроки пения и музыки, а также включение дополнительных часов на хоровое пение. Эти новшества обосновывались тем, что «эстетическое образование учащихся новая школа считает существеннейшей частью общего образования, а надлежаще поставленное преподавание пения и музыки — одним из наиболее действенных и доступных школе средств для достижения этой цели»[5].
Но для воплощения в жизнь провозглашенного и намеченного требовалось разработать методику, создать новые учебные планы,
[99]
учебные пособия, подготовить многочисленные кадры учителей широкого профиля. Музыкальный отдел Наркомпроса привлек к руководству этой ответственной работой крупных музыкантов — композитора П. Петрова-Бояринова, критика В. Каратыгина, хормейстера И. Немцева. Они организовали в 1918 году первые курсы учителей пения и в следующем году опубликовали в Петрограде сборник статей «Музыка в единой трудовой школе»[6]. Напечатанный в нем подробный план преподавания музыки в школе в 1918—1920 годах указывал, что «цель обучения — сделать оканчивающего общеобразовательную школу музыкально грамотным, сознательно относящимся к явлениям музыкальной жизни. Для достижения этой цели надобно: 1) развить нужные музыкальные способности и умения, 2) привить вкус к хорошей музыке». Сам план, настолько интересен и поучителен, что его стоит привести хотя бы в сокращенном виде. На протяжении всех девяти школьных лет музыкальные уроки проводились два раза в неделю по часу. В первом и втором классах практиковалось преимущественно пение по слуху; в третьем классе осуществлялся постепенный переход к пению по нотам, вводились начатки музыкальной грамоты и музыкальный диктант; в четвертом классе ставилась задача развития тонального и гармонического чувства, вводилось двух- и трехголосное пение, сольфеджио; в пятом классе проводилось двух-, трех- и четырехголосное пение, упражнения в пении интервалов, гамм, аккордов и сообщались теоретические сведения о них; в шестом классе проходился систематический курс элементарной теории, излагались начатки гармонии и показывались приемы анализа изучаемого материала; в последних трех классах (седьмом, восьмом, девятом) шло ознакомление с музыкальной литературой, преподавался краткий курс истории музыки, истории русской народной песни. На протяжении всех девяти лет обучения обязательным компонентом каждого урока являлось слушание музыки. Но в плане подчеркивалось, что смысл занятий в последние три года заключается в том, что «учащиеся приучаются слушать музыку, видеть в ней не непонятную игру звуков, а живое воспроизведение переживаний художника, вылившихся в изящные внешние формы». Овладев подобной программой, оканчивающий среднюю школу становился музыкально грамотным человеком, способным не только осознанно воспринимать творения музыкального искусства, но и доброкачественно участвовать в хоровом и ансамблевом музицировании. Хоровое пение и слушание музыки культивировалось как в школах, так и во всех детских учреждениях, в частности в детских приютах. Во всех детских домах периодически устраивались концерты с участием лучших артистических сил.
Слушание музыки явилось совершенно новой и своеобразной музыкальной дисциплиной, неизвестной дореволюционной музыкальной педагогике. Инициатором введения этой формы музыкального воспитания, неутомимым пропагандистом и осуществителем ее был крупный музыкально-общественный деятель, музыкальный критик и композитор, профессор Петроградской консерватории Вячеслав Гаврилович Каратыгин (1875—1925). В 1919 году в специальной статье «О слушании музыки» он писал: «Современная педагогика придает художественному воспитанию немногим меньшее значение, чем научному. Искусствам и, в частности, музыке, способной через эмоциональную сферу человеческого духа чрезвычайно мощно влиять на всю нашу психическую жизнь, обогащать ее множеством новых и разнообразных переживаний на основе
[100]
тесного и непосредственного приобщения личной психики каждого слушателя музыки к психике ее творцов,— уделено ныне в школьной программе (да и в дошкольном и внешкольном воспитании) почетное место. (...) Методика художественного образования — дело сложное, для России — новое, по крайней мере, в том широком масштабе, в котором это образование рассчитано ныне на реализацию. (...) С чего следует начинать музыкальное образование? (...)
Что... может способствовать в большей степени облегчению и одухотворению психики неофита, чем непосредственное слушание музыки с ранних детских лет? Через посредство этого слушания, мало-помалу вводящего человека в музыкальную стихию, бессознательно изощряется слух, вкус, обретаются первые инстинктивные навыки музыкального воображения, рождаются первые начатки «волн к музыке», являются первые проблески интуитивного «звукосозерцания» — уменья думать и чувствовать звуками. И со временем, когда для дальнейших стадий музыкального образования понадобятся вмешательство активного разума и оформления волевых импульсов, когда дело дойдет до более или менее систематического изучения теории (грамоты) и упражнений в композиционной фантазии (понятно, в простейших элементах...), какую существенную для себя поддержку найдет вся эта дальнейшая работа в том раннем приобщении души ребенка к музыке, что осуществилась через слушание музыки!»[7]
По мысли В. Каратыгина, слушание музыки следует культивировать не только на ранних стадиях приобщения к музыке, но и «на всех фазах музыкального развития», вплоть до специального музыкального образования, где оно, слушание музыки, «должно происходить параллельно с теоретической эрудицией».
Дабы приобщить учителей, ведущих уроки музыки в общеобразовательной школе, и дирижеров школьных оркестров к новым методам и приемам музыкального воспитания, Музо Наркомпроса практиковал общегородские творческо-инструктивные собрания преподавателей. Об одном из них сообщила «Жизнь искусства» (22 марта 1919 года), отметив, что В. Каратыгин прочел доклад «Слушание музыки в школе», а Н. Ковин — доклад «Преподавание пения и музыки в единой трудовой школе».
Также из петроградской прессы узнаем, что в марте 1921 года состоялось открытие организованных Музо трехмесячных курсов по подготовке музыкальных педагогов для общеобразовательной школы. Примечательна программа занятий, предусматривавшая преподавание широкого круга дисциплин: пение в школе, хор и управление им, хоровая литература, восприятие музыки, музыкальная литература, музыкальное просвещение, история музыки. К проведению занятий были привлечены авторитетнейшие музыканты и педагоги: Б. В. Асафьев, М. Н. Баринова, Н. Я. Брюсова (Москва), Н. Л. Гродзенская, Н. Н. Доломанова, В. Г. Каратыгин[8]. Музыкальное воспитание детей и подростков не ограничивалось школьными уроками: всячески поощрялись детская музыкальная само- деятельность, создавались хоровые и другие музыкальные кружки, систематически устраивались культпоходы школьников первой и второй ступени в оперные театры, в Гербовом зале Дворца искусств проводились симфонические концерты-лекции для учащихся второй ступени. Всевозможные музыкальные лекции, спектакли, концерты организовывала
[101]
клубная секция внешкольного отдела Комиссариата народного просвещения. Безусловно, эти разнообразные и многочисленные концерты имели громадное значения для претворения в жизнь идеи общего музыкального образования. Преподавание в школах слушания музыки порой затруднялось и тормозилось нехваткой учителей, могущих вести уроки музыки по новом программе. В этих условиях посещение учащимися концертов — сольных, камерных, хоровых и, в особенности, оркестровых (симфонических) — было чрезвычайно действенным подспорьем в деле приобщения школьников к музыкальной культуре.
Желание приобрести хотя бы начальное музыкальное образование было столь сильным у питерских рабочих, что в конце 1918 года Музо решил открыть для музыкантов-инструкторов бесплатные курсы по народному музыкальному образованию. Окончившие их призваны были «помочь народу в деле обучения стройному, дружному хоровому пению и организации народных оркестров». Программа курсов поражает своим размахом, почти что гигантизмом. Намечено было проведение занятий по двум разделам: общие вопросы искусства и методика общего музыкального образования. Первый включал следующие предметы-«I) народная песня, 2) народное художественное творчество, 3) история культурной[9] музыки в России, 4) народная песня в русской культурной музыке, 5) история оперы, 6) философия искусства, 7) художественное восприятие музыки, 8) русская лирическая поэзия, 9) введение в теорию пластических искусств, 10) акустика». Второй раздел предусматривал изучение таких предметов, как «1) методы музыкальной педагогики, 2) организация музыкальных кружков, 3) музыкальное творчество, 4) слушание музыки, 5) работа с хором, 6) народные оркестры, 7) концерты для народа, 8) исполнение оперы, 9) развитие музыкальной сознательности, 10) курсы музыкальной грамоты, 11) умение управлять голосом, 12) музыкальные библиотеки»[10].
Осуществлены были эти курсы или нет, пока установить не удалось. Но даже если замысел их не был реализован, он не утрачивает большого исторического интереса. Его подлинная энциклопедичность симптоматична для музыкально-воспитательных и образовательных принципов исследуемого периода. Деятели искусства и культуры были одушевлены идеей дать народу самое лучшее и как можно больше, дабы возможно быстрее заполнить брешь между ним и высшими достижениями человеческого духа.
Для тех, кто обладал выраженными музыкальными способностями и активно увлекался музыкой, открылись широкие возможности получения музыкального образования, как общего, так и специального. Со второй половины 1918 года в Петрограде одна за другой возникают районные народные музыкальные школы, рассчитанные на детей и взрослых Одни из них были совершенно новыми учебными заведениями, другие — преобразованы из национализированных частных музыкальных школ К весне 1919 года в Петрограде действовало семнадцать народных школ музыкального просвещения (таково было присвоенное им в октябре 1918 года официальное наименование), расположенных в разных районах города. Затем, по-видимому в течение лета, были открыты еще три школы, одна в Нарвском районе и две в Детском Селе (бывшее Царское Село, ныне город Пушкин). Таким образом, к началу 1919/20 учебного года в Петрограде и его окрестностях функционировало двадцать музыкальных школ. К работе в них были привлечены лучшие
[102]
музыкально-педагогические силы Петрограда (в частности, многие профессора консерватории), а заведовали ими такие видные музыкальные деятели и педагоги, как Б. В. Асафьев, М. Н. Баринова, Ф. М. Бронфин. С. М. Ляпунов, Н. И. Рихтер, Н. А. Сасс-Тисовский, М. М. Чернов, А. П. Щапов.
По методическим установкам школы не были однотипны. В одних делали ставку на специальное музыкальное образование (это приближало их к детским музыкальным школам-семилеткам наших дней), другие были школами массового музыкального просвещения и ставили целью «развитие творческого духа в народной среде»[11]. В последних ориентировались на взрослых учащихся. Но везде преподавание было поставлено серьезно. Наряду с обучением игре на музыкальных инструментах и сольному пению проводились обязательные занятия по хоровому пению, музыкальной грамоте, слушанию музыки, истории музыки Школы сразу же стали чрезвычайно популярны. В каждой обучалось от трехсот до восьмисот человек, и оставалось еще множество желающих, для которых не было вакансий.
Небезынтересна история возникновения одной из детских музыкальных школ того времени. Зимой 1918 года группа передовых рабочих Путиловского завода задумала организовать школу, в которой их дети могли бы получить музыкально-художественное образование. Возникли очень большие трудности. Рабочие решили обратиться в Смольный к В. И. Ленину. Ленин с горячей отзывчивостью отнесся к инициативе рабочих и поддержал их. Школа была открыта. Первоначально она называлась «Детская художественная студия Московско-Нарвского района» и имела четыре отдела: музыкальный, изобразительного искусства, драматический и пластики. В ней преподавали известные педагоги[12]. В начале лета 1919 года для преодоления типичной для дореволюционных музыкальных школ разобщенности педагогов, для лучшей координации работы школ, гибкого и действенного руководства педагогическим процессом из состава самих педагогов на началах выборности был создан совет по делам районных школ музыкального просвещения[13]. На заседаниях совета (первое состоялось 15 июня) обсуждался широкий круг вопросов, но наиболее горячо дебатировалась проблема методики ведения занятий, соотношения в них коллективных и индивидуальных форм. Первые предполагались даже на занятиях в специальных классах, но преимущественно со взрослыми. Одни педагоги высказывали серьезные сомнения в продуктивности групповых занятий, другие, увлеченные поисками новых методов преподавания, энергично экспериментировали в этой области. Однако сами учащиеся народных школ музыкального просвещения чем далее, тем более определенно проявляли стремление приобщиться не только к музыкальному просвещению, но и к основам музыкального образования, получить не поверхностные, а основательные знания и практические навыки. Уже к концу первого учебного года (1918/19) стал вырисовываться новый тип музыкальной школы, гибко применяющий различные методы занятий в зависимости от состава и способностей учащихся.
Весьма интересную характеристику-оценку деятельности музыкальных школ находим в докладе совета, направленном 1 сентября 1919 года в коллегию единой трудовой школы Народного комиссариата по просве-
[103]
щению. Доклад был продиктован желанием музыкальных педагогов перейти в непосредственное ведение Наркомпроса и освободиться от управления Музо, в руководстве которого обозначилось чрезмерное увлечение абстрактным экспериментаторством, постоянная смена установок и пренебрежительное отношение к мнению самих педагогов. Вот наиболее существенные фрагменты доклада:
«В настоящее время существует двадцать школ музыкального просвещения, утвержденных и национализированных музыкальным отделом НКП. Кроме пяти школ специального музыкального образования, все остальные представляют собой народные школы общего музыкального просвещения для взрослых со специальной первой ступенью для детей и наиболее одаренных взрослых. Такой тип школы выкристаллизовался под влиянием настоятельных требовании самих народных масс и условий педагогической работы, и, как показывает опыт прошедшей зимы, этот тип является самым рациональным, наиболее отвечающим запросам населения, самым жизненным. (...) Большинство школ открыто по требованию районных Советов. Все школы, независимо от района, сразу же после своего возникновения переполнились учащимися, и списки кандидатов в школу достигли громадных размеров. ... По социальному положению контингент учеников школ — учащиеся единой трудовой школы, дети рабочих, рабочие, служащие в советских учреждениях и т. д. Отношение учащихся к занятиям в высшей степени добросовестное и заинтересованное, посещаемость в среднем выражается 85—95 %, что относится как к специальным предметам (рояль, пение, скрипка) так и к общеобразовательным (музыкальная грамота, хоровое пение, история музыки, слушание музыки). Главное внимание школ было обращено на предметы общего музыкального просвещения, и тот интерес, с каким учащиеся относились к педагогическим концертам, музыкальной грамоте, истории музыки указывает на то, что задача просвещения успешно выполнялась школами. Из специальных предметов велись занятия по роялю, сольному пению, скрипке, виолончели. В некоторых школах были и деревянные духовые и другие оркестровые инструменты, в одной из школ велись занятия по народным инструментам.
Общее количество преподавателей по всем школам достигает четырехсот человек, из которых 60 % по роялю, остальные по классам скрипки, виолончели, сольному пению, народным инструментам, оркестровым инструментам, музыкальной грамоте, хоровому пению, истории музыки, слушанию музыки»[14].
Во время летних каникул 1919 года совет совместно с музыкальным отделом осуществил полезное и нужное дело — организовал летние музыкальные инструкторские курсы для преподавателей народных школ музыкального просвещения. К посещению курсов допускались и вольнослушатели, то есть все заинтересованные лица. Курсы должны были выработать единые общие программы и методы преподавания в этих школах. Приводимая ниже небольшая информационная заметка в «Жизни искусства»[15] дает довольно ясное представление о том, как протекала работа курсов:
«21 августа состоялось закрытие инструкторских курсов-конференций для преподавателей районных школ Музо НКП. Занятия на курсах происходили ежедневно с 10 июля. За это время состоялись лекции и конференции (то есть обсуждения и обмен мнениями.— Е. Б.) по следующим предметам, слушание музыки и народное творчество, тип и
[104]
характер педагогических концертов—В. Г. Каратыгин, ознакомление с фортепианной литературой — М. Н. Баринова, коллективные занятия по фортепиано — А. П. Щапов, коллективные занятия по пению — А. Н. Платонов, история музыки — Я. Д. Коган-Бернштейн, цели и задачи школ музыкального просвещения — Ф. М. Бронфин, музыкальная грамота — М. М. Чернов, хоровое пение — П. П. Мироносицев, современная музыка — Н. М. Стрельников».
На протяжении полутора месяцев функционирования курсов-конференций петроградская пресса систематически освещала их работу. Занятия протекали активно, творчески, в обстановке горячей заинтересованности и увлеченности как лекторов, так и слушателей. Вот как рассказывает об этом «Петроградская правда»:
«Третий день лекций В. Г. Каратыгина закончился глубоко интересной конференцией. Программа курса, хорошо изложенная талантливым лектором, допускает известную гибкость, которая заключается в том, что занятия по слушанию музыки предоставляются не только одному главному преподавателю этого предмета, но и преподавателям других специальностей. Теперь уже всем стало ясно, что для работы с народной аудиторией преподаватель должен стать своего рода педагогом-энциклопедистом Следовательно, этому новому музыканту-просветителю должна быть предоставлена широкая возможность проявления своей инициативы, отнюдь не стесняя его в выборе хороших образцов музыкальной литературы для своих иллюстраций. Конечно, вопрос о качественной ценности и пригодности той или иной литературы должен рассматриваться советами, периодически созываемыми конференциями преподавателей»[16]. Из этой отчетной заметки явствует, что слушание музыки рассматривалось не только как особый, самостоятельный учебный предмет, но и как своего рода метод введения учащихся в мир музыкального искусства и приобщения их к пониманию музыки. Именно поэтому была выдвинута и подхвачена мысль о том, что данный метод может и должен применяться во всей системе школьного воспитания и обучения: учитель игры на рояле или скрипке должен стать Учителем Музыки.
Так еще на заре формирования советской музыкальной культуры складывались весьма прогрессивные установки музыкального образования и воспитания.
Аналогичные курсы-конференции были проведены и в августе следующего года.
Деятельность народных музыкальных школ не замыкалась учебной работой. Систематически силами преподавателей устраивались концерты для учащихся, проводились музыкальные лекции и беседы. Если учесть что среди педагогов районных школ были такие первоклассные артисты как П. 3. Андреев, Г. А. Боссе, И. В. Тартаков, М. Н. Баринова, А. И. Зилоти, Л. В. Николаев, А. Д. Каменский, В. В. Софроницкий, то можно составить представление о высоком художественном уровне этих музыкальных вечеров. Примером служит приводимая газетная информация: «Среди учащихся 6-й районной музыкальной школы очень много детей дошкольного возраста, занимающихся под непосредственным руководством опытной преподавательницы и заведующей школой В. И. Боровской. Занятия ведутся главным образом на знакомстве с живым музыкальным материалом, избегая какого-либо намека на абстрактность. Такой метод преподавания развивает в детях настоящую, безыскусственную любовь к музыке. На днях в этой школе состоялся концерт для учащихся при участии пианиста Боровского, артистов
[105]
государственной оперы Акимовой и Курзнера, А. К. Глазунова и Цецилии Ганзен. Концерт прошел с большим внешним и художественным успехом»[17].
Пионером в деле организации педагогических концертов была первая по времени создания школа № 1 Адмиралтейского района, открытая I сентября 1918 года. Ее первый педагогический концерт (Вивальди, Скарлатти, Рамо, Глюк, Тартини, Боккерини, Куперен) состоялся в самом начале февраля 1919 года и прошел, по-видимому, настолько успешно, что вслед за ним последовали другие.
Примечательна во многих отношениях небольшая статья Ф. Бронфина, представляющая собой отклик на второй педагогический концерт этой школы (в конце февраля). Статья воссоздает атмосферу вечера и показывает, насколько идейно-эстетически и методически осознанным и продуманным было проведение этих концертов.
«Слушание музыки,— говорится в статье,— можно подразделить на 1)пассивно-созерцательное и 2) на активно-эмоциональное.
Первый вид восприятия музыки доставляет слушателю чисто материально-физическое удовольствие. Такой слушатель в буквальном смысле отдыхает на музыке...
Второй вид музыкального восприятия (активно-эмоциональное слушание) предполагает слушателя-сопереживателя, который при слушании музыки живет и бодрствует, который, слушая симфонии Гайдна или Моцарта, тоже отдыхает, но это отдых эстетический, а не физический.
Учрежденные в Петрограде и Москве музыкальные комиссии, разрабатывающие реформу дошкольного, школьного, внешкольного и высшего музыкального образования, всемерно стремятся найти такие новые пути и методы, благодаря которым слушатель второго типа стал бы встречаться не только среди музыкантов-специалистов и музыкантов-художников, но и среди широких народных масс.
Педагогические концерты, введенные в районной школе № 1 музыкального просвещения в качестве предмета по слушанию музыки, блестяще оправдали возлагавшиеся на них надежды. Состоявшийся в этой школе второй концерт, как и первый, привлек всех учащихся, прослушавших программу из произведений Генделя и Баха с таким отменным вниманием, что мне, наблюдавшему за отношением учащихся к исполняемому и исполнению, за тем, как они реагировали на прослушанное, с каким волнением и одушевлением они делились друг с другом своими впечатлениями и, кроме того, с каким нетерпением они ждут следующего концерта,— стало вполне ясно, что первая районная школа находится на правильном пути. Прекрасный состав преподавательского персонала, крепко спаянного между собою на почве интересной идейной работы, вселяет веру в то, что дивное благо осознанного восприятия прекрасного станет достоянием многих, а в будущем и всех»[18].
Каким убежденным оптимизмом веет от этой статьи! Глубокую веру в великое значение музыкального просвещения и воспитания исповедовало большинство музыкантов-педагогов, и эта вера давала силы в тягчайших условиях (снова обратим на это внимание современного читателя!) самоотверженно и увлеченно заниматься с неподготовленными в своей массе учениками. Отзывчивое восприятие концертов вызывало чувство глубокого удовлетворения. «Важно отметить,— писал тот же корреспондент о третьем педагогическом концерте 1-й школы,— какой подъем вызвал Бах, «сухой, классический, скучный» Бах, в учащихся
[106]
важно отметить потому, что мнение, что слушать музыку Баха надо подготовленным, устарело, не выдерживает критики; музыка Баха действует, несмотря на сложность своей полифонии, непосредственно, интуитивно и воспринимается с одушевлением даже совсем неподготовленными слушателями»[19].
Педагогические концерты, сопровождающиеся объяснениями лекторов, из дополнения к учебному процессу стали его органической частью, превратились в высокохудожественное осуществление новаторского замысла, каким являлась впервые созданная дисциплина — слушание музыки.
Положительное значение педагогических концертов было велико еще и по другой причине. Большинство учащихся из рабочих семей поступали в школы без всякой музыкальной подготовки. Необходимо было изыскивать новые пути для пробуждения и развития их музыкальной восприимчивости. Для подобных учащихся художественно полноценные педагогические концерты были одним из таких путей, ведущих в мир искусства.
Благой пример школы № I сразу же был подхвачен и другими. Школа № 7, открывшаяся 16 января 1919 года, 16 марта уже давала первый педагогический концерт, посвященный Глинке и Даргомыжскому. Два раза в неделю для учащихся этой школы профессор Петроградской консерватории М. Н. Баринова читала лекции по фортепианной литературе, сопровождая их исполнением анализируемых произведений. Кроме того, из педагогов школы был создан инструментальный ансамбль, который не только принимал участие в школьных концертах, но и включился в работу культурно-просветительных организации района. Некоторые школы (в особенности школа Невского района, руководимая Е. Ключкиным) возглавляли концертную работу в районе, организуя открытые бесплатные концерты. Случались, конечно, и неудачные, вернее, недостаточно продуманные концерты. Пресса бескомпромиссно писала и о них[20].
По прошествии некоторого времени начали практиковать (конечно, не систематично) отчетные ученические выступления. Они отвечали желанию самих учащихся, которые, не удовлетворяясь общим музыкальным просвещением, чем дальше, тем определеннее, тяготели к овладению (пусть хотя бы начальному) игрой на музыкальном инструменте или искусством пения.
Эти тенденции не расходились с практикой большинства педагогов, которые в процессе творческих исканий и экспериментов непроизвольно стремились к совмещению задач музыкального просвещения и образования. Так как не было единых четко разработанных методических установок (а в пору исканий они и не могли существовать), то каждый педагог или каждый школьный коллектив решал эти задачи по-своему, и к лету 1919 года (то есть к концу первого учебного года в работе народных школ музыкального просвещения) обозначились индивидуальные черты каждой из школ. В одних преобладало музыкально-образовательное начало, и они становились специальными школами первой и второй ступени, в других — просветительское, и они приближались к типу студий[21].
[107]
В следующем учебном году (1919/20) продолжалось дальнейшее развитие школ при углублении их дифференциации и все более определенном крене в сторону усиления специального образовательного начала.
О закономерности данной тенденции писал летом 1919 года один из активнейших деятелей Музо Наркомпроса Н. М. Стрельников в статье "Районные школы музыкального просвещения и ближайшие задачи их деятельности":
«Если районная школа должна быть рассматриваема прежде всего как местный очаг музыкального просвещения, то в круг первейших ее обязанностей для действительной пропаганды музыки путем устройства лекций, концертов, курсов и т. п. входит задача наладить с данным районом связь столь непосредственную, общение столь живое и непрестанное, чтобы это... явилось бы на самом деле прочною основою постановки всего дела насаждения музыкального просвещения в жизни народа.
Сколь бы ни были, однако, ощутимы положительные качества такой общепросветительной работы, ею нельзя ограничиться. ...Всякий, проявляющий наличие серьезного дарования, вправе требовать предоставления ему условий теоретического и практического развития его дарования. Поэтому... районные школы музыкального просвещения являются в то же время элементарными школами специального характера, где возможно научиться и технике вокального исполнения, и приемам игры на всех инструментах в отдельности».
Далее автор, говоря, что поднятие уровня художественного развития масс потребует большой и напряженной работы и преодоления многих трудностей, подчеркивает, что все это не может и не должно служить препятствием к достижению главной цели: «...обратить музыку, как искусство и как духовную потребность избранных, в жизненную и реальнейшую духовную потребность не только многих, но и всех»[22].
В январе 1919 года в развитие уже осуществляемой перестройки музыкального образования Музо Наркомпроса выдвинул идею комплексной реформы всех ступеней музыкального образования. При Музо была создана специальная комиссия из ведущих музыкальных деятелей Петрограда[23] (аналогичная комиссия была организована в Москве), которая и приступила к разработке проекта коренной и своего рода тотальной реформы. В итоге ряда заседаний к концу марта было намечено, а в октябре окончательно разработано и сформулировано «Основное положение о Государственном музыкальном университете». Последний мыслился как объединяющий центр, как некий всеохватный организм, координирующий все звенья и все ступени музыкального образования (от начального до высшего) и все формы музыкального воспитания и просвещения. В основу данного проекта легла, по верному наблюдению П. А. Вульфиуса, «мысль о единой системе образования, все звенья которой были бы соединены непрерывной последовательностью», мысль, которая являлась «одним из основных постулатов наметившейся после Октябрьской революции перестройки просвещения»[24]. Несомненно, эта посылка легла в основу первого тезиса «Положения», гласящего:
[108]
«Государственный музыкальный университет есть сеть школ по специальному и общему образованию и музыкальному просвещению в РСФСР»[25].
М. М. Миклашевский (один из деятелей Музо) в статье «Реформа музыкального образования» прокомментировал приведенный тезис следующим образом: «Все дело музыкального образования — дошкольное, школьное и внешкольное отныне объединяются в одно стройное целое, в одну нераздельную сеть, а вся сеть всех музыкальных школ всех ступеней и является музыкальным университетом»[26].
По разработанному проекту университет подразделялся на шесть факультетов: «1) музыкальной науки и композиции, 2) вокальный, 3) оркестровых инструментов, 4) фортепианный, 5) органный, 6) общеобразовательный»[27]. Первые пять мыслились как «объединение всех мастерских (то есть классов.— Е. Б.) по соответствующим специальностям», а шестой — с одной стороны, включал «дисциплины, относящиеся к общему музыкальному образованию учащихся других факультетов и могущие также составить цикл общего музыкального образования для лиц, не готовящихся стать профессиональными работниками». с другой стороны — в него входило «музыкальное просвещение (дошкольное, школьное и внешкольное)»[28].
Проект, при всей его грандиозности, представлялся его авторам легко осуществимым, и притом в ближайшем же будущем. Однако реализован он не был, да и не мог быть в силу его общей декларативности недостаточной дифференцированности всех составляющих его звеньев расплывчатого определения поставленных перед университетом задач и в силу его известной утопичности.
Возникает вопрос: можно ли считать, что труды авторов проекта пропали втуне? Отнюдь нет! Идея музыкального университета оказалась плодотворной. Заложенное в ней рациональное зерно — подразделение музыкального образования на три основных ступени (начальную, среднюю и высшую) и установление преемственной связи между ними — нашло свое воплощение в утвердившейся вскоре структуре музыкального образования в нашей стране (школа, училище, консерватория). Но это не все! Идея университета и разработка ее в течение почти целого года группой замечательных музыкантов представляют собой интереснейший и знаменательнейший эпизод в истории становления советской музыкальной культуры, эпизод, свидетельствующий о беспримерной интенсивности творческих исканий и энтузиазме, которые отличали строителей музыкального искусства первых пооктябрьских лет.
Но вернемся непосредственно к музыкальным школам. Введение нэпа и вынужденное сокращение государственных бюджетных ассигнований на народное просвещение привело к значительному сокращению музыкальных школ как в Петрограде, так и в других городах. Начиная с 1921 года происходит слияние некоторых школ и профилизация их как школ начального музыкального образования или музыкальных училищ, дающих среднее музыкальное образование.
Казалось бы, народные школы музыкального просвещения ушли в прошлое. Это не так. Современное музыкальное образование унаследовало от них ставку на широкую музыкальную образованность, на культивирование хорового пения, на связь музыкально-теоретических дисциплин с музыкальным творчеством и на развитие сознательного слушания музыки.
[109]
Наряду с народными школами существовали две особые трудовые музыкальные школы. Первая из них, преобразованная из бывшей Морской музыкантской школы, ставила себе целью подготовку хоров-оркестров для армии и флота, а также военных музыкальных инструкторов и капельмейстеров. Вторая представляла собой трудовую хоровую школу, в которой обучались и жили па полном государственном содержании до двухсот детей рабочих и беднейших крестьян. Из наиболее музыкальных был образован детский хор.
Параллельно с профессиональными и общеобразовательными музыкальными школами в Петрограде действовали музыкальные училища, институты.
Именно такими были хоровая школа и хоровое училище при Народной хоровой академии. В 1918 году Наркомпрос утвердил устав, согласно которому Хоровая академия представляла собой высшее музыкально-педагогическое и концертно-исполнительское учреждение. В ней воспитывались будущие артисты хора, учителя пения, руководители народных хоров, музыкальные инструкторы. Душой и главой всего этого хорового педагогического и исполнительского комплекса был крупный музыкант . (ученик Н. А. Римского-Корсакова) и хоровой дирижер Михаил Георгиевич Климов (1881 — 1937).
В 1918 году возник частный научно-педагогический институт музыкального просвещения. В конце сентября того же года он был национализирован, и основным в его деятельности стала подготовка музыкантов-исполнителей и педагогов по классам фортепиано, скрипки, сольного пения, хора и инструментального ансамбля. В институте имелся также оперный класс, разучивший несколько опер и с успехом ставивший их в зале Хоровой академии и на клубных сценах. В его репертуаре были «Королева мая» Глюка, «Мельник-колдун, обманщик и сват» Фомина, отрывки из «Иоланты» и «Евгения Онегина» Чайковского. Весной 1922 года оперный класс института на одном из своих показательных вечеров исполнил целиком «Демона» Рубинштейна. Все исполнители — солисты, хор, балет — были студенты, дирижировал А. А. Сасс-Тисовский. Когда в августе 1921 года институт отмечал трехлетие своего существования, «Жизнь искусства»[29] писала, что он «имеет уже целый кадр своих учащихся на разных оперных сценах (даже академическнх), дал недавно семь вечеров силами учащихся и выпустил в одном учебном году около ста исполнителей-солистов, не говоря о разных ансамблях, хоре и оркестре. Несомненно, это подвиг на поприще музыкального производства, принимая во внимание технические трудности нашего времени».
Институт функционировал до 1924 года, когда был слит с IV Музыкальным техникумом и переведен в разряд средних учебных заведений.
Был и Петроградский музыкальный институт, основанный еще в 1912 году. После 1917 года при нем были организованы Высшие педагогические курсы, в задачу которых входила подготовка квалифицированных работников музыкального просвещения. В 1922 году он был преобразован в среднее учебное заведение — стал III Музыкальным техникумом.
Несомненно, эти преобразования были вызваны необходимостью укрепить высшее музыкальное образование и централизовать его в одном учреждении — консерватории.
[110]
Старейшая в России Петроградская консерватория, издавна славившаяся подготовкой высококвалифицированных кадров музыкантов-профессионалов, в первый же послереволюционный год испытала благотворное воздействие общественных преобразований. Декретом от 12 июля 1918 года, подписанным В. И. Лениным и А. В. Луначарским[30], была уничтожена ее зависимость от Русского музыкального общества. Консерватория становилась государственным учреждением, приравненным «в отношении основных начал своего внутреннего строя и modus"a академической и государственной жизни к университетам» учреждением, «непосредственно подведомственным Комиссариату народного просвещения»[31] и призванным включиться в строительство новой, социалистической культуры. Последнее требовало значительной перестройки всей учебной структуры, пересмотра методов воспитания и образования учащейся молодежи, выработки новых учебных планов, введения ряда новых дисциплин и т. д. Была необходима серьезная реформа всего учебного процесса и в идейно-художественном, и в методическом отношениях.
Подавляющая часть консерваторской профессуры, возглавляемая А. К. Глазуновым, с глубокой заинтересованностью и отзывчивостью отнеслась к новым задачам. Уже 29 июля того же года к А. В. Луначарскому явилась делегация консерваторских профессоров во главе с Глазуновым, с тем чтобы непосредственно от народного комиссара по просвещению услышать ответы на вопросы о сущности нового статуса консерватории, о ее новых правах и обязанностях.
Однако между намеченными преобразованиями и их реализацией имелась не только временная, но и психологическая дистанция. Консерватория к началу пооктябрьской эпохи насчитывала около шестидесяти лет существования, была крепко сложившимся организмом с устоявшимися традициями и всемирно признанной творческой и педагогической репутацией. Накопленный опыт, при всех неизбежных его недостатках, казался надежной опорой в работе. Большинству консерваторских педагогов было понятно, что новые социальные условия должны породить и породят новый состав учащихся, определят новые цели высшего музыкального образования, для достижения которых потребуются какие-то непривычные средства и методы. Но каковы они? Это оставалось неясным. Нужно было встать на путь исканий, опыта. А этот путь вызывал опасения. На беспрецедентно новаторской почве народных школ музыкального просвещения экспериментировать было в общем безопасно: ведь, при всех возможных ошибках, задача музыкального просвещения в той или иной мере решалась. Другое дело консерватория: просчеты и ошибки в деле подготовки высококвалифицированных музыкантов-профессионалов могли иметь далеко идущие пагубные последствия. Требовалось время, чтобы внутренне преодолеть инерцию традиционного и апробированного, чтобы психологически перестроиться. (Конечно, среди педагогов встречались и такие, которые попросту не понимали происходящего.)
Думается, что именно в сложности такой перестройки консерваторской
профессуры была заложена основная (и во многом закономерная)
причина замедленного перехода музыкального вуза на новые рельсы,
а не в инертности и тем более не в активно враждебном противодействии
педагогов этому процессу, как представлялось многим нетерпеливым[32].
[111]
Подтверждением сказанному служат воспоминания С. Ю. Левика:
«Уже в зиму 1919/20 года,— писал он,— в консерватории появилась молодежь, которая требовала реорганизации музыкального образования. Человек большой внутренней дисциплины, Глазунов добивался прежде всего конкретизации новых требований, понимая, что только после их. рассмотрения можно будет ломать старое. У бурно наступавшей молодежи было больше смутных желаний, чем точных представлений. Не последнюю роль играли при этом и необузданные темпераменты новаторов, в особенности потенциальных пролеткультовцев, в выступлениях которых Глазунову не без основания чудилась и большая доля демагогии»[33].
Нетерпение проявляла и петроградская пресса, не раз остро критиковавшая консерваторию за недостаточную отзывчивость на требования, диктуемые временем и новыми социальными условиями.
Начало серьезной перестройки всего учебного процесса в консерватории и ее структуры относится к 1922/23 учебному году, выходящему за грани исследуемого периода. Однако и в предшествующем пятилетии консерватория отнюдь не бездействовала. Перед ее руководителем. А. К. Глазуновым и ведущими профессорами встала ответственная и сложная задача: в новых, неслыханно трудных условиях сохранить консерваторию как целостный организм, сохранить педагогический коллектив и лучшие, временем проверенные традиции обучения.
Уже в первый послереволюционный учебный год (1917/18) началось сокращение числа учащихся, стали редеть ряды профессоров и педагогов. Но работа продолжалась. Приведем несколько выдержек из отчета Петроградской государственной консерватории за 1917/18 год (от 22 мая 1918 года):
«В настоящем 1917/18 учебном сезоне завершился 56-й год деятельности Петроградской консерватории и произведен 53-й выпуск учащихся.
В настоящем году обучалось 1136 человек против 2509 человек прошлого 1916/17 учебного года
В течение курса состоялось в Малом зале консерватории 22 музыкальных вечера учащихся и 2 симфонических упражнения (то есть концерта.— Е. Б.) при участии оркестра учащихся. Кроме того, в Малом зале — 7 концертов, посвященных памяти [И.) С. Баха, причем как в качестве солистов, так и оркестровых исполнителей выступали профессора консерватории и другие известные артисты; каждому концерту предшествовала объяснительная лекция любезно принявшего на себя этот полезный и целесообразный труд г-на Браудо. В Большом зале консерватории состоялось 5 оперных упражнений учащихся: 2 раза сцены из оперы „Борис Годунов" и 3 раза сцены из оперы „Фауст" с различным составом исполнителей. Кроме того, 4 раза отрывки из „Травиаты", „Анды" и „Царской невесты", 3 раза отрывки из „Черевичек" и „Демона" и 2 раза сцены из „Евгения Онегина"».
[112]
Кроме того, в Малом зале было проведено музыкальное утро из новых произведений А. Глазунова.
В своем первоначальном варианте отчет завершался следующим красноречивым абзацем, который оказался выпущенным в окончательной редакции:
«Несмотря на крайне тяжелый минувший год... сказавшийся главным образом на значительном уменьшении количества учащихся, не рискнувших приехать в Петроград вследствие расстройства транспорта и продовольственной разрухи, и несмотря на весьма тяжелое материальное положение гг. профессоров и преподавателей, все эти лица с прежней энергией и любовью отнеслись ко взятому ими на себя ответственному учебному делу и довели год до благополучного конца»[34].
Каждый последующий учебный год приносил все новые и новые трудности. В сентябре 1918 года было отмечено уменьшение притока желающих поступить в консерваторию. (Среди поступающих в класс композиции внимание экзаменационной комиссии привлек М. Юдин, представивший ряд сочинений, получивших одобрение А. Глазунова[35].) В первом полугодии начавшегося учебного года из-за малого количества учащихся оказалось невозможным составить ученический оркестр. Но 21 ноября «Жизнь искусства» сообщила: «В государственной консерватории академическая жизнь течет вполне нормально. Зарегистрировано до 700 учащихся[36]. В этом году директор консерватории А. К. Глазунов читает курс музыкальной литературы. Началась даже подготовка к ученическим оперным спектаклям и музыкальным вечерам. Учащиеся уже окончательно сорганизовались и избрали из своей среды совет старост»[37].
Для пополнения профессорско-преподавательского состава по вокальному отделу осенью 1918 года в консерваторию были приглашены оперные певцы Г. Боссе, К. Исаченко, Д. Мусина.
Отвечая на запросы музыкальной практики, консерватория с данного учебного года встала на путь подготовки музыкантов на основе более четкой, чем прежде, дифференциации деятельности будущих специалистов. Постепенно складывались условия для формирования не только солистов и виртуозов, но и оркестрантов, ансамблистов, аккомпаниаторов, оперных и симфонических дирижеров. В 1918/19 году были открыты новые классы. Впервые в истории консерватории появился класс специального альта, для руководства которым пригласили В. Р. Бакалейникова, кроме того, появился класс тубы, возглавленный И. С. Цыбульским.
Продолжалась концертная и оперная практика. В течение сезона в Малом зале было проведено четырнадцать открытых музыкальных вечеров учащихся и два камерных утра, одно — посвященное 25-летию со дня смерти Чайковского, второе, ежегодно устраиваемое,— «памяти усопших русских композиторов» — Глинки, Даргомыжского, Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, Рубинштейна, Чайковского, Скрябина и других. В оперных классах шла подготовка спектаклей. Во втором полугодии в Большом зале состоялось пять «оперных упражнений учащихся»[38], но из-за отсутствия оркестра исполнение шло под
[113]
аккомпанемент рояля. Были показаны сцены из «Пиковой дамы» разученные под руководством И. Ершова в сотрудничестве с М. Таврогом, и второй акт «Самсона и Далилы» с участием И Ершова и в его постановке. Конечно, по сравнению с предыдущим годом количество учебных концертов сократилось, но работа не прерывалась, а этого нельзя недооценивать.
В феврале 1919 года была даже создана под председательством А. К. Глазунова специальная концертная комиссия, в которую вошли ведущие профессора: В. Г. Каратыгин, В. М. Беляев, Т. Ф. Лешетицкая, Л. В. Николаев, М. О. Штейнберг.
В мае удалось провести конкурс наиболее подвинутых и одаренных студентов-пианистов, вызвавший горячий интерес у музыкальной общественности Петрограда и живейшие отклики прессы. Победителями оказались С. Барер (класс профессора Ф. Блуменфельда) и Г. Бик (класс профессора Л. Николаева), вскоре занявшие видное положение на концертной эстраде.
7 июня 1919 года торжественный годичный акт ознаменовал 54-й выпуск Петроградской государственной консерватории. В этом году ее окончило сорок три молодых музыканта. Среди них выделились помимо двух лауреатов недавнего консерваторского конкурса еще два питомца Л. В. Николаева — С. В. Ельцин (позднее ставший крупным дирижером) и И. 3. Шварц, а также певица А. В. Висленова.
Однако на этом учебный год не закончился, решено было продлить его до конца июля, с тем чтобы особое внимание было обращено на классы ансамбля, оперный, истории музыки, истории искусств, чтения нот с листа, транспонировки, аккомпанемента и изучения музыкальной литературы[39]. Этот перечень — наглядная иллюстрация наметившегося поворота консерватории, с одной стороны, к запросам и требованиям общественной музыкальной практики, а с другой — к более разностороннему образованию будущих музыкантов-профессионалов.
В летние месяцы 1919 года музыкально-общественная деятельность консерваторского студенчества и педагогов заметно активизировалась. По случаю 20-летнего юбилея педагогической деятельности А. К. Глазунова совет старост консерватории устроил в воскресенье, 8 июня в Малом зале торжественный дневной концерт из произведений юбиляра и при его участии. Приглашены были известные артисты. Квартет имени А. В. Луначарского исполнил Квартет d-moll, Ц. Ганзен сыграла Meditation и Вальс из балета «Раймонда», М. Бриан в сопровождении автора пропела романсы и вокальные отрывки из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад». Выступили и профессора консерватории: И. Венгерова исполнила Первую сонату для фортепиано, Я. Гандшин — органную Прелюдию и фугу.
В июле «Жизнь искусства»[40] опубликовала сообщение о том, что «комиссия по социальному обеспечению и трудовой повинности студенчества при консерватории организует концертные группы из сил учащихся для обслуживания рабочих и красноармейских клубов Петрограда и фронта». Уже в начале августа первая концертная группа студентов выехала на фронт, чтобы дать спектакли и концерты для красноармейских частей. Концерты проводились также в Проходных казармах, в Петропавловской крепости и т. д.
Летом 1919 года в консерватории организовался клуб учащихся
[114]
имени А. К. Глазунова, 4 августа состоялось его открытие. В задачу клуба входило объединение студенчества и профессуры на почве общей культурно-просветительной работы. При клубе работали музыкальный, литературный и драматический кружки, систематически проводились лекции по различным проблемам искусства. Еженедельно по понедельникам клуб устраивал открытые камерные концерты, в которых наряду со студентами принимали участие педагоги и артисты. Очень скоро консерваторские «понедельники» завоевали популярность в музыкальных кругах Петрограда, их посещали профессора и артисты государственных и коммунальных театров, проходили концерты с неизменно большим успехом[41].
Последующие два учебных года оказались для Петроградской консерватории еще более трудными. По воспоминаниям А. Глазунова, относящимся к 1924 году, этот период «является временем распада, прекращения групповых занятий и сильного сокращения числа учащихся (до революции 2000 человек, в 1919 — 600) под влиянием холода и других внешних причин... Сезон 1919/20 года надо считать наиболее тяжелым в смысле материальном. Было время, когда преподаватели месяцами не получали жалованья вовсе, здание не отапливалось и занятия велись на дому»[42].
И все же в этих, казалось бы, немыслимых условиях творческая жизнь консерватории не замерла. К работе в качестве педагогов А. К. Глазунов привлекал выдающихся исполнителей, в том числе и молодых. Осенью 1919 года профессором дирижерского и оркестрового классов был приглашен Э. Купер, в работу вокального отдела включились С. Акимова и П. Андреев. Осенью следующего года в состав консерваторской профессуры вошли Н. Голубовская, М. Бриан, И. Тартаков, М. Буяновский (класс валторны), Н. Ванадзинь (класс органа), Н. Верховский (класс флейты).
Осенью 1919 года произошло знаменательное событие: в консерваторию поступил юный Д. Шостакович. Тогда же в число учащихся был принят И. Мусин, в будущем видный дирижер, профессор дирижерского класса и создатель дирижерской школы.
Выпуски этих лет были малочисленны. В 1920 году консерваторию окончило всего девятнадцать человек, среди них по классу Н. Ирецкой — А. Даниэлян, впоследствии замечательная певица. В 1921 году — двадцать пять. Выпуск этого года оказался выдающимся: весной 1921 года класс Л. Николаева окончили будущие светила советского музыкального искусства В. Софроницкий и М. Юдина, которая осенью того же года стала педагогом взрастившей ее консерватории. Одновременно с ней были приглашены С. Савшинский, Е. Вольф-Израэль (по классу виолончели и квартета), Н. Амосов (класс арфы), С. Ельцин (класс вокального ансамбля) и другие.
Таким образом, Петроградская консерватория, в первые пооктябрьские годы потерявшая ряд видных профессоров, вновь окрепла и смогла встать на путь дальнейшего развития.
В холодную и голодную зиму 1919/20 года консерватория в ознаменование 20-летня педагогической деятельности А. К. Глазунова провела силами профессуры и студенчества два больших цикла камерных вечеров (шесть концертов в первом и пять во втором), посвященных широкому обзору развития австро-немецкой музыки от искусства миннезанга XIII столетия до творчества венских классиков. В ряде концертов при-
[115]
нимал участие студенческий оркестр. Первый цикл назывался: «И. С. Бах, его предшественники и современники», второй был посвящен редко исполняемым произведениям Гайдна, Моцарта и Бетховена.
Игорь Глебов в статье «Светлое веяние» горячо приветствовал это начинание. Он писал: «В консерватории затеплился свет. Появились программы шести камерных концертов имени А. К. Глазунова... Скромная цель концертов — создать для оканчивающей пройденную школу и окончившей ее консерваторской молодежи путь совершенствования в области камерной музыки посредством выступления перед публикой совместно с преподавателями и при их поддержке... В высшей степени обдуманно и цельно составленная программа дает нашей музыкальной современности то, что ей недоставало: живое конкретное постижение музыки»[43]. После первого концерта цикла критик восхищенно воскликнул: «Впечатление глубокое, отрадное...»[44].
Для осуществления этих камерных циклов от их устроителей и участников требовались стойкость, мужество и поистине огромная любовь к музыке. «Ввиду недостатка топлива», как писала тогдашняя пресса, эти концерты из Малого зала пришлось перенести сперва в помещение театра Дворца труда, а затем снова вернуть в консерваторское здание, но в маленький конференц-зал, где все равно приходилось играть в пальто. Наконец, в марте 1920 года из-за немыслимого холода в консерватории концерты временно перевели в Дом искусств.
Директор консерватории всячески поддерживал творческую инициативу молодых педагогов и учащихся. А инициатива била ключом.
В ноябре 1919 года комиссия социального обеспечения и трудовой повинности Петроградской консерватории организовала концертные группы, которым было поручено давать концерты для возвращающихся с фронта войсковых частей. В марте следующего года комиссия провела серию концертов классической и современной музыки, в которых приняли участие молодые силы консерватории.
Неутомимо работал клуб учащихся консерватории имени А. К. Глазунова. Выработанная им еженедельная программа действий впечатляет и ныне:
«понедельник— художественные концерты
вторник — симфонические программы
среда — детские вечера .
пятница — лекции о музыке
суббота — интимные и кабаретные вечера
воскресенье детские утра»[45].
К чтению лекций клуб привлекал авторитетных профессоров, в частности В. Каратыгина. В одном из декабрьских «понедельников» повторно
[116]
прозвучала Деревенская кантата И. С. Баха, ранее исполненная в камерных концертах имени А. Глазунова, а понедельничный концерт, состоявшийся в конце ноября 1919 года, был посвящен памяти А. Рубин штейна (в связи с 90-летием со дня рождения и 25-летием со дня смерти) и целиком состоял из его произведений[46]. Консерватория широко отметила эту юбилейную дату. Оперный класс под руководством И. Ершова и Д. Мусиной подготовил большие отрывки из опер «Демон», «Фераморс» и «Маккавеи», исполненные в начале второго семестра во время объявленной в консерватории недели А. Рубинштейна.
В консерватории непрерывно рождались все новые и новые формы совместного музицирования и концертно-просветительской деятельности. 7 февраля 1920 года на художественном совете обсуждалось предложение профессора А. Житомирского «об организации при консерватории силами профессоров и учащихся аппарата для обслуживания Красной Армии и народных масс в культурно-просветительном отношении»[47]. Горячая поддержка этого предложения положила начало шефской работе консерватории, сразу же получившей широкий размах. Для наиболее планомерного ее проведения была образована специальная комиссия под председательством А. Глазунова в составе профессоров В. Беляева, А. Житомирского, С. Коргуева и представителя учащихся. Незамедлительно возник вопрос о создании оркестра для обслуживания Красной Армии, организацию его поручили С. Коргуеву. В концертношефской работе, получившей широкий размах, принимали активное участие профессора и педагоги во главе с А. Глазуновым и, конечно, учащиеся.
Петроградская периодическая печать внимательно следила за всем происходящим в консерватории и с удовлетворением фиксировала все ценное. Так, 11 марта 1920 года «Петроградская правда» поместила заметку некоего Леонидова «Концерты учащихся консерватории», заслуживающую воспроизведения в подлинном виде:
«Камерным комитетом учащихся консерватории при комиссии по социальному обеспечению трудовой повинности учащихся с 5 апреля устраиваются в Малом зале консерватории двенадцать концертов исключительно из сил учащихся и профессоров. Камерный комитет ставит своей задачей показать широкой массе населения молодые дарования консерватории и тем самым дать возможность молодым талантам вступить смелой ногой на эстраду и закрепить свои силы для дальнейшей работы.
Стремление учащихся организоваться и начать самостоятельные выступления перед широкой аудиторией можно только приветствовать. До сих пор бывало, что даровитый, талантливый ученик консерватории, оканчивая последнюю, невольно далеко уходил от эстрады лишь потому только, что некому было поддержать и дать толчок к артистической деятельности».
В 1920/21 учебном году концерты в консерватории проходили в столь же трудных условиях, как и в предыдущем сезоне, но, к сожалению, о них до нас дошло мало сведений. Из лаконичного отчета консерватории узнаем, что в сезоне 1920/21 года состоялось «8 музыкальных вечеров учащихся, 2 оперных упражнения учеников в помещении Академического театра комической оперы при участии оркестра и хора Академической оперы и 8 оперных упражнений учащихся в Большом зале консерватории под аккомпанемент рояля»[48].
[117]
Значительным художественным событием в жизни консерватории явилось празднование в декабре 1920 года 150-летия со дня рождения Бетховена. Был организован ученический вечер с исполнением произведений великого композитора. На торжественном заседании художественного совета силами учащихся и профессоров исполнялась Третья симфония под управлением А. Глазунова. В конце декабря состоялся традиционный вечер памяти А. Рубинштейна. По-прежнему функционировал клуб учащихся имени А. Глазунова, устраивая концерты из произведений классических и современных композиторов.
11 октября театральный комитет учащихся провел в Большом зале консерватории концерт в пользу Западного фронта. В концерте приняла участие ведущая профессура во главе с А. Глазуновым. Наряду с ними выступили и представители консерваторской молодежи, среди них В. Софроницкий[49].
Очень действенно протекала работа в оперном классе, руководимом И. Ершовым и С. Масловской. Прошедшие весной 1921 года показательные спектакли класса (ставились сцены из «Евгения Онегина», «Фауста», «Бориса Годунова», целиком «Пиковая дама»), по-видимому, были успешны, ибо пресса заговорила о необходимости учреждения «какого-то постоянного театра учащейся молодежи»[50] и тем поддержала консерваторию в ее стремлении получить Большой зал в свое полное распоряжение для создания в нем учебной оперной студии, что удалось осуществить в 1923 году.
Наступил 1921/22 учебный год, последний из тяжелейших для консерватории послереволюционных лет. Хотя еще не была начата реформа, занятия проходили по-старому, а структура консерватории оставалась прежней, но симптомы нового проявлялись со всей очевидностью. В связи с окончанием гражданской войны заметно увеличился приток талантливой молодежи, желающей поступить в консерваторию. Заметно увеличилось и количество учащихся, вышедших из рабочих и крестьянских семей. Поредевший было состав профессуры пополнился и окреп.
С новой силой стало ощущаться значение Александра Константиновича Глазунова, своего рода «персонификатора» Петроградской консерватории. Выдающийся композитор, беззаветно преданный самоотверженно и бескорыстно руководимому им учреждению, он был бесконечно уважаем и боготворим учащимися и педагогами. Все понимали, что если консерватория выстояла и, «несмотря на общие тяжелые условия и отсутствие топлива... работала беспрерывно»[51], то этим она обязана во многом стойкости и воле своего директора.
Среди педагогов было много замечательных музыкантов, которые вкладывали всю душу в дело музыкального образования и воспитания и являлись достойными соратниками Глазунова. Это Иван Васильевич Ершов — гениальный певец и артист, руководивший оперным классом; Эмиль Альбертович Купер, ведший занятия по дирижированию и возродивший студенческий оркестр; продолжатель традиций Римского-Корсакова, видный композитор и педагог Максимилиан Осеевич Штейнберг, воспитавший несколько поколений советских композиторов; пианист и композитор Леонид Владимирович Николаев, один из основоположников петроградско-ленинградской пианистической школы; необычайно эрудированный музыковед-историк и увлекательнейший лектор, непосредственный помощник Глазунова по руководству консерваторией (с 1921 го-
[118]
да) — Александр Вячеславович Оссовский. Тут названы, быть может, самые значительные имена. Но и помимо них было множество превосходных педагогов по всем музыкально-исполнительским и теоретическим специальностям, видевших свое жизненное призвание в воспитании и формировании молодых музыкантов. А среди начавших свою педагогическую деятельность в 1919—1922 годах оказались те, что впоследствии преумножили славу Петроградской консерватории. Это уже ранее упомянутые С. В. Акимова, П. 3. Андреев, Г. А. Боссе, М. И. Бриан, Н. И. Голубовская, С. И. Савшинский и другие.
Веяния нового проявлялись и в той готовности, с которой педагоги отдавали свои силы делу пропаганды музыкального искусства, продвижению его в широкие массы трудящихся, в среду красноармейцев и краснофлотцев. Новым было и неизмеримо возросшее общественное самосознание учащейся молодежи, для которой все более ясными становились социально-политические и идейно-художественные цели ее музыкальной профессионализации. В феврале 1922 года группа учащихся-коммунистов организовала коллектив РКП(б), и это событие стало поворотным моментом в истории пооктябрьской консерватории. Так интенсивно протекала творческая жизнь в Петроградской консерватории, шла внутренняя подготовка для более глубокой перестройки, которая и началась в 1922/23 учебном году.
Особое положение среди музыкально-образовательных учреждений Петрограда первых послереволюционных лет занимал Институт истории искусств. Возникший в 1912 году по инициативе и на средства просвещенного мецената В. Зубова, институт первоначально представлял собою научную библиотеку, содержавшую преимущественно труды по изобразительному искусству и проводившую довольно широкую научно-консультативную и пропагандистскую работу. В 1913 году при институте были образованы общедоступные курсы, на которых читались лекции по истории изобразительного искусства. В 1916 году ввели лекции и по истории музыки, и Министерство народного просвещения утвердило устав института как «частного специального высшего учебного заведения для лиц обоего пола с трехлетним курсом преподавания»[52].
После Октябрьской революции институт был национализирован, подвергся существенному преобразованию и по постановлению Наркомпроса получил республиканское значение и наименование Российского института истории искусств. Капитальным нововведением явилось создание в институте в 1919 году специального факультета истории и теории музыки с девятью кафедрами: «три — по всеобщей истории музыки (история средневековой музыки, история музыки от начала оперы до конца XVIII века, история музыки XIX—XX веков), три — по истории русской музыки (русская народная музыка, русская церковная музыка, русская светская музыка), одна — по акустике и психологии звука, одна — по музыкальной эстетике и одна — по теории музыки»[53]. В состав музыковедческого факультета вошли Б. В. Асафьев, С. К. Булич, В. Г. Каратыгин, В. Коваленков, С. М. Ляпунов, А. В. Оссовскнй, А. В. Преображенский и М. О. Штейнберг; 19 февраля 1920 года началась деятельность факультета Это было первое в России музыкально-теоретическое учебное и научное заведение.
Однако жизнь института как высшего учебного заведения оказалась недолгой. В 1921 году он был преобразован в научно-исследовательское учреждение, и с этого момента начинается славная история разряда истории и теории музыки (такое наименование получил музыковедческий факультет института), ознаменованная появлением вскоре крупных музыкально-исторических и теоретических трудов, публикаций, исследований. Подготовка же будущих музыковедов — историков и теоретиков — была сосредоточена в реформируемой Петроградской консерватории.
Итак, первые пооктябрьские годы явились в Петрограде не только временем рождения новых форм музыкального воспитания и образования но и временем создания первого в нашей стране крупного очага научной мысли о музыке.
Опубл.: Бронфин Е. Музыкальная культура Петрограда первого послереволюционного пятилетия (1917 - 1922). Л.: Советский композитор. Ленинградское отделение, 1984. С. 97 - 119.
размещено 23.01.2009
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Декреты Советской власти.— М., 1964, т 3, с. 11 — 12.
[2] В. И. Ленин о литературе и искусстве.- М., 1979, с. 659-660.
[3] До конца 20-х годов средняя общеобразовательная школа называлась единой трудовой школой.
[4] Календарь-справочник.— П.; М., 1919, с. 229. См. также: Из истории советского музыкального образования, с. 98.
[5] Северная коммуна, 1918, 26 окт.
[6] П6., 1919. вып. I.
[7] Музыка в единой трудовой школе.— Пб, 1919, вып. 1. Цит. по кн.: В. Г. Каратыгин.
Жизнь, деятельность. Статьи и материалы.— Л., 1927, с. 137, 138, 142.
[8] Жизнь искусства, 1921, 16 марта.
[9] То есть профессиональной.
[10] Жизнь искусства, 1918, 24 ноября.
[11] Новая музыкальная школа.— Пстрогр. правда, 1919, 26 янв.
[12] См. Фомин А. А. Таким был наш вождь.— В кн. В. И Ленин о литературе и искусстве — М , 1967 с. 688—689.
[13] См. сб. О том, что сделано— |Пг.|, 1919, вып. 2, с. 11 — 12. Председателем совета был Ф. М. Бронфин, секретарем М. А. Юдин.
[14] Из архива Ф. М. Бронфин.
[15] 1919, 26 авг.
[16] Фин. На музыкальных курсах-конференциях. Петрогр правда. 1919 29 июля.
[17] Петрогр. правда. 1919, 14 марта.
[18] Там же, 2 марта.
[19] Жизнь искусства, 1919 26 нарта.
[20] Например. «Петроградская правда» от 23 июля 1919 года.
[21] Подробная характеристика каждой школы имеется в «Отчете о деятельности народных районных школ музыкального просвещения в 1918/19 учебном году», напечатанном о брошюре «О ни, что сделано» (|Пг|, 1919, вып. 2, с. 3—6). Отрывок из «Отчета» приведен в кн. «Из истории советского музыкального образования», с. 94—95.
[22] Лад. — Пб. 1919. июль. 1-й сб. с. 22-23.
[23] Состав Петроградской комиссии по реформе музыкального образования: А. И. Зилоти, А. К. Глазунов, М. Н. Баринова, И. С. Михельсон-Мнклашевская, Л. В. Николаев, В М. Беляев, С. С. Митусов, Б В. Асафьев. А. П. Ваулим, В. Г. Каратыгин, А. В. Преображенский, А. К. Коутс, Г. Г. Фительберг, Я. Я. Гандшин, Ф. М. Бронфин и М. М. Миклашевский (Петрогр. правда. 1919, 3 марта).
[24] Вульфиус П. А. Советское музыкальное образование в 20-е годы — в кн. Из истории советского музыкального образования, с, 12.
[25] Из истории советского музыкального образования, с. 38.
[26] Лад, 1-й сб., с.10.
[27] Из истории советского музыкального образования, с. 3.
[28] Там же.
[29] 1921, 2-7 авг.
[30] Декреты Советской власти,— М., 1964. т. 3, с. 11 — I2.
[31] Из истории советского музыкального образования, с. 214—219.
[32] По аналогии приходит на память фрагмент из воспоминаний А. В. Луначарского о В И. Ленине: «Ленин энергично предостерегал от скороспелых, выдуманных, искусственных «пролетарских культур» и от проявления коммунистического и рабочего чванства под предлогом обострения классовой борьбы с буржуазной идеологией. При столкновениях наших великолепных в политическом отношении ячеек вузов с профессурой, которую Ленин сплошь и рядом прямо называл «буржуазной», он даже в моменты зловредных стачек этих профессоров неизменно становился на сторону последних и на мое замечание на заседании ПК, что ячейки переполнены ненавистью к буржуазной профессуре и невольно мешают работе по примирению и налаживанию сколько-нибудь нормальной работы с ней, ответил: «Ученые необходимы нам абсолютно, ячейки надо драть до бесчувствия». Эту весьма выпуклую фразу я, конечно, не мог не запомнить» (В. И. Ленин о литературе и искусстве, с. 670).
[33] Левик С. Ю. Четверть века в опере, с. 252.
[34] ЛГАЛИ, ф. 7441. oп. I, ед. хр. 3.
[35] См. Фин. Приемные экзамены в консерватории.— Петрогр. правда (веч. вып.) 1918. 9 сент.
[36] Во втором полугодии количество обучающихся возросло до 943 человек ("Жизнь искусства», 1919, 21 июня)
[37] Из корреспонденции «Заседание эмиссаров музыкального отдела».
[38] Данные приведены в газете «Жизнь искусства» от 21—22 июня 1919 года.
[39] См.: Петрогр. правда. 1919. 1 июня.
[40] 1919, 29 июля.
[41] На одном из таких консерваторских концертов выступил молодой В. Софроницкий.
[42] Цит. по кн: Из истории советского музыкального образования, с. 235.
[43] Жизнь искусства. 1919. 28—29 сент.
[44] Там же. 1919. 7 окт.
Приведем программу шестого заключительного концерта первого цикла, опубликованную в «Жизни искусства» от 27 ноября |"Л9 года.
1. И. С. Бах. Деревенская кантата для сопрано (А. Б. Тер-Даниэлян), баса (Г. А. Боссе) и оркестра в специально сделанной для этого концерта обработке партии Basso continuo В. М. Беляевым.
2. И. К. Фишер. Оркестровая сюита в обработке Э. А. Купера.
3. М. Г. Монн. Концерт для ф-но и оркестра в обработке А. Шёнберга (солистка А. Бирмак) (Возможно, речь идет о концерте g-moll для виолончели, струнного оркестра и чембало, в котором А. Шёнбергу принадлежит обработка партии Basso continuo.)
В программе было подчеркнуто, что все сочинения исполняются в первый раз. Такие премьеры были частым явлением в программах камерных концертов консерватории.
[45] Жизнь искусства, 1919, 3 дек.
[46] См. Жизнь искусства. 1919, 27 ноября.
[47] ЛГАЛИ, ф. 7441 д. 25, оп I, ед. хр. 61. Журнал малого совета.
[48] ЛГАЛИ, ф. 7441, д. 25, оп. 1, ед. хр. 61.
[49] См.: Петрогр. правда, 1920, 10 окт.
[50] Жизнь искусства, 1921, 11 — 14 нюня.
[51] Слова А. Глазунова из беседы с ним — Жизнь искусства, 1921, 13 сент.
[52] Из истории советского музыкального образования, с. 214.
[53] Там же.
И. КУНИН Рождение советского симфонизма
[87]
За первое десятилетие после Октября Мясковский написал шесть симфоний. Иные восходили к замыслам еще дореволюционных лет, другие отразили мысли, переживания, поиски и душевные состояния композитора в условиях грандиозного общественного переворота. Одни тяготели к описательному жанру, другие продолжали основную, философскую и лирико-драматическую линию его творчества. Были полуудачи, но были и крупные достижения. Вернулся он, после семилетнего перерыва, к романсам — на стихи А. Блока (возможно, толчком был приезд поэта в Москву весной 1920 года). Начиная с 1920 года, симфонические сочинения Мясковского исполнялись под управлением Н. Малько, Н. Голованова и энергичного пропагандиста новой музыки — К. Сараджева.
Формируется полный жизни и противоречий советский музыкальный быт 20-х годов. Еще непосредственно ощутима преемственная связь с русской дореволюционной музыкой, но отчетливо проступают и черты новой эпохи. Для передовых музыкантов той поры характерны ярая ненависть к рутине и застою, стремление скорее, возможно скорее вывести искусство за пределы узкого круга знатоков и любителей. В концертных залах и консерваториях веет освежающий ветер революционного просветительства и подлинного демократизма. Это время смелых поисков и проб. Новыми художественными средствами, оступаясь, ошибаясь, находя и теряя, музыканты решают небывало трудные задачи, закладывают основы новой культуры, нового стиля.
[88]
Мясковский лишь вскользь касается этого времени в своих воспоминаниях:
«Война сильно обогатила запас моих внутренних и внешних впечатлений и вместе с тем почему-то повлияла на некоторое просветление моих музыкальных мыслей. Большинство моих музыкальных записей на фронте имело если не светлый, то все же уж гораздо более «объективный» характер (многие темы потом вошли в Пятую симфонию, причем одна — запись русинской «колядки» под Львовом).
И все же первым делом по возвращении в Петроград в конце 1917 года было не сочинение уже раньше задуманной Пятой симфонии, а работа над более напряженной, как отклик на близкое пережитое, но со светлым концом, Четвертой симфонией. После Пятой симфонии и переезда в Москву в 1918 году последовал довольно долгий творческий перерыв, заполненный завязыванием новых дружеских связей, работой в первичной ячейке Союза композиторов («Коллектив композиторов», основанный в 1919 году) и, наконец, продвижением в печать при помощи П. А. Ламма (известного теперь восстановителя подлинного текста произведений Мусоргского) своих оркестровых сочинений (первой моей напечатанной партитурой был «Аластор»)». (Из «Автобиографических заметок о творческом пути» Н. Я. Мясковского.)
Важные и характерные черты московского композиторского быта зафиксировал в своих «Воспоминаниях» В. Я. Шебалин, переехавший в Москву в 1923 году и уже в ближайшие годы ставший непременным участником музыкальных встреч у П. А. Ламма, М. Г. Губе и В. В. Держановского.
«Владимир Владимирович Держановский тогда заве-
[89]
довал музыкальным отделом «Международной книги». В ее помещении, на втором этаже дома на Кузнецком мосту он организовал регулярные бесплатные концерты под названием «Музыкальные выставки». Сюда собирались все интересующиеся новинками. Афиши о концертах не вывешивались, — «анонс» передавался изустно и путем маленьких объявленыщ... Но публики было много. Игрались и разные отечественные новинки — Прокофьев, Ан. Александров, Метнер, а также все, что через «Международную книгу» из-за границы получал Держановский.
Из этого своеобразного предприятия и выросла АСМ — Ассоциация Современной Музыки. И этим она по существу долгое время и оставалась — обществом ознакомления с новой музыкой, своего рода «беспрограммным» обществом любителей музыки. Состав ее был очень пестрым, случайным, поэтому никакой речи об идеологической платформе, о политическом курсе быть не могло... Первыми руководителями АСМ (и ее журнала «Современная музыка») были В. Держановский, В. Беляев и Л. Сабанеев... Держановский... во многих отношениях был человеком замечательным, подлинным энтузиастом музыки. Его усилиями и пламенной энергией все, что выходило из-под пера московских композиторов, почти немедленно исполнялось. В первых концертах АСМ, — возникших, как и сама АСМ, в ноябре 1923 года, — много играли молодые «бетховенцы» (тогда они назывались квартетом Московской консерватории...). Они исполняли советскую и новую западную камерную музыку. Журнал «Современная музыка» и был задуман как комментарий к этим концертам...
В те же годы я вступил в «восьмиручную компанию», организованную по инициативе П. А. Ламма, который сам делал для нее множество переложений или корректировал существующие. Состав участников был переменный – обычно играли сам П. А. Ламм, Н. Я. Мясков-
[90]
ский и С. С. Попов — музыкант-любитель, но серьезный специалист по музыкальному источниковедению... Почти всегда участвовали Ан. Александров, В. Нечаев, С. Фейнберг, А. Гедике. Меня — самого младшего по возрасту — тоже приняли в ансамбль...
Женившись, я опять-таки оказался в кругу любителей музыки. Мой тесть – Максим Григорьевич Губе... обладал небольшим, но приятным баритоном и владел поистине колоссальным репертуаром. Кроме всей (буквально!) русской классики, он пел и Брамса, и Регера, и Г. Вольфа, Р. Штрауса, Шуберта, Шумана...
В доме М. Г. Губе и его жены Анны Федоровны, очень музыкальной женщины... бывали многие композиторы — Н. Я. Мясковский, Ан. Александров, А. Ф. Гедике, А. А. Шеншин, А. А. Крейн. В начале 20-х годов здесь регулярно устраивались музыкальные «пятницы»; я лично этих пятниц уже не застал, центр переместился в дом П. А. Ламма, но и потом композиторы продолжали охотно приходить сюда — показать свои новинки, помузицировать. Аккомпанировали Максиму Григорьевичу либо П. А. Ламм, либо я. А когда он исполнял романсы Николая Яковлевича, — за фортепиано садился сам автор». (Из «Воспоминаний» В. Я. Шебалина.)
Вернемся к первым советским симфониям Мясковского. Общий колорит и характерные психологические черты Четвертой охарактеризованы в авторском пояснении:
«В симфонии три части, между собой ничем не связанные, кроме общего склада музыки, нервной и напряженной.
Первая часть начинается большим вступлением, в котором излагаются в медленном движении основные темы следующей затем главной части... Вступление непосредственно вливается в стремительно и почти безостановочно несущуюся музыку собственно первой части, слагаю-
[91]
щуюся из развития и сопоставления двух тем: первой, нервной и беспокойной, и второй, более сдержанной и певучей... Конец — стремительный ряд резких аккордов всего оркестра.
Вторая часть очень невелика, написана в медленном движении и проникнута характером суровым и сосредоточенным, сменяемым вспышками лирического волнения... Конец мягкий, спокойный.
Третья часть – быстрый и энергичный финал (рондо), в котором сменяются три темы. Первая, определяющая устремленный характер всей части, вторая — певучая, мимолетно-скользящая и, наконец, после вторичного появления первой темы и предупреждающего, таинственно-басового хода, третья — заглушенно-страстная тема — развивается в широкий и вполне законченный средний эпизод. После возвращения главной темы энергичное и неудержимое движение финала больше не прерывается, а лишь к заключению части возрастает в своей напряженности и полифонической насыщенности (в конце сочетаются мотивы всех тем финала). Конец — быстрый, восторженно-светлый». (Из авторского тематического разбора Четвертой и Седьмой симфоний.)
О Пятой симфонии, песенной по складу, светлой по колориту и одной из наиболее доступных для широкого круга слушателей, автор писал (в обычном подтрунивающем над своей музыкой тоне):
«...Не сегодня — завтра начинаю финал. Готовы первая— баркарола (что-то невероятно идиллическое),слезоточащий berceuse [колыбельная] — сумрачный и унылый, как осенняя дождливая ночь, залихватски-вкрадчивая колядка (тема — та вышла недурно). Последняя еще теплая, так как только сегодня сделал последние подмазки и подчистки. Для финала только не решена тема. Есть две и каждая привлекает, одна — финальностью, другая — безмятежной скользящестью. Сегодня вечером, вероятно, сделаю окончательный выбор и начну
[92]
печь. Три части дались страх как в общем легко, хотя сделаны со всеми деталями... Инструментовать эту симфонию не в пример Эмольке будет чрезвычайно приятно и интересно». (Из письма Н. Я. Мясковского к В. В. Держановскому от 22 марта 1918 г.)
В отличие от «бурной» Четвертой новая симфония с самого начала была задумана как «тихая» — так и называл ее Мясковский в дневнике. Но не только мягкость, «пасторальность», бросившаяся в глаза некоторым критикам, были в ней новы для Мясковского. Впервые он столь широко использовал бытовые музыкальные жанры — «баркаролу», колыбельную, святочную колядку, марш. Впервые демократизировал свой музыкальный язык. В одних, наиболее суровых эпизодах симфонии он соприкоснулся с лапидарно-выразительной мелодикой старинной протяжной песни, в других, светлых и умиротворенных— с шутливо-задорной плясовой.
Любопытно, что на какое-то время ему становится небезразличен Малер, который, пренебрегая упреками в банальности, черпал мелодии из городского уличного фольклора. Николай Яковлевич писал:
«Вдруг, ни с того, ни с сего начал интересоваться Малером. А как ругал в свое время!» (Из письма Н. Я. Мясковского к В. В. Держановскому от 6 июня 1918 г.)
В том же энергичном стремлении оттолкнуться от привычной музыкальной сферы он воскликнет позднее:
«... С этим стилем музыки — эмоционально-нагнетательной с академическим уклоном — надо раз навсегда покончить». (Из письма Н. Я. Мясковского к С. С. Прокофьеву от 25 июля 1923 г.)
18 июля 1920 года Пятая симфония была с успехом исполнена в Москве под управлением Н. А. Малько. Это было первое после Октября исполнение Мясковского
[93]
в симфоническом концерте. Более того — это вообще было первое исполнение советской симфонии. От этой даты начинает свое летоисчисление советский симфонизм. Вслед за Москвой ее услышали в Лондоне (дирижировал Г. Вуд), в Филадельфии и Ныо-Г1орке (Л. Стоковский), в Вене (Н. Малько). Позднее ее успех несколько заслонила Шестая, но в то время значение Пятой было велико. Широкая публика восприняла прежде всего впечатляющую и полную обаяния музыку, наиболее чуткие оценили в ней свежесть и глубину, сочетавшиеся с доступностью.
Симфония появилась на концертных афишах Ленинграда, Одессы, Харькова, и всюду ее приняли тепло.
Значительно меньше понравилась она ближайшим друзьям композитора. Весьма сдержанно отнеслись к ней Б. В. Асафьев, П. А. Ламм, ученый-музыковед В. М. Беляев, которому она была посвящена. Ее относительная простота, ее задушевность показались, по-видимому, чем-то примитивным. От Мясковского ждали совсем иного — сложного по ходу мысли, острого и нового по музыкальным приемам. Решительно отверг Пятую симфонию С. С. Прокофьев, поиски которого вели в эти годы как раз к сложности и остроте:
«Я, говоря прямо, не только не в восторге от нее, но от многого просто в ужасе... Бледно, неуклюже, старо и без малейшего вожделения к звуку, без малейшей любви к оркестру... А начало второй части — как можно терпеть двенадцать медленных, бесконечных тактов тремоло в таком голом, схематичном виде?! А начало финала — боже, какой беспросветный Глазунов! Какое пренебрежение к инструментовке! Точно никогда не было ни Стравинского, ни Равеля... ни даже Римского-Корсакова». (Из письма С. С. Прокофьева к Н. Я. Мясковскому от 3 января 1924 г.)
Оценка была неверной и несправедливой. Однако холодный прием симфонии близкими людьми произвел на
[94]
художника неизгладимое впечатление: он стал стесняться своей симфонии и ее успеха.
Между тем многое в Пятой симфонии, — и прежде всего ее мягкий, но отнюдь не лишенный драматической светотени, лиризм, ее внутренняя уравновешенность и некоторый объективизм, — было предвестьем позднейших опытов Мясковского.
В отличие от старших, московская музыкальная молодежь приняла Пятую симфонию с глубоким интересом. В музыке Мясковского молодые музыканты улавливали нечто близкое и нужное им.
Заслуживает внимания свидетельство одного из их тогдашних представителей:
«Очень важной психологической чертой раннего Мясковского было... сочетание эмоциональной остроты и аскетической суровости выражения. Именно эта черта более всего способствовала установлению живого контакта между его музыкой и вновь нарождавшейся в 20-е годы советской музыкальной средой...
Хорошо помню, как в нашем консерваторском творческом кружке второй половины 20-х годов (так называемом «Производственном коллективе») осуждались всякие проявления прекраснодушия, вялого лиризма, сентиментальности. Революционная настроенность влекла нас к музыке интенсивных, напряженных чувств, натянутых как струна... Вместе с тем, нам очень импонировали гражданская суровость, скупость, жестковатость выражения при внутренней многозначительности мыслей и чувств... стремление к музыке насыщенного, сурово-эмоционального, гражданственного склада было стремлением широкой творческой среды. Оно вытесняло, начиная со второй половины 20-х годов, вкус к модернистской изысканности, изнеженности, анемичности, к пустому щеголянию композиторской выдумкой; оно было знаменем нового времени, формированием новой эстетики (глубоко родственной эстетическому кодексу
[95]
поэзии Маяковского); оно охватывало в той или иной степени всю композиторскую молодежь, вступавшую в профессиональную жизнь на рубеже 20-х и 30-х годов. Вот почему контакт новой музыкальной среды с Мясковским был, несмотря на его собственные творческие противоречия тех лет, естественным и прогрессивным... Вспоминаю неизгладимое впечатление от музыки Мясковского, уже начиная с первых исполнений Пятой симфонии: в ней очень нравилась сумрачная, тяжеловатая и мощная (немного от Мусоргского) побочная партия первой части, увлекала мрачноватая энергия финала, нравились терпкие гармонии медленной части, создававшие ощущения горячего, но «скрытого» лиризма. В Шестой и Восьмой симфониях, в Третьей фортепианной сонате многое казалось чрезмерно жестким, мучительным, «глыбистым», но человечески правдивым, глубоко современным: ведь революция звала не к легкой жизни, не к самолюбованию и самоублажению, а к суровой правде, к напряженному, энергическому действию, к гражданскому подвигу. В музыке Мясковского, несмотря на ее психологическую переусложненность, многое было родственно этим характерным настроениям 20-х годов». (Из статьи Д. В. Житомирского «К изучению стиля Н. Я. Мясковского».)
ШЕСТАЯ СИМФОНИЯ
«...Вчера исполнялась в первый раз Шестая симфония Мясковского, и мы ходили на репетицию. Симфония имела потрясающий успех. В течение почти четверти часа публика понапрасну вызывала скрывшегося автора, но все-таки добилась своего, и автор появился. Его вызывали раз семь и поднесли ему большой лавровый венок.
Некоторые видные музыканты плакали, а некоторые говорили, что после Шестой симфонии Чайковского это
[96]
первая симфония, которая достойна этого названия...» (Из письма В. М. Беляева к В. А. Успенскому от 5 мая 1924 г.)
«Советский симфонизм, как сталь, закалялся в революционной грозе и буре, и эта сила сказалась уже в 1922 году в одной из первых зорь наших, создавших эпоху в современной музыке... — в Шестой симфонии Мясковского... Мне Шестая симфония Мясковского представляется необычной в энергии своей и в развитии идей симфоний дореволюционной эпохи, все же граждански мирных в своей основной природе... В Шестой симфонии Мясковского музыка трепещет, но не личной только обеспокоенностью... С ней в русскую симфонию входит большое чувство тревоги за жизнь, за ее цельность, — в то же время в финале слышна поступь массы людей, построенная на далеко иной интонации, чем финалы былых симфоний... У Мясковского уже не толпа, а одухотворенный носитель гнева — возмущенная, ставшая стихией и страшная... людская волна, коллективный характер». (Из главы Б. В. Асафьева «Симфония» в книге «Очерки советского музыкального творчества».)
Шестая симфония Мясковского вслед за Пятой и раньше многих других советских симфоний получила признание за рубежом. Любопытная деталь — в четвертую годовщину смерти В. И. Ленина в Германии, во Франкфурте-на-Майне была, по предложению местной организации коммунистической партии, исполнена первая часть Шестой симфонии. При единодушно высокой оценке, критики тех лет разошлись в понимании идейно-образного содержания. В симфонии услышали и музыкальное претворение идеи смерти, и отображение «могучей и страстной революции». В замысле композитора
[97]
эти темы были связаны: смерть героя мыслилась как смерть революционного вождя, его всенародное оплакивание было прощанием с тем, кто свою жизнь принес в жертву победе.
Новые сведения о творческой истории этого произведения сообщает А. А. Иконников. Не надо, разумеется, придавать решающее значение импульсам и внешним поводам, лишь помогавшим формированию широко обобщенного замысла. Едва ли нужно устанавливать прямую связь таких импульсов с конкретными музыкальными темами. Но живое дыхание времени ощутимо и в этих разрозненных штрихах:
«Н. Я. Мясковский... редко обращался к воспоминаниям тех лет, вероятно потому, что это было связано с глубокими личными переживаниями, делиться которыми он не любил...
На одном из массовых митингов [B Петрограде после покушения на В. И. Ленина и ответного провозглашения красного террора]... Мясковский услышал гневную речь прокурора Республики Н. В. Крыленко, который закончил ее словами: «Смерть, смерть, смерть врагам революции!» Речь Крыленко и грозная атмосфера митинга оставила неизгладимое впечатление в сознании композитора, тогда же отозвавшись в его воображении музыкальной темой — цепью резких по звучанию отчеканенных аккордов-возгласов, ставших впоследствии темой вступления к Шестой симфонии.
В 1918 году Мясковский потерял... отца. Тогда же умер от тифа... врач Ревидцев... ставший особенно близким композитору после Октябрьской революции... Зимой 1921 года телеграф принес Мясковскому еще одну горестную весть — сообщение о смерти Е. К. Мясковской (сестры отца, ставшей Н. Я. Мясковскому и его сестрам второй матерью), к которой он был очень привязан. Когда Николай Яковлевич приехал из Москвы в Петроград и пришел в отцовский дом, где прошли его юные
[98]
годы и где теперь он навсегда прощался с Е. К. Мясковской, его поразило печальное запустение; особенно запомнился ночной вон ветра в печах, точно справлявшего тризну по умершей». (Из книги А. А. Иконникова «Художник наших дней Н. Я. Мясковский».)
«Умерла 25/XI тетя... Приехал в Петроград после смерти... В ледяной квартире ночью пришли на мысль образы средних частей Шестой симфонии». (Из дневника Н. Я. Мясковского, запись 30 декабря 1921 г.)
По сообщению В. М. Беляева (в написанной им в 1926 году краткой творческой биографии Мясковского), свою Шестую симфонию композитор «посвятил памяти двух близких ему людей, ушедших в вечность на фоне картин революции и связанных с ними глубоких переживаний». Можно думать, что имелись в виду Е. К. Мясковская и А. М. Ревидцев.
В течение многих лет одна из наиболее значительных симфоний революционной эпохи считалась неполноценной по своему идейному содержанию. Это мнение во второй половине 30-х годов настолько укоренилось, что в его правильность поверил и сам автор.
В 1936 году, вспоминая свое прошлое, он писал:
«Возобновление творческой работы началось лишь в 1920 году после первого исполнения Н. А. Малько моей Пятой симфонии — сперва мрачной Третьей фортепианной сонатой, затем романсами на слова Блока и Тютчева. Несмотря на инстинктивно верную идейную направленность, отсутствие теоретически подкрепленного и обоснованного мировоззрения (я начал заполнять этот пробел только около 1930 года) вызвало какое-то интеллигентско-неврастеническое и жертвенное восприятие революции и происходившей гражданской войны; это, естественно, отразилось на тогда уже возникшем замысле Шестой симфонии. Первым импульсом было случайно услышанное мной исполнение французских революционных песен «Са ira» и «Карманьолы» одним при-
[99]
ехавшим из Франции художником (фамилии его не помню), напевавшим эти песни так, как, по его словам, их теперь поют и танцуют на рабочих окраинах Парижа. Запись, сделанная мной тогда, оказалась несходной ни с одним известным текстом этих песен, но меня особенно поразила ритмическая энергия «Карманьолы», которая отсутствовала в известных мне обработках. Когда в 1922 году у меня созрел замысел Шестой симфонии (отчасти в связи с прочитанной драмой Верхарна «Зори», где так же выпукло дается мотив жертвы «за революцию»), записанные темы уверенно встали на свои места. Тогдашнее несколько сумбурное состояние моего мировоззрения, неизбежно, привело к кажущейся теперь столь странной концепции Шестой симфонии — с мотивом «жертвы», «расставания души с телом» и каким-то апофеозом «мирного жития» в конце; но волнение, вызвавшее зарождение этой симфонии, и жар при ее осуществлении делают это сочинение дорогим мне и теперь и, видимо, способным посейчас захватить слушателя, насколько я мог судить по здешним исполнениям и все учащающимся исполнениям этой симфонии за границей, особенно в Америке». (Из «Автобиографических заметок о творческом пути» Н. Я. Мясковского.) Слово защиты раздалось совсем недавно: «Мясковского иногда упрекали в том, что в финал симфонии, посвященной теме революции, он ввел трагический мотив смерти, оплакивания погибших и тем самым будто бы снизил революционный оптимизм сочинения. Чем дольше я живу и задумываюсь над проблемами жизни и искусства, тем больше прихожу к мысли, что упреки эти не верны. Вспоминая самые сильные впечатления своей жизни, которые определили мое ми-
[100]
ровоззрение, мои жизненные и, прежде всего, политические, революционные убеждения и идеалы, я обязательно назову и похороны жертв революции на Марсовом поле в Петрограде и, особенно, трагический Колонный зал Дома союзов, когда мы, вливаясь в бесконечный людской поток, в страшной тишине проходили мимо Ленинского гроба... Введя в финал своей симфонии суровый и скорбный мотив смерти, Мясковский не снизил ни напряженность борьбы, ни радость победы. Но он с огромной художественной силой дал почувствовать, как сложна эта борьба и как дорога цена этой победы. Здесь-то, я думаю, и заключена великая жизненная правда этого прекрасного сочинения». (Из вступительного слова Д. Б. Кабалевского к радиоконцерту «50 лет советской музыки» — «О Шестой симфонии Мясковского».)
НОВЫЕ ТЕМЫ, НОВЫЕ ПОИСКИ
«Большое напряжение после Шестой симфонии вызвало стремление к несколько иным, менее сгущенным и более объективным настроениям, и мне казалось, что я нашел их в Седьмой симфонии, но обнаружились они только во второй ее части (и немного во вступлении), в первой же части я продолжал, хотя и несколько в ином плане, бушевать.
Только в замысле Восьмой симфонии я получил настоящий импульс к тем объективным настроениям, которые начал искать. Сперва в ней родился замысел финала на тему, которую я принял за песню о Степане Разине и обработать которую решил в сочетании с рядом волжских песен, а также связав с образом обездоленного крестьянства. Так как песня оказалась иного содержания, замысел в первоначальной форме не раз-
[101]
вился, но элементы его, конечно, остались как в характере первой части (степного, напевного склада), в темах второй части (с двумя русскими песнями об «утенышке» и «утушке»), целиком в третьей части ( башкирскую песню, которая еще недавно пелась на cлова о покинутом солдатике) и, наконец, в буйно-напористом, но с трагическим окончанием финале.
Девятая симфония была задумана по возможности в лирико-безмятежном плане, я ее считаю своим симфоническим интермеццо.
Десятая симфония явилась ответом, к сожалению, не очень понятным, на давно мучившую меня идею дать картину душевного смятения Евгения из «Медного всадника» Пушкина. Еще во время работы над Десятой симфонией, дававшейся мне с некоторым напряжением, у меня возникла мысль написать ряд оркестровых сюит песенно-плясового характера, причем тематический материал всех трех вылился внезапно в один присест. Через некоторое время возник ор. 32, состоявший из «Серенады» для малого оркестра, «Симфониетты» для струнного (приобретшей довольно большую ходкость, особенно за границей) и «Лирического концертино» для смешанного состава. В этих трехчастных сюитах замысел мой претерпел некоторые изменения, и стихия пляски, к сожалению, не получила надлежащего выражения, но все же мне удалось достичь большей, чем раньше, ясности в течении мыслей и их оформлении». (Из «Автобиографических заметок о творческом пути» Н. Я. Мясковского.)
После Седьмой симфонии, не ставшей заметным явлением, Восьмая вновь обнаружила настойчивую волю
[102]
автора к воплощению широких, эпических по размаху, народно-песенных по материалу музыкальных образов. Композитор рассказывал А. А. Иконникову:
«Первая часть [Восьмой симфонии] это эпика, рассказ, степь, природа. Вторая часть — скерцо. Все темы ее, кроме первой, оригинальной, на 7/4 (которую я сочинил еще в "бытность учеником II. II. Крыжановского, то есть лет 30 тому назад), связаны с «водой». Одна — «По морю утенышка плавала»; вторая — «Щучка-рыбка»... Обе песни из сборника Римского-Корсакова. Обе в размере 7/4.
Главная тема третьей части связана с образом обездоленного крестьянства. Мелодия темы — башкирская песня, на которую во время империалистической войны пели слова о покинутой солдатке. В середине третьей части есть момент просветления, связанный с чертами характеристики женского образа — персидской княжны. Но эти моменты очень кратковременный Снова наступает настроение печали н возвращение к песне о покинутой солдатке.
Четвертая часть — «деятельность» Степана Разина. Самый финал (кода) — его гибель. Темы для финала дал мне Б. Б. Красин в 1921 году. Я думал, что тема эта связана была с Разиным, но оказалось не так. Впоследствии выяснилось, что она принадлежит Балакиреву. В сборнике «30 русских песен» в 4 руки она помещена под № 9 и называется «Гришка Отрепьев». Забыв о том, что эта тема Балакирева и о Гришке Отрепьеве (Красин говорил мне точно о ней), и решив почему-то, что она связана с Разиным, я начал рабо-
[103]
тать над симфонией и уже сочинил именно в этом плане». (Из книги А. А. Иконникова «Художник наших дней Н. Я. Мясковский».)
Интересные наблюдения над процессом претворения фольклорных элементов в симфониях Мясковского сделал Д. В. Житомирский. Трудность, как можно думать, не сводилась к формально-техническим моментам или к освоению непривычного «объективного» материала. Скорее она лежала в плоскости коренных вопросов нового симфонизма. Крупные задачи, которые ставил перед собой композитор, требовали качественно новых решений.
«Процесс стилистической эволюции Мясковского в значительной мере связан с постепенным проникновением в его творчество и все большим расширением элементов русской песенности... Уже к началу советского периода творчества тематический материал Мясковского существенно обновляется. Тесный круг образов Второй и Третьей симфоний разомкнут, в сферу интересов композитора входят новые, более объективные наблюдения и переживания. Столь близкая ему в прошлом область трагического также приобретает (начиная с Шестой симфонии) иной характер, становясь менее субъективистской, вбирая в себя широкий, жизненно обобщающий материал... На ранней стадии этого процесса заметен еще резкий стилистический контраст между эпизодами, основанными на объективном песенном материале, и обычной для прежнего Мясковского экспрессионистской тематикой... В Шестой симфонии этот контраст, включенный в самый замысел произведения, использован как сильное выразительное средство: в первой части и в крайних разделах скерцо, где воплощен мир субъективно-трагический, — обычная для Мясковского усложненность стиля; в народно-скорбных и праздничных эпизодах (середина скерцо, финал) — подчеркнуто ясная гармонизация и фактура.
[104]
В симфониях, написанных в промежутке между Шестой и Двенадцатой, Мясковский еще более расширяет крут используемых им тем, все чаще привлекая диатонические, песенные мелодии. Заметно также стремление к большей индивидуализации материала этого рода, то есть к применению в его обработке всех привычных ресурсов своего стиля. Но на данном этапе эти опыты часто приводили еще к неубедительным результатам. Восьмая симфония — одна из наиболее насыщенных песенным, в том числе подлинно фольклорным материалом. При всей глубине замысла и содержания этой симфонии, в ней есть много стилистически искусственных эпизодов, где простые и поэтичные мелодии народных песен загромождены неоправданно сложными аккордами и фактурными построениями». (Из статьи Д. В. Житомирского «К изучению стиля Н. Я. Мясковского».)
В 1926—1927 годы Мясковский создал одночастную, исполненную глубокой внутренней тревоги Десятую симфонию. Программный замысел — безумное смятение Евгения, осмелившегося бросить вызов «Медному истукану», «Мощному властелину судьбы»—слился с чисто лирическим душевным состоянием.
«Сделал набросок Десятой симфонии (программа — «Медный всадник» по Пушкину и Ал. Бенуа)». (Из дневника Н. Я. Мясковского, запись 30 апреля 1927 г.)
«Композитора вдохновила известная иллюстрация Александра Бенуа к «Медному всаднику». Здесь Мясковский развивает психологическую линию русского искусства XIX века, с наибольшей яркостью выявленную в литературе у Достоевского, в музыке — у Чайковского: напомним хотя бы образ Германа в «Пиковой даме»«. (Из очерка А. А. Иконникова «Н. Мясковский», 1944 г.)
Горячо откликнулся на появление Десятой симфонии Б В Асафьев: «Сегодня смотрел Вашу Третью [симфонию]. Почему-
[105]
то у меня с ней связаны очень дорогие, сильные и яркие воспоминания. Но в ушах Ваша Десятая. Конечно, я никому своей догадки о «Медном всаднике» не открою, но я счастлив, что догадался. Голубок мой, Вы шагаете по-великански. Шестая, Седьмая, Восьмая, Девятая и Десятая — ступени высокие. Ведь сейчас во всем мире только Вы и строите такие мощные звуковые замки. Даже Сергей признал, что сонату, подобную Четвертой, могли написать только Вы. А темперамент и проницательнейшие лирические гармонии Десятой меня пронизали насквозь». (Из письма Б. В. Асафьева к Н. Я. Мясковскому от 28 марта 1927 г.)
Приведем отзыв на премьеру Десятой симфонии, принадлежащий вдумчивому и тонкому музыкальному критику и пианисту А. Н. Дроздову:
«Исполнение Десятой симфонии Мясковского следует отметить как выдающееся событие нашей (и не только нашей) симфонической жизни... Сохраняя основные черты музыкальной индивидуальности автора — глубокую, почти философскую значительность мыслей, логику и стройность их разработки, неиссякаемую эмоциональную насыщенность с преобладающим оттенком душевной смятенности и драматизма, Десятая симфония как бы конденсирует эти качества: ограничивая себя в масштабе действия (симфония — одночастная), музыка приобретает более стремительный и лаконический характер, резче сопоставляются контрасты, сгущаются перипетии «разработки»... Весь концерт в целом оставил очень полное художественно-гармоничное впечатление»2. (Из рецензии А. Н. Дроздова на 9-й концерт Персимфанса.)
[106]
В 1953 году симфония получила существенно иную оценку:
«С предельной конкретностью раскрывается здесь центральная и мучительная тема творчества Мясковского: пафос страдания одинокой личности, бессильной перед стихиями жизни. Нет надобности доказывать, насколько высокотипична эта тема для индивидуалистического искусства модернизма, воплощенная в Десятой симфонии с экспрессией почти патологического оттенка. Центральный образ симфонии, ее герой — безумен; неудивительно, что все произведение граничит с кошмаром... Если раньше Мясковский раскрывал обреченность своего героя (Третья симфония) в борьбе с грозной силой судьбы, то теперь нет и речи о борьбе: остаются лишь "бегство, преследование и смерть. Если ранее стихни природы участвовали в создании образов борьбы и душевного напряжения... то теперь в Десятой симфонии все обращено против человека. Думается, что не случайно эта концепция Мясковского созрела после его поездки за границу: старые образы, прежние настроения вновь воскресли у него после соприкосновения с упадочным, пессимистическим искусством модернистов... Десятая симфония... это — з аконченн а я, ограниченная и конкретизированная в экспрессионистских образах индивидуалистическая концепция пессимизма. На пути художника она знаменовала крупный срыв...» (Из книги Т. Н. Ливановой «Н. Я. Мясковский. Творческий путь».) Однако сумрачная окраска Десятой симфонии не заслоняет от нас теперь ее объективного гуманистического содержания. Связанная с поэмой Пушкина, она одушевлена пафосом человечности. Проблемы, волновавшие Мясковского,— и это неопровержимо доказало все развитие его -творчества — не были узко личными. Критики и композиторы, исходившие из упрощенного противопоставления общего личному, брали под сомнение
[107]
любую психологическую сложность: тем самым затруднялась возможность помять путь художника — нелегкий, весьма противоречивый, но устремленный к благородной цели.
Для Мясковского возрастающее распространение этой концепции имело далеко идущие последствия.
Опубл.: Кунин И. Н.Я. Мясковский. М.: Советский композитор, 1981. С.87 – 107.
Н.Я. МЯСКОВСКИЙ Автобиографические заметки о творческом пути
[5]
Биография моя особого интереса не представляет, и если я пишу эти заметки, то только для того, чтобы показать, как в условиях и среде, далеко, в сущности, чуждых искусству, сперва инстинктивно, а затем сознательно высвобождалось мое музыкальное призвание.
Отец мой был военным инженером и по роду своей службы нередко менял местопребывание. Родился я в крепости Ново-Георгиевск, Варшавской губернии, где с 1881 г. провел первые семь лет моей жизни. Музыкальных впечатлений, кроме залезания под рояль, когда на нем играли, и странно сохранившегося в памяти мотива марша, под который дрессированный бык ходил по бревну под куполом цирка Соломонского в Варшаве, — не припоминаю.
Далее — Оренбург. Детские впечатления — верблюды, кукуруза, росшая почему-то у нас во дворе, тучи пыли и одуряющая жара, от которой мы, ребята, спасались в речке Сакмаре. Из музыкальных впечатлений — какая-то песня «Шуми, Марица» в заунывном исполнении бродячей труппы.
Наконец, довольно длительное пребывание в Казани. Здесь оставили след — смерть матери; появление в качестве воспитательницы в сильно разросшейся к тому времени семье (пять ребят) моей тетки — сестры отца; частые поездки с отцом (при объезде им своей инженерной дистанции) по Волге, Каме. Музыка уже становится притягивающим фактором. Решающее впечатление — подслушанное исполнение в 4 руки (не помню кем) какой-то сильно взволновавшей меня музыки. С большим трудом выяснил, что это было попурри из «Дон Жуана» Моцарта. О существовании оперы я уже кое-что слышал
[6]
от тетки, которая была очень музыкальна, имела хороший голос и некоторое время пела в хоре бывшего Мариинского театра в Петербурге. Имя Моцарта не сказало мне пока ничего. Начались просьбы об обучении музыке. Появилось прокатное пианино. Тетка же принялась меня учить, хотя, будучи нервнобольной, не вкладывала в это дело достаточной последовательности, полагаясь на мою большую восприимчивость. Школа Гюнтена и какие-то этюды Бертини были моей пищей, усвоенной почти исключительно на слух. Одновременно шло обогащение музыкальных впечатлений извне: в оперетте, подвизавшейся в летнем театре, и в опере, гастролировавшей зимой; в первой — «Орфей в аду», «Летучая мышь», «Корневильские колокола» (сильное впечатление), «Князь Игорь» (более смутное) и «Жизнь за царя» (ошеломляющее).
Начинаются годы учения. Большая семья и скромное жалование заставляли отца пристраивать нас (сперва брата, старше меня на четыре года, имевшего большие художественные способности, но рано умершего от чахотки, затем — меня, а после — трех сестер) в закрытые учебные заведения (интернаты) на казенный счет. Вслед за братом меня отдали в Нижегородский кадетский корпус.
Воспоминания о годах учения (сперва в Нижнем-Новгороде, затем во 2-м корпусе в Петербурге) несколько горькие. Учение давалось мне шутя: я никогда не был ниже второго ученика, но развивавшийся музыкальный инстинкт получил довольно случайный выход. В Нижегородском корпусе была у меня довольно хорошая учительница музыки, сулившая мне большие успехи, но зато с большими трудностями было сопряжено пользование роялем, от которого меня постоянно прогоняли старшие воспитанники, причем из-за моего упрямства дело зачастую кончалось изрядными избиениями. Пение в концертном хоре было большим удовольствием.
Так же, если не хуже, сложились дела при поездке в Петербург. Так как семья теперь жила в том же городе, я мог на праздники приходить в отпуск; был приглашен учитель (сколько помню, по совету Ц. А. Кюи, известного композитора, бывшего сослуживцем моего отца по Инженерной академии), оказавшийся не сильным пианистом, наивно гордившийся своей фамилией (Стунеев— из родни жены Глинки), но приохотивший меня к игре в четыре руки, правда, в ущерб более систематической ра-
[7]
боте. Приглашение учителя на дому имело то печальное последствие, что я почти не мог пользоваться роялями, имевшимися в корпусе; они были по часам расписаны за учениками, занимавшимися в самом корпусе, хотя часто пустовали, что я и пытался использовать. Тут уж меня гоняло начальство, вызывая чувство жгучей ненависти.
Одно лето в саду «Монплезир» (на Аптекарском острове, неподалеку от дома, где мы жили) происходили регулярные симфонические концерты, притом не по вечерам, а днем, что весьма облегчало мне туда доступ. Кто играл, что играли — я совершенно не помню, но результатом было то, что я начал учиться игре на скрипке. Это дало мне возможность уже с осени записаться в корпусной симфонический оркестр, где я, правда, не продвинулся дальше 2-х скрипок, так как больше уделял внимания роялю, но все же приобщился к ансамблевой игре и кое-какой симфонической музыке. Из сохранившихся впечатлений: увертюра из «Похищения из сераля» Моцарта (здесь мне, благодаря моей ритмической устойчивости, была, правда, поручена только партия треугольника — он, как известно, играет в этой увертюре почти не переставая), затем до-мажорная симфония Гайдна (где. я больше всего любил разработку, хотя и подвирал в каком-то пассаже), наконец — переложения мелких вещей Чайковского и др.
Руководителем оркестра был композитор, артиллерийский офицер Н. И. Казанли, дирижировавший нами чаще при помощи ножки от стула, так как в ярости ломал все дирижерские палочки. Большой пользы от всего этого не было, но уже в последние годы пребывания в корпусе я почему-то начал с Казанли же заниматься гармонией. Толчком к этому послужила, вероятно, еще не совсем осознанная жажда творчества, вызванная несколькими сильнейшими музыкальными впечатлениями. Живший у нас в семье взрослый двоюродный брат, игравший на скрипке довольно бойко, хотя и очень фальшиво, был участником одного из многих петербургских немецких любительских оркестров, имевшего несколько устарелый, но неплохой репертуар. Таская меня туда по субботам, брат заставлял меня просиживать целые вечера и слушать симфонии Калливоды, Онслова и т. п., но однажды я был поражен, услыхав увертюру к «Вильгельму Теллю» Россини со знаменитым флейтовым соло в начале, и совершенно выведен из равновесия 2-й симфонией
[8]
Бетховена, особенно ее Larghetto. Затем последовали уже симфонические концерты Русского музыкального общества (тоже дававшиеся по субботам), куда меня водил тот же двоюродный брат. Там меня поразила до-мажорная месса Бетховена. Наконец, последним толчком к музыкально-творческим устремлениям было потрясающее впечатление, вызванное концертом Артура Никита, где этот прославленный уже дирижер впервые (1896 г.) исполнил с необыкновенной силой 6-ю симфонию и балладу «Воевода» Чайковского.
Под руководством Стунеева и при участии нескольких сверстников, также живших в нашей семье (у нас был исключительно гостеприимный, если не сказать — странноприимный дом), фортепьянная техника моя хотя и не развивалась из-за крайней несистематичности занятий, но бойкость чтения с листа и храбрость в постановке задач сильно возросли. В четыре руки мы переиграли все симфонии и увертюры Гайдна, Моцарта и Бетховена (9-я не удавалась, правда), Вебера, Мендельсона, Шумана, пьесы Шуберта и т. д.; с двоюродным братом я рисковал даже играть скрипичные сонаты Моцарта и Бетховена, не говоря о разных мелких пьесах. В эти годы я накопил изрядный запас впечатлений и сведений по немецкой классике. Но первые, довольно косноязычные (занятия с Казанли как-то не шли мне впрок) попытки сочинения имели печать никогда не бывшего мне близким Шопена-Окончание кадетского корпуса в 1899 г. вызвало дальнейшее укрепление весьма не любимой мною военной карьеры, куда я автоматически вовлекался — по семейным и общественным традициям. Я поступил в наименее военное по духу училище — инженерное, в то время бывшее под весьма либеральным (с узко военной точки зрения) начальствованием генерала-историка Н. К. Шильдера. Из всех закрытых военно-учебных заведений — это единственное, которое я вспоминаю с меньшим отвращением. Причина та, что здесь я получил наиболее сильные музыкальные зарядки при несколько большей свободе в пользовании своим временем. Училище это комплектовалось всегда лучшими учениками, окончившими кадетские корпуса, поэтому, наряду с большим процентом «зубрил» и карьеристов, оно служило приютом и юношам с сильной интеллектуальностью.
[9]
Мне повезло столкнуться с целым рядом музыкальных энтузиастов, притом совсем новой для меня ориентации — на «могучую кучку». В. Л. Модзалевский, брат известного пушкиниста, В. Л. Гофман — брат другого пушкиниста, Н. Н. Сухаржевский — чрезвычайно одаренный виолончелист (ученик Вержбиловича) и немного композитор составляли основу нашей компании, в которую входили также члены их семей, иные — уже профессиональные музыканты. Бородин, Римский-Корсаков, Балакирев, Мусоргский стали также и моей пищей. Глинку я уже знал. Удалось мне также получить и другого фортепьянного педагога в лице Ф. К. Петерсена, очень продвинувшего мою технику, но, к сожалению, не имевшего широких музыкальных горизонтов.
Для занятия композицией времени, правда, не было, так как учение в инженерном училище требовало очень большого напряжения, особенно в последний, третий проектный год. Но жажда была возбуждена, и как только я вырвался из ненавистных стен закрытого учебного заведения и попал на службу в Москву, я начал искать способов возобновить свои музыкальные занятия, но теперь уж исключительно композицией, так как опыты сочинения, делавшиеся мной, при сильно возросшем общем музыкальном развитии, явно меня не удовлетворяли.
Я написал наивное письмо Н. А. Римскому-Корсакову с просьбой рекомендовать мне кого-нибудь в Москве. К своему удивлению, получил весьма любезный ответ с рекомендацией обратиться к С. И. Танееву, причем был дан даже адрес последнего (где-то в Мертвом переулке). Следствием было, что через некоторое время, произведя на С. И. Танеева, вероятно, довольно странное впечатление, так как я отказался показать свои композиторские бредни, я сделался по его совету учеником Р. М. Глиэра, с которым в полгода прошел весь курс гармонии. Музыкальные стремления к этому времени стали явно склоняться в сторону всего наиболее прогрессивного; сильнейшее впечатление того времени — «Кащей бессмертный» Римского-Корсакова в Солодовниковском театре (теперь — филиал Большого театра) под управлением Ипполитова-Иванова, при исключительном ансамбле певцов: Забела, Петрова-Званцева, Веков, Бочаров, Ошустович.
Следующий, 1904 год я уже в Петербурге. Глиэр
[10]
рекомендовал меня своему приятелю Ив. Ив. Крыжановскому (одному из основателей «Вечеров современной музыки», ученику Римского-Корсакова), с которым я прошел контрапункт, фугу, форму и немного оркестровку. Плодом этих занятий и благодаря возвращению в кружок временно покинутых друзей, к которым присоединился еще В. В. Яковлев (известный сейчас музыкально-театральный писатель), среди которых процветало увлечение самыми современными течениями литературы, живописи и т. д., явились первые мои серьезные музыкальные опыты — многочисленные романсы на слова 3. Гиппиус. Эти опыты позволили мне приблизиться к кругу передовых музыкальных деятелей, группировавшихся вокруг «Вечеров современной музыки». Правда, я не сделался в этом кругу «своим», так как и тогда стремление к «последнему слову» музыкальной техники и изобретения не имело для меня самодовлеющей цены. Во всяком случае атмосфера чрезвычайно напряженных музыкальных исканий и строжайшей оценки плодов их не могла меня как-то не заразить и не заставить почувствовать, что я все еще дилетант и, пока связан с тяготившей меня военной службой, не смогу из этого состояния выбраться. С этого времени становится более упорной моя сознательная борьба за свое музыкальное бытие. Я пользовался всеми законными способами добывать себе свободное время: один год я готовился к поступлению в Юридическую академию — это давало мне совершенно свободное лето, так как до осенних экзаменов в самой академии не надо было среди лета держать проверочных испытаний при штабе округа (что требовалось при поступлении во все другие военные академии). Лето я бешено сочинял сонаты, романсы. Перед экзаменами, естественно, пришлось «заболеть». Следующее лето я четыре месяца лечился от катара кишек. Это лето пошло на подготовку к консерватории, куда я твердо решил осенью поступить хотя бы вольнослушателем, поскольку еще был на военной службе.
В начале 1907 года кончился срок моей обязательной выслуги (по 11/2 года за каждый год обучения в инженерном училище), и я думал, что препятствий уже не будет для свободного осуществления моих намерений; первые полгода надеялся как-нибудь маскироваться, так как не был уверен, что военное начальство разрешило бы мне учиться в гражданском — только что (в 1905 г.)
[11]
воевавшем за свою автономию учебном заведении Поступление в консерваторию мне удалось (разрешения военного начальства никто не спросил), хотя на гармонизации хорала я чуть не срезался (выручила складно написанная на данную Глазуновым тему модуляционная прелюдия), но мне было поставлено в обязательство посещать и гармонию (я поступил в класс контрапункта к Лядову). Это крайне осложнило мои военно-служебные дела, так как приходилось проявлять феноменальную изворотливость, чтобы всегда поспевать на службу, не пропускать уроков и притом много работать. Я довел технику работы до того (я посещал еще класс оркестровки у Римского-Корсакова, который не любил лодырей), что по выполнении всех заданий у меня даже оставалось свободное время, причем и на службе высшее начальство ничего не замечало (ближайшее, к счастью, было ко мне дружески расположено).
В 1907 году я, наконец, к огорчению отца, который все еще не терял надежды на мое возвращение в лоно инженерного дела, попросился в отставку (запас). Мне ее дали через год, а пока отпустили в длительный (без содержания) отпуск со странной оговоркой — чтобы я не поступал ни в какое гражданское учебное заведение. Я особенно не волновался, так как «уже» был в консерватории.
Первый год мне пришлось туго, так как хотя я и жил у отца, но никаких иных денежных ресурсов не имел, и только с лета я начал немного зарабатывать уроками. Это лето (1907 г.) я считаю первым, когда почувствовал себя уже почти профессионалом; оно и в творческом отношении было продуктивным: четыре фортепьянные сонаты, из которых две — многочастные (одна ор. 6), дюжина мелких фортепьянных пьесок, струнный квартет в 4-х частях, наконец, 1-й цикл вполне «грамотных» романсов на слова Баратынского (ор. 1); по рекомендации Лядова появились первые ученики (по гармонии); завязалась тесная дружба с одноклассниками: Б. В. Асафьевым, сочинявшим тогда детские оперы («Золушка», «Снежная королева») и ухитрявшимся ставить их на детских любительских сценах; С. С. Прокофьевым, сочинившим уже тогда многие из своих знаменитых фортепьянных пьесок и работавшим над оперой «Ундина»; Л. И. Саминским — теперь известным композитором и дирижером в Америке; Я. С. Акименко
[12]
(впоследствии украинский композитор Я. Степовый). Следующий год (собственно лето) принес 1-ю симфонию (op. 3)20 и вместе с нею — право на бесплатную стипендию имени А. К. Глазунова (не получи я этой стипендии, консерваторию пришлось бы бросить, так как 250 рублей на обучение взять было негде). Лядов, мой профессор, этой симфонии не видел, так как я писал ее вне класса (фуга), а отношения у него с классом были столь странные, что мы не рисковали показывать ему то, что писали «для себя», тем более, что ему было известно о нашей зараженности модернизмом (главным образом Прокофьева и меня). Должен сознаться, что ненормальность этих отношений привела к тому, что слишком много сил пришлось тратить впоследствии на самостоятельное усовершенствование в разных областях, тогда как своевременный совет опытного педагога и выдающегося композитора, конечно, сберег бы массу энергии и не принудил бы заниматься непродуктивными «открытиями Америки». Все же не могу не признать, что необычайная строгость в требованиях, даже придирчивость, исключительная методическая ясность, необыкновенный вкус и чрезвычайно острое критическое чутье очень прочно укрепили нашу технику и развили чувство стиля. Лядова я вспоминаю с восхищением, благодарностью, но и... с ужасом.
Сочинение 1-й симфонии (я до того боялся оркестра) определило мой дальнейший путь. Я почувствовал, что именно в этой области буду всегда наиболее охотно высказываться. Театр никогда меня к себе не привлекал ни в опере, ни в балете. Я и здесь всегда предпочитаю то, что несет в себе наибольшее количество черт «чистой музыки» и симфонической жизни – оперы Вагнера, Римского-Корсакова.
В 1911 году я консерваторию тихо кончил, показав Лядову пару квартетов (один d-moll, op. 33, № 3) и сюиту для пения — «Мадригал» на слова Бальмонта (ор. 7). К этому времени я уже занимался преподаванием теории (с 1908 г.) в музыкальной школе, имел частные уроки. В эти же и последующие годы укреплялись мои привязанности к западной классической и отчасти (я мало любил Шопена и Листа) романтической музыке як русским корифеям, а из новых впечатлений сильнейшими были: «Китеж» Римского-Корсакова, цикл «Нибелунгов» Вагнера, 3-я симфония, «Экстаз» и «Прометей»
[13]
Скрябина, Дебюсси, «Испанская рапсодия» Равеля и «Пелеас» Шенберга.
Сочинение развивалось преимущественно в оркестровой области. 1909 г. — симфоническая притча «Молчание» — на сюжет Э. По для сверхбольшого оркестра; 1910 г. — Симфониетта для малого оркестра (ор. 10), 1911 г. - 2-я симфония, 1913 г. — «Аластор» на поэму Шелли, 1914 г. — 3-я симфония. Почти все эти сочинения носят отпечаток глубокого пессимизма, так же как и написанная в 1912 г. – 2-я соната для фортепьяно. Мне самому трудно анализировать причины этого явления. Отчасти тут виной, вероятно, обстоятельства моей личной судьбы, поскольку мне почти до 30 лет пришлось вести борьбу за свое высвобождение из совершенно почти чуждой искусству (по своему профессиональному и общественному положению) среды, а внутренне — из густой паутины дилетантизма, окутывавшего все мои первые (да и не только первые) шаги на избранном поприще. С другой стороны — некоторое знакомство, хотя и весьма поверхностное, с кругами символистов, «соборных индивидуалистов» и т. п., идейно, конечно, влиявших на мою тогда довольно сырую психику.
Первые мои профессиональные успехи приурочиваются к следующим моментам: в 1908 г., в декабре, «Вечера современной музыки» показали в одном из своих концертов три моих романса на слова 3. Гиппиус (в один вечер с первым выступлением С. С. Прокофьева), в 1910 г. Российское музыкальное издательство из кучи посланных мной романсов выбрало для печати «Сонет» Микельанджело—Тютчева; наконец, в 1911 г. И. И. Крыжановский познакомил меня с приехавшим из Москвы дирижером К. С. Сараджевым; это знакомство, имевшее громадные последствия для всей моей дальнейшей музыкальной карьеры, неожиданно привело к исполнению летом в Сокольниках (под Москвой) симфонической поэмы «Молчание» (годом раньше Зилоти — пианист, организатор и дирижер известных петербургских симфонических концертов — пренебрежительно отклонил ее). Исполнение, кажется, вызвало недоумение, но ни меня, ни Сараджева, ни приютившего меня в еженедельнике «Музыка» редактора его В. В. Держановского, также бесконечно много сделавшего для моего музыкального самоопределения, — никого из нас прием «Молчания» не обескуражил, и уже на следующий год Сараджев
[14]
летом играл мою 2-ю симфонию, а также впервые 1-й концерт Прокофьева в авторском исполнении.
С того же лета началась моя, к счастью, кратковременная критическая работа в еженедельнике «Музыка», то в качестве корреспондента о петербургских концертных делах, то рецензента печатных новинок, преимущественно заграничных изданий. Не скрою, что кое-какую пользу из этой деятельности я извлек: она обострила мое критическое чутье и дала некоторые навыки, которые сказываются даже в теперешней моей педагогической работе. Одно из последних сильных переживаний — это исполнение замечательной певицей Е. В. Копосовой-Держановской моих романсов на «Вечере современной музыки» в Москве зимой 1914 г. Дальше идет большой пробел.
На войну 1914—1918 гг. я был мобилизован в первый же месяц и после небольшой проволочки попал на австрийский фронт — на осаду крепости Перемышль. Затем — поход в Бескиды на границу Венгрии, стремительное обратное бегство через Галицию и Польшу с пренеприятными задержками под Ярославом, Красноставом, Грубешовом, на р. Любачевке; затем жуткое продвижение через Полесье и, наконец, длительная остановка под Двинском. Почти все время — на передовых линиях, и только последний год войны — на постройке морской крепости Ревель. Пребывание на войне и некоторые встречи в значительной мере укрепили мои демократические склонности, оформившиеся в консерватории, а в Февральскую революцию принявшие довольно крайнее, хотя все же не вполне определенное направление. Но уже июльские события в Ленинграде, докатившиеся до Ревеля через печать, качнули меня, в значительной мере лишь инстинктивно, в сторону наиболее радикальных позиций. После Октябрьской революции я через пару месяцев был переведен в морской генеральный штаб, в котором и прослужил до своей полной демобилизации и приглашения профессором Московской консерватории в 1921 году.
Война сильно обогатила запас моих внутренних и внешних впечатлений и вместе с тем почему-то повлияла на некоторое просветление моих музыкальных мыслей. Большинство моих музыкальных записей на фронте имело, если не светлый, то все же уж гораздо более «объективный» характер (многие темы потом вошли в 5-ю
[15]
симфонию, причем одна — запись русинской «колядки» подо Львовом).
И все же первым делом по возвращении в Петроград в конце 1917 г. было не сочинение уже раньше задуманной 5-й симфонии, а работа над более напряженной, как отклик на близкое пережитое, но со светлым концом, 4-й симфонией. После 5-й симфонии и переезда в Москву в 1918 г. последовал довольно долгий творческий перерыв, заполненный завязыванием новых дружеских связей, работой в первичной ячейке Союза композиторов («Коллектив композиторов», основанный в 1919 г.) и, наконец, продвижением в печать при помощи П. А. Ламма (известного теперь восстановителя подлинного текста произведений Мусоргского) своих оркестровых сочинений (первой моей напечатанной партитурой был «Аластор»).
Возобновление творческой работы началось лишь в 1920 г. после первого исполнения Н. А. Малько моей 5-й симфонии — сперва мрачной 3-й фортепьянной сонатой, затем романсами на слова Блока и Тютчева. Несмотря на инстинктивно верную идейную направленность, отсутствие теоретически подкрепленного и обоснованного мировоззрения (я начал заполнять этот пробел только около 1930 г.) вызвало какое-то интеллигентско-неврастеническое и жертвенное восприятие революции и происходившей гражданской войны; это, естественно, отразилось на тогда уже возникшем замысле 6-й симфонии. Первым импульсом было случайно услышанное мной исполнение французских революционных песен «Са ira» и «Карманьолы» одним приехавшим из Франции художником (фамилии его не помню), напевавшим эти песни так, как по его словам, их теперь поют и танцуют на рабочих окраинах Парижа. Запись, сделанная мной тогда, оказалась несходной ни с одним известным текстом этих песен, но меня особенно поразила ритмическая энергия «Карманьолы», которая отсутствовала в известных мне обработках. Когда в 1922 г. у меня созрел замысел 6-й симфонии (отчасти в связи с прочитанной драмой Верхарна «Зори», где так же выпукло дается мотив жертвы «за революцию»), записанные темы уверенно встали на свои места. Тогдашнее несколько сумбурное состояние моего мировоззрения неизбежно привело к кажущейся теперь столь странной концепции 6-й симфонии — с мотивом «жертвы», «расставания
[16]
души с телом» и каким-то апофеозом «мирного жития» в конце; но волнение, вызвавшее зарождение этой симфонии, и жар при ее осуществлении делают это сочинение дорогим мне и теперь и, видимо, способным посейчас захватить слушателя, насколько я мог судить по здешним исполнениям и все учащающимся исполнениям этой симфонии за границей, особенно в Америке.
Большое напряжение после 6-й симфонии вызвало стремление к несколько иным, менее сгущенным и более объективным настроениям, и мне казалось, что я нашел их в 7-й симфонии, но обнаружились они только во второй ее части (и немного во вступлении), в первой же части я продолжал, хотя и несколько в ином плане, бушевать.
Только в замысле 8-й симфонии я получил настоящий импульс к тем объективным настроениям, которые начал искать. Сперва в ней родился замысел финала на тему, которую я принял за песню о Степане Разине и обработать которую решил в сочетании с рядом волжских песен, а также связав с образом обездоленного крестьянства. Так как песня оказалась иного содержания, замысел в первоначальной форме не развился, но элементы его, конечно, остались как в характере первой части (степного, напевного склада), в темах второй части (с двумя русскими песнями об «утенушке» и «утушке»), целиком в третьей части (на башкирскую песню, которая еще недавно пелась на слова о покинутом солдатике) и, наконец, в буйно-напористом, но с трагическим окончанием, финале.
9-я симфония была задумана по возможности в лирико-безмятежном плане, я ее считаю своим симфоническим интермеццо.
10-я симфония явилась ответом, к сожалению, не очень понятным, на давно мучившую меня идею — дать картину душевного смятения Евгения из «Медного всадника» Пушкина. Еще во время работы над 10-й симфонией, дававшейся мне с некоторым напряжением, у меня возникла мысль написать ряд оркестровых сюит песенно-плясового характера, причем тематический материал всех трех вылился внезапно в один присест. Через некоторое время возник ор. 32, состоявший из «Серенады» для малого оркестра, «Симфониетты» для струнного (приобревший довольно большую ходкость, особенно за границей) и «Лирического концертино» для смешанного
[17]
состава. В этих трехчастных сюитах замысел мой претерпел некоторые изменения, и стихия пляски, к сожалению, не получила надлежащего выражения, по все же мне удалось достичь большей, чем раньше, ясности в течении мыслей и их оформлении.
Когда раздались первые призывы к коллективизации крестьянского земледелия, меня чрезвычайно увлекла эта идея, казавшаяся мне особенно революционной по своим последствиям. Однажды М. В. Коваль на одном из заседаний в Музгизе намекнул мне на связанную с этим тему для сочинения — «посев»; у меня почти немедленно возникли музыкальные образы и план какой-то симфонии о деревне, рисующей последнюю в стадиях — до, во время борьбы за новый быт и уже новой. Осенью 1931 г. я уже принялся за выполнение своего замысла, но сперва успел написать 11-ю симфонию, где дал выход кое-каким настроениям более субъективного содержания.
12-я симфония вышла не совсем так, как я хотел; кое в чем она получилась схематичной, хотя в связи с содержанием формальные схемы были мной нарушены, а главное — мне не удалось найти язык и формы для последней части, и она только внешне выражает мой замысел, но внутренне недостаточно убедительно.
Перед этими двумя симфониями я впервые попробовал свои силы в массовых песнях, но удовлетворения не получил, хотя одну из песен считаю неплохой («Крылья советов»). Дальнейшие мои опыты в этой области я также не считаю удачными, хотя некоторые из песен и имеют признание, например, «Ленинская» или «Наливались тополи». Главный недостаток этих песен и всех своих работ в данной области я вижу прежде всего в нехватке заражающей и увлекательной мелодической непосредственности — нет внутренней простоты, а затем — в какой-то куцости, «недопетости» мысли в них.
Потребность в какой-то разрядке накопленных субъективных переживаний, неизменно мне свойственных и едва ли уже истребимых в моем возрасте, вызвала к жизни 13-ю симфонию, сочинение очень пессимистическое, которое я в творческом ослеплении мнил опытом эмоциональной музыки. Это оказалось заблуждением — симфония вышла довольно эмоциональной, но крайне странного содержания. Она осталась страницей моего дневника: я ее не пропагандирую, зато благодаря
[18]
произошедшему внутреннему освобождению следующую симфонию (14-ю) мне удалось сделать достаточно светлой и динамически более острой, и хотя я не могу похвастаться свежестью и яркостью ее музыкального языка, но мне кажется в ней есть жизненный пульс.
15-ю симфонию, написанную мною в прошлом году, многие ценят за ее оптимизм и лирическую взволнованность. Но и это все еще не тот язык, какой я ищу, чтобы чувствовать себя вполне художником наших дней. Я не знаю, каким этот язык должен быть, и не знаю рецепта его поисков; ни устремление в сторону народной песни, ни интонации наших городских мелодий в чистом виде не кажутся мне еще теми единственными данными, которые создают музыкальный язык социалистического реализма в инструментальной музыке, специфика которой имеет глубокие отличия от музыки песенно-вокальной.
Свою последнюю 16-ю симфонию я тоже не склонен рассматривать как вполне удачное разрешение проблемы ни со стороны формы, ни со стороны языка, хотя тенденция ее содержания еще ближе к современности, чем в других моих сочинениях.
К двадцатилетию Октября у меня был план довольно крупного оркестрово-хорового сочинения, но, к сожалению, в процессе обдумывания его замысел не только не конкретизировался, но, напротив, как-то расплылся и гипертрофировался, так что у меня исчезла надежда с ним справиться. Новый, к сожалению, не возник. Давно занимающая меня мысль дать в музыкальных образах выражение чувств, связанных с личностью наших великих современников, перестраивающих с гениальной прозорливостью и мудрой неуклонностью нашу жизнь, опять же упирается в чувство известной недозрелости моего музыкального языка и даже музыкального мышления. Но идея эта — моя мечта, и как таковая должна когда-нибудь сбыться, как сбываются сейчас у нас самые увлекательные мечтания лучших представителей человечества — всех веков и народов.
Опубл.: Мясковский Н.Я. Статьи, письма воспоминания. Т. 2. М., 1975. С. 5 - 18
С. САВЕНКО Послевоенный музыкальный авангард
[407]
На рубеже пятого и шестого десятилетий XX века началась новая советская музыка. Импульсы, возникшие в то время, продолжали жить долго, по меньшей мере, несколько десятилетий. Словно произошел взрыв, высвободивший подспудную, неотвратимо накапливавшуюся энергию. Социальное соединилось с биологическим: общественно-исторические события пробудили к творческой деятельности новое, от природы редкостно одаренное поколение, способное выполнить задачи, назревшие в искусстве и в обществе.
Как известно, после смерти И.Сталина в марте 1953 года умонастроения советского общества начали меняться довольно быстро. Скорость этого процесса свидетельствует о глубоком кризисе тоталитарного режима, созревшем к концу жизни тирана. Смутные надежды на большую, по сравнению со сталинскими временами, свободу в первую очередь выразила литература. «Оттепель» И.Эренбурга, чье название дало имя целому историческому периоду, впервые была опубликована в майской книжке журнала «Знамя» за 1953 год. В декабре того же года состоялась премьера 10-й симфонии Шостаковича, с необычайной силой и художественным совершенством выразившей дух времени и предчувствие перемен. Показательна дискуссия, состоявшаяся в связи с премьерой: хотя она протекала под знаком незыблемого регламента «социалистического реализма», все же это было сравнительно творческое и мирное по тону обсуждение, не сопровождавшееся оргвыводами и устрашающими резолюциями.
Одно из выступлений в ходе дискуссии, напечатанное в журнале «Советская музыка» (1954. №4). принадлежало Андрею Волконскому, совсем молодому композитору, еще не завершившему консерваторский курс. Новое поколение начинало заявлять о себе.
Общественно-исторические условия становились тем временем все благоприятнее для перемен. На XX съезде КПСС, состоявшемся в 1956 году, были резко осуждены репрессии сталинских времен, начали выпускать на волю узников ГУЛАГа. возвращая им гражданские права (этот процесс начался сразу после смерти Сталина). Хотя тоталитарная война
[408]
против собственного народа отныне определялась как «нарушения социалистической законности» и всецело списывалась на «культ личности», в обществе крепли надежды на невозможность возврата к прошлому. В международных отношениях была сформулирована доктрина «мирного сосуществования» и «разрядки напряженности», железный занавес холодной войны понемногу начал раздвигаться. Политическим творцом процесса либерализации выступил Н.Хрущев, чья деятельность во главе государства составила эпоху в современной истории.
Периоду «оттепели» суждена была недолгая жизнь. Либерализация шла по нарастающей до конца 1962 года, когда разразился Карибский кризис и состоялась выставка МОСХа в Манеже — два разнородных, но в равной степени весомых события. Затем либерализация постепенно затормозилась и после падения Хрущева в 1964 году практически сошла на нет. Ее конец жестко обозначило вторжение в Чехословакию в августе 1968 года.
«Оттепель» была связана в первую очередь с некоторыми изменениями идеологических ориентиров. Самоотверженный труд на благо Родины и борьба за светлое коммунистическое будущее сохранились в виде идеальных целей, но само это недосягаемое будущее вроде бы приблизилось и стало более понятным. Главным стало — жить не хуже, чем в капиталистических странах (косвенное признание их экономического преимущества), и это новое стремление к человеческим условиям существования материализовалось в памятном хрущевском лозунге: «Догоним и перегоним Америку по производству мяса, молока и масла!» При этом, естественно, ослабло характерное для сталинской эпохи ощущение постоянной мобилизованности, подогревавшееся пропагандистскими клише о «вражеском окружении» — хотя шпиономания при Хрущеве не исчезла, люди стали меньше бояться войны, агрессии и собственного государства. Слегка распрямившись и глотнув посвежевшего воздуха, советский человек почувствовал новый, десятилетиями угнетаемый интерес к себе и к окружающему миру. Теперь можно было заняться собой (и в житейском, и в духовно-возвышенном смысле), а также хоть немного посмотреть вокруг, сравнить себя с соседями из других стран, благо контакты хоть в какой-то степени стали возможными.
В этой атмосфере и выступило на авансцену новое поколение. Хотя творцами «оттепели», как и всякой реформы «сверху», были люди зрелые и солидные по возрасту, именно молодежи предназначалось воплотить либеральные импульсы в жизнь. Новое поколение, не обладавшее опытом сталинских времен, не было заражено страхом — по крайней мере, в такой степени, как старшее. Молодые были свободны от многих предрассудков. Наконец, они естественно, «по определению» несли в себе мощный заряд жизненной силы и творческой энергии, проявлению которой общественные условия впервые за долгое время как будто не препятствовали.
Перемены в обществе наиболее полно и непосредственно выразила сфера художественного творчества — литература и искусство. Традиционная для России социально-гражданственная роль искусства была сыграна в очередной раз, ярко и самозабвенно. В известной мере художественное творчество и, шире, духовная жизнедеятельность призваны были компенсировать недостаток подлинных социальных перемен; ведь либе-
[409]
рализация, в сущности, не затронула ни экономическую, ни политическую структуру общества, ориентированного, как и раньше, на «коммунистические ценности». С этим была связана половинчатость и краткосрочность либерализации, не успевшей и не сумевшей укорениться в советском государстве.
Однако все познается в сравнении. Молодым поэтам, собиравших тысячные аудитории на стадионах, молодым художникам и композиторам, впервые соприкоснувшихся с мировым творческим опытом, свобода казалась почти безграничной. Это было время открытий. Примечательна в этой связи статья Родиона Щедрина «За творческое мужество», появившаяся в 1955 году («Советская музыка», №7), где молодой композитор призывает своих коллег не только смелее обновлять собственное творчество, но и расширять свой художественный кругозор в сфере современной музыки. Имена, названные Щедриным как ближайший материал для освоения, демонстрируют глубочайшую изоляцию советского искусства от мирового опыта: это Дебюсси. Равель, Малер и ранний Стравинский, противопоставляемый позднему, все еще «неугодному». Однако начинать реабилитацию зарубежной музыки XX века приходилось именно с этих композиторов, в дореволюционное время благополучно звучавших в России и посещавших ее с концертами. Зато в 40-50-е годы познакомиться с их творчеством даже профессионалу было затруднительно.
На сегодняшний взгляд удивительны, впрочем, не только запреты, но и то, с какой скоростью они начали рушиться. Не только композиторы первой трети столетия, вроде упомянутых Щедриным Дебюсси и Равеля, но и другие, более поздние художники, и даже еще живущие, начали активно проникать в концертные программы, осваиваться слушательским
[410]
сознанием. Так в советских концертных залах зазвучали Онеггер, Мийо, Пуленк, Хиндемит, Орф, Бриттен, Стравинский периода неоклассицизма, позднее — Мессиан и Берг, наименее «подозрительный» из «нововенцев». С двумя другими членами «троицы», Веберном и особенно Шёнбергом, дело обстояло хуже. Веберн лишь изредка звучал в камерных полузакрытых концертах, Шёнберг попадался почти исключительно в программах иностранных гастролеров. Совершенно не исполнялся и был известен лишь в отдельных записях современный западный авангард: ни Штокхаузен, ни Ксенакис, ни Верно или Ноно. Событием стала пьеса Булеза «Взрыв», сыгранная автором с оркестром Би-Би-Си во время гастролей 1967 года.
Однако тяга к новой художественной информации была в то время настолько сильна, что ограниченность наличной концертной практики, даже в ее либерализованном варианте, легко преодолевалась другими способами, особенно в профессиональной среде. Контакты с Западом не слишком поощрялись и теперь, но за них по крайней мере перестали преследовать: можно было получать ноты, пластинки, изредка, если повезет, даже поехать в какую-нибудь социалистическую страну на фестиваль современной музыки. Среди последних важнейшую роль сыграл фестиваль «Варшавская осень», начавшийся в 1956 году. Он имел авангардный характер, причем степень радикализма была максимальной для страны социалистического лагеря. Официальное отношение к «Варшавской осени» неоднократно высказывалось на страницах советской прессы: в частности, в журнале «Советская музыка» регулярно появлялись рецензии на ее программы, в лучшем случае прохладные, в худшем — резко негативные. Руководству Союза композиторов СССР не нравился этот фестиваль, но сделать на чужой территории мало что удавалось, поскольку искусство для польской общественности сохраняло значение сферы, где допускалась значительная свобода (в качестве суррогата национального самоутверждения).
Роль «Варшавской осени» для новой советской музыки трудно переоценить. Оттуда регулярно поступала реальная современная звуковая продукция в виде записей и нот, там звучала новая современная музыка в собственном смысле слова. И, наконец, там исполняли советских композиторов, особый акцент делая на творчестве авангардной направленности. Отбор произведений устроители фестиваля производили в принципе самостоятельно, почти не считаясь с жесткой иерархией, существовавшей в Союзе композиторов СССР. При этом советской музыки появлялось довольно много: только в начальный период существования фестиваля, в 50-60-е годы, в концертах «Варшавской осени» прозвучали опусы более двух десятков авторов из СССР. Главенствующее положение занимали наиболее радикальные в стилистическом отношении композиторы, на родине исполнявшиеся в то время мало либо вовсе не появлявшиеся в открытых концертах: Г.Уствольская (1962). А.Шнитке (1965, 1967). А.Пярт (1965) и в особенности Э.Денисов (1964, 1966, 1968, 1969, 1970).
Ориентиром для молодых советских художников служил западный авангард 50-х — начала 60-х годов. Однако и более ранние новации подлежали освоению: неофольклоризм Стравинского и Бартока, неоклассическое моделирование, нововенский экспрессионизм, включая специ-
[411]
фические звуковысотные структуры — свободную двенадцатитоновую атональность и серийную додекафонию.
Конечно, нельзя сказать, что более ранняя советская музыка развивалась в полном отрыве от общеевропейских процессов: в 20-е годы о таковом вообще не приходится говорить, позднее также можно наблюдать по крайней мере частичное отражение важнейших общеевропейских стилевых тенденций — например, неоклассицизма в творчестве Шостаковича 30-х годов. Но в 40-50-е годы положение резко ухудшилось, и опасность «опровинциалнться», о которой когда-то говорил Прокофьев, превратилась для советских композиторов в реальную угрозу. Молодое поколение композиторов было призвано вернуть отечественной музыке былой престиж: не секрет, что новые советские опусы, исполнявшиеся за рубежом в 50-е годы, разочаровывали своим уровнем и критиков, и публику. Даже традиционно почитаемый там Шостакович не всегда бывал исключением. Роберт Крафт, посетивший СССР вместе со Стравинским в 1962 году, говорил, что советские композиторы отстали от западных «на световой год». Даже сделав скидку на пристрастность Крафта (а он, несомненно, был пристрастен), нельзя счесть его отзыв полностью беспочвенным.
Разумеется, молодые композиторы, в отличие от политиков, не ставили себе специальной задачи «догнать» Европу или Америку. Они просто шли в том направлении, которое им подсказывала собственная натура и историческая ситуация. Они хотели говорить на новом языке.
«Новый язык» означал тогда освоение неизвестных советской музыке нововенской додекафонии и авангардного сериализма. несколько позднее — сонористики (тембровой композиции). На первый взгляд, все это было связано лишь с композиторской технологией, с ремеслом, к тому же отнюдь не новым — на это особенно напирали отечественные критики, ставившие «на вид» молодым композиторам «устарелость» серийного метода и тем самым, по существу, разделявшие поверхностно-авангардную точку зрения на важность смен художественной «моды».
Другой критический аргумент касался рациональной сухости и механистичности серийного метода композиции, а тем более сериального. Однако рационализм, с чем бы он ни был связан, для молодого поколения представлял собой позитивное качество. В то время особым престижем пользовались точные науки. И не только потому, что они находились на подъеме. В точном знании видели знание истинное, не отягченное субъективизмом и не подлежащее идеологическому манипулированию. Этот стимул был важнейшим и для западноевропейского, особенно немецкого, авангарда, стремившегося соединить разорванную линию традиции, восходящую к нововенцам. и как можно скорее и решительнее распрощаться с ложноклассической помпезностью фашистского искусства — сделав вид, что его вообще не было па свете. Молодые художники СССР устремлялись в сходном направлении. Чистота рационализма и просто здравого смысла, апеллирование к позитивистскому знанию противопоставлялись, часто бессознательно, уходящей в прошлое жуткой и абсурдной сталинской эпохе. Непосредственное, импульсивное творчество, лирическое самовыражение хотя и не отрицалось в открытую, но выглядело на этом фоне подозрительным анахронизмом, мишенью иронических нападок. Ирония вообще стала тестом на подлинность, героями нового времени оказались сыплющие остротами персонажи братьев Стругацких и блес-
[412]
тящий интеллектуал из «Девяти дней одного года» М.Ромма. Новизна технической задачи, оригинальность и профессиональное мастерство в ее разрешении в этих условиях были равно весомы и для ученых, и для художников.
Первым в советской музыке сочинением, написанным согласно серийному методу Шенберга, очевидно, следует считать фортепианный цикл Андрея Волконского «Musica stricta», законченный в 1956 году. Его автору было тогда 23 года.
Андрей Михайлович Волконский сыграл совершенно особую роль в советской музыке 50-60-х годов (в 1973 году он переселился на Запад и в настоящее время живет во Франции). Потомок древнего княжеского рода, известного в истории России благодаря многим своим представителям, Волконский родился в 1933 году в Женеве и до репатриации семьи в СССР (1947) успел получить на Западе первоначальное музыкальное образование, продолженное затем в Москве. Он был значительно лучше своих советских сверстников и коллег осведомлен о современной европейской музыке и вообще более чуток к новым художественным веяниям. До «Musica stricta» Волконский писал тональную музыку, но уже не слишком традиционную, отмеченную, в частности, влиянием неоклассицизма Стравинского. Затем он обратился к изучению додекафонии, что послужило причиной стилистического поворота. «Musica stricta», опирающаяся на полифонические формы и барочные жанры не порывает с неоклассицизмом, напоминая этим позднего Стравинского, но также и Шёнберга периода Сюиты для фортепиано ор.25[1].
Более поздние опусы Волконского — «Сюита зеркал» (1959), «Жалобы Щазы» (1960; оба сочинения — для сопрано и камерных ансамблей разного состава), «Странствующий концерт» (для сопрано, флейты, скрипки и двадцати шести инструментов, 1967) принадлежат к вершинным достижениям молодого советского авангарда. Волконский развивает в них утонченный структурализм Веберна в направлении, несколько сходном с Булезом.
Не только серийный метод звуковысотной организации, опробованный Волконским, был нов для советской музыки. Новой была камерная изысканность письма, где значимой становилась мельчайшая интонация — восходящие к Веберну лаконизм и отточенность художественного высказывания. Это была настоящая современная лексика, проникшая в советскую музыку в первую очередь благодаря Волконскому и несколько позднее так или иначе освоенная многими композиторами, в том числе и далекими от авангарда.
Другой областью новаторства Волконского стало исполнительство. Волконский — безусловно, один из крупнейших современных интерпретаторов доклассической музыки. Расширение историко-стилистического диапазона концертного репертуара — важнейшая сторона современной музыкальной жизни, начиная с середины столетия. На Западе интерес к музыке средневековья и Ренессанса приобрел в послевоенные годы устойчивые формы, в советской культурной жизни тогда еще отсутствовавшие. Выдающийся музыкант, клавесинист и органист, Волконский совершил настоящую революцию в отечественной концертной практике. Ведь само звучание клавесина было в то время непривычным, равно как и сама идея
[413]
исполнять старинную музыку на тех инструментах, для которых она была написана.
Волконский много выступал также как ансамблист. Огромную роль в популяризации старинной музыки самого широкого спектра сыграл основанный им в 1964 году ансамбль «Мадригал», существующий до сих пор. Среди участников «Мадригала» — такие ныне известные музыканты, как певица Лидия Давыдова и перкуссионист Марк Пекарский.
Волконский-интерпретатор неотделим от Волконского-композитора. Его подход к старинной музыке свободен от догматизма любого рода, в том числе и стилизаторского. «Я никогда не интересовался и не занимался стилизацией, потому что считаю, что это самое плохое, что может быть. Нет, влияние было скорее обратное: мое композиторское творчество отражалось на моем исполнительстве»[2]. Действительно, Волконский выступал как бы соавтором исполняемой музыки, предлагая очень индивидуальное, современное прочтение даже в тех случаях, когда существовала устойчивая интерпретаторская традиция, как, например, в отношении сочинений И.С.Баха. Иногда трактовки Волконского были спорными, но всегда — живыми. Огромное дарование даже рискованные вещи — например, широкое использование ударных в интерпретациях музыки средневековья и Ренессанса — делало неопровержимо убедительными.
Исполнительская деятельность Волконского принесла ему известность. Что до композиции, то уже к началу 60-х годов его сочинения превратились в подручный материал для официозной критики, причем не только на уровне Союза композиторов, но и выше. Так, Волконский был упомянут тогдашним главным идеологом Л.Ильичевым на совещании, последовавшем за памятным посещением Хрущевым выставки в Манеже. Поэтому сочинения Волконского допускались к звучанию крайне редко: например, в 1965 году дирижеру Игорю Блажкову удалось исполнить «Жалобы Щазы» — до этого музыка Волконского не исполнялась пять лет. Премьера была встречена гробовым молчанием прессы. «Странствующий концерт» дожидался исполнения на родине более двадцати лет: он прозвучал в Москве в 1990 году в одном из концертов фестиваля «Альтернатива».
Почти полная невозможность пробиться на концертную эстраду с собственными сочинениями оказалась, вероятно, одной из причин количественной скромности творчества Волконского. Переселение во Францию, впрочем, ситуацию не изменило и даже, как кажется, усугубило: за период 1974-1992 годов Волконский создал лишь шесть опусов. Однако значение его творческой личности для советской музыки все же неоспоримо, и вклад Волконского еще ждет всесторонней оценки. За рубежом его музыка, очевидно, известна мало, она не попадала в программы международных фестивалей, и с советским авангардом там ассоциировались другие имена.
Термин «советский авангард» начал употребляться в первой половине 60-х годов, причем исключительно в зарубежной прессе. На родине были возможны лишь такие слова и выражения, как «авангардизм»,
[414]
«авангардистский», «так называемый авангард», составлявшие важный элемент официозной негативной лексики. К группе «авангардистов» принадлежали композиторы из разных мест — России. Украины. Прибалтики, Закавказья; движение было достаточно широким. В первую очередь здесь должны быть названы три московских композитора — Софья Губайдулнна (1931). Эдисон Денисов (1929-1996), Альфред Шнитке (1934) — «московская тройка», по слову Г.Рождественского, закрепившемуся как бойкий журналистский заголовок. Значительным оказался вклад и других молодых художников: Н.Каретникова (1930-1994). С.Слонимского (1932), Р.Леденева (1930). Б.Тищенко (1939), В.Сильвестрова (1937). Л.Грабовского (1935), Р.Щедрина (1932), А.Караманова (1934). Волна обновления захватила в то время также композиторов старшего поколения, таких как А.Эшпай (1925) и К.Караев (1918-1982), затронула она и Д.Шостаковича.
Период увлечения авангардными техниками длился у советских композиторов недолго. Уже во второй половине 60-х годов обозначился отход от ортодоксального серийного письма в пользу более свободных смешанных вариантов. Однако и на Западе тотальный сериализм как триумф строгой технологии просуществовал не более десятилетия. Его сменила алеаторическая импровизацнонность. а затем — индивидуальные «симбиотические» методы композиции.
Начальная стадия освоения серийности, естественно, оказалась не только практической, но и теоретической. Ведь додекафонии в советских консерваториях не учили, не было в СССР и живых носителей этой традиции. Единственным исключением можно считать Филиппа Гершковича, ученика Веберна и Берга, в 1940 году попавшего в СССР и с 1946 по 1987 жившего в Москве. С Гершковичем так или иначе общались почти все московские композиторы авангардного направления. Однако нет сведений, что кого-то из них он обучал додекафонии. К ее теоретическому изучению и практическому применению сам Гершкович обратился лишь в середине 60-х годов; подобно своим учителям, он строил преподавание главным образом на классико-романтическом наследии[3].
Теоретическим подспорьем в освоении серийности служили зарубежные источники, такие как «Упражнения в двенадцатитоновом контрапункте» Э.Кшенека (1952) или «Учебник двенадцатитоновой техники» Г.Аймерта (1952: многократно переиздавался). Принципы тотального сериализма изучались в основном по первым двум томам «Текстов» Шток-хаузена (1963-1964) и статье Д.Лигети «Выбор и автоматика в „Структурах 1а" Пьера Булеза» (1958) — по-видимому, оттуда пришли цифровые таблицы для расчета ритмических и прочих рядов, использовавшиеся, например, Шнитке и Денисовым. Сходную роль сыграли аналитические штудии произведений нововенской школы и послевоенного авангарда, результаты которых отчасти обнародовались как научный и учебно-методический материал, а также в форме докладов в Союзе композиторов и в Московской консерватории[4]. Практическое изучение подобного рода позволило критически осмыслить опыт предшественников, избежав по возможности прямого подражания: здесь теория помогала творчеству. Таким путем молодые советские авангардисты непосредственно включались в общеевропейские эволюционные процессы.
[415]
Что же представляла собой советская додекафония, советский сериализм, сонористика и другие новые техники? Ответить на этот вопрос основательно и в полном объеме, очевидно, пока никто не пытался[5], поскольку сама его постановка стала возможной лишь в последние годы. Некоторый материал на эту тему содержат монографические исследования, появившиеся сравнительно недавно[6]. Однако целостное изучение данной проблемы — дело будущего.
Акцент на технологии, характерный для авангарда 60-х годов, не должен скрыть тот факт, что новые способы композиции несли новую музыкальную выразительность очень широкого спектра. То, что эта выразительность в принципе не допускала ничего экстрамузыкального, сохраняя чистоту своей специфики, придавало ей особую привлекательность в глазах молодого поколения советских композиторов, для которых это означало преодоление идеологической отягощенности и прорыв к общечеловеческим ценностям. Новая музыка словно освобождала от прикованности к времени и месту, открывая невиданные доселе горизонты духовной свободы. Молодые композиторы, только начинавшие свой творческий путь, не стеснялись учиться — однако учениками они были очень самостоятельными.
Необходимость «наверстывать» привела к тому, что интервал между освоением нововенской додекафонии и овладением тотальным сериализмом оказался очень кратким. Так, Э.Денисов создает свои первые ортодоксальные додекафонные опусы в 1961 году; всего лишь через три года в финале «Итальянских песен» появляется серийная организация высот, длительностей и громкостной динамики[7]. Денисов пользуется цифровыми таблицами, аналогичными булезовским, и в техническом отношении движется в том же направлении, что и его западные коллеги, то есть к индивидуализации серийной структуры в каждом отдельном сочинении. В «Итальянских песнях» таким индивидуализирующим моментом становится серийный расчет временных интервалов вступлений голосов. «Теперь не только серия избирается для произведения, но и путь от серии до звуковой ткани», — заключают Ю.Холопов и В.Ценова[8].
А.Шнитке, также активно работавший в сфере сериализма в первой половине 60-х годов, тоже не копирует западные образцы. Если в раннем опусе подобного рода — «Музыке для камерного оркестра» (1964) Шнитке прямо использует технику «Структур» Булеза[9], то довольно скоро он оказывается уже критиком этой системы, ее действительно уязвимых мест — в первую очередь временной организации. Шнитке обращает внимание на то. что ортодоксальное применение булезовских ритмических серий приводит к монотонии периодических структур, образуемых чередованием равновеликих циклов (сумма, образуемая двенадцатью различными длительностями). «Если строго формализовать музыку, то одной серии и одного цифрового ряда, выводимого из нее, оказывается недостаточно. Этот цифровой ряд при переводе, скажем, в ритм, начинает казаться чистым капризом [...] в нем не будет накопления или статики, а будет рваность и бессистемность»[10]. Выходом для Шнитке стало обращение к идее прогрессии, в частности — к ряду простых, или Эратосфеновых, чисел как ее конкретному воплощению (Эратосфенов ряд составляют числа, делящиеся только на самих себя или на единицу). Строгая система высотных и ритмических прогрессий формируется в эти годы и в музыке
[416]
Арво Пярта. Софья Губайдулина обращается к применению чисел Фибоначчи, другой разновидности прогрессии, которая поныне используется ею как организующий принцип.
Конечно, идея прогрессии в то время витала в воздухе, поскольку позволяла внести элемент иерархической артикуляции в «безвоздушное пространство» тотального сериализма, где все было равновесомо, следовательно, в равной степени «неважно». В наиболее целостном и широкомасштабном варианте идея прогрессии была сформулирована Штокхаузеном в его известной теории формантных спектров, охватывающей все параметры звука на основе первичной единицы — акустического колебания. Два тома «Текстов» Штокхаузена, как уже упоминалось, пристально изучали в то время и Шнитке, и Губайдулина, собственная эволюция которых шла в сходном направлении.
Витали в воздухе и другие композиторские идеи, как, например, сонорное сверхмногоголосие. Хронологический приоритет принадлежал здесь Д.Лигети, однако его сочинения 60-х годов достигли советских композиторов с опозданием: информационная замкнутость, хотя и в ослабленном виде, продолжала сказываться. Поэтому микрополифоническое письмо Шнитке и Пярта возникло в это время отнюдь не как освоение чужого успешного опыта, а как результат самостоятельных поисков в некоем общем направлении. Разумеется, в художественном творчестве не так уж и важен формальный приоритет; однако ситуация авангардного изобретательства придавала некоторую остроту подобным проблемам. Прав был Шнитке, заметивший тогда: «Наша отрезанность от зарубежного авангардного рынка создает такое положение, при котором все, что у нас возникает, кажется заимствованным оттуда»[11].
Сверхмногоголосие в его собственных сочинениях возникло на иных, чем у Лигети, основаниях. В оркестровой пьесе «..Pianissimo ...» (1968) микрополифонические наслоения образуются на строгой сериальной основе[12], в противовес чуждающейся рациональной систематичности технике Лигети; кроме того, принципиально отлична от статической композиции Лигети устремленная к кульминации, яркая крещендирующая
форма «...Pianissimo...» Фактурно сходная идея воплощена, в сущности, совершенно по-разному. И «...Pianissimo...», и некоторые другие опусы, такие как 4-я симфония Н.Каретникова или «Эсхатофония» В.Сильвестрова могли уже звучать за рубежом «на равных» с западноевропейской авангардной продукцией, не требуя особого отношения и двойного стандарта.
Но беспристрастные оценки встречались в то время не часто. О настоящей критической реакции на родине не могло быть и речи; западные отклики тоже оказывались сплошь и рядом излишне политизированными. Характерен тон одной из рецензий: «„Солнце инков" советского композитора Эдисона Денисова — сенсация концерта; подумать только — советский музыкант пишет серийную музыку!»[13] Дескать, и крестьянки любить умеют. Наивное изумление, правда, скоро сменилось удовлетворенной констатацией все новых и новых достижений советского авангарда. Впрочем, порой он казался слишком умеренным. Так, о 1-м квартете Шнитке (1966) после исполнения в Нью-Йорке можно было прочитать, что это «сочинение хорошего академиста, который хотел бы культивировать новые идеи без того, чтобы самому быть радикальным»[14]. С другой стороны, авангардный рывок воспринимался иногда как излишне резкий, и некоторые критики отдавали предпочтение более сдержанным вариантам модернизма, как, например, у ленинградских авторов С.Слонимского и Б.Тищенко: «Возможно, что композиторы этого калибра предназначены проложить путь к прогрессу, не порывая с прошлым»[15].
Авангардные идеи вообще имели в советской музыке очень разные градации проявления. Радикальных приверженцев было не так много, и их сочинения с трудом пробивались к исполнению на родине, а некоторые вообще не прозвучали вовремя. Но их влияние сомнению не подлежит. Воздействие оказывала новая интонационность, привнесенная додекафонией, особая проконтролированность и отточенность письма, присущая тотальному сериализму и сонористике. Эти звуковые качества усваивались даже теми композиторами, кто отвергал рациональную сторону новых техник, — например, Шостаковичем. Поэтому советский авангард 60-х годов можно считать осуществившимся стилистическим направлением, невзирая на внешне скромную его судьбу.
Итак, к концу 60-х годов советская музыка, главным образом благодаря авангардному крылу, преодолела свою изоляцию от общеевропейских процессов художественной эволюции. Отныне главные стилистические события разыгрываются почти синхронно в музыке отечественной и зарубежной. Однако это не означает утраты своеобразия.
Ученичество конца 50-х — начала 60-х годов быстро переросло у советских композиторов в самостоятельное развитие авангардных идей, о котором уже шла речь. Однако к концу 60-х стерильная чистота и агрессивность рационализма, присущие тотальному сериализму, уже сдали свои позиции, уступив место разнообразным смешанным системам. Резкая критика авангарда, превратившегося в новый академизм, звучит в это время из уст самих авангардистов. В отфильтрованный музыкальный материал, каждый раз заново выстраиваемый композитором, проникает
[418]
то, что Штокхаузен назвал «предоформленными» элементами. Так устанавливается связь с традицией в широком смысле слова, первоначально в очужденном виде цитаты и коллажа. Возникают попытки симбиоза ранее взаимоисключающих миров, например, аутентичного фольклора и электронных звучаний, как в «Телемузыке» Штокхаузена. Упомянутая выше оркестровая пьеса Шнитке «...Pianissimo...» может служить примером вызревания «предоформленного» элемента в недрах сериальной композиции. В кульминационный момент интервальная прогрессия приводит к октавному «выпрямлению» серии: мощное звучание совершенного консонанса после вязкого двенадцатитонового сверхмногоголосия звучит как резкий драматический контраст, отмечающий высшую точку напряжения в форме. Еще откровеннее действует идея смешанных техник в других произведениях Шнитке второй половины 60-х — начала 70-х годов: во 2-й сонате для скрипки и фортепиано (1968), в 1-й симфонии (1972).
Все это свидетельствует в пользу уже сказанного: авангардные способы письма в их чистом, беспримесном виде, претендующие на универсальность, утрачивают свое значение. Серийный принцип — не исключение. Та же судьба постигла сферу сонористики — художественного исследования феномена музыкального звука.
Надо сказать, что в этой сфере советские композиторы вообще оказались более сдержанны, чем западные. Если развитие идей сериализма протекало в основном «на равных», на авангардной территории, то движение вглубь музыкального звука, освоение спектра шумов, новые способы звукоизвлечения и, шире, новая эстетика звука — все это советский авангард адаптировал лишь частично. Так, практически не появились чисто шумовые композиции, даже в тех случаях, когда использовались одни ударные инструменты, — значительное число таких произведений создала и продолжает создавать С.Губайдулина. Возможно, в этом «отставании» значительную роль сыграла специфическая технологичность данной сферы: электронная музыка, главный оплот сонористических экспериментов, существовала в 60-е годы в СССР в ограниченном масштабе, главным образом вокруг синтезатора АНС работы Е.Мурзина в музее А.Н.Скрябина. Она не имела шансов сколько-нибудь заметно эволюционировать также по причине жесткого официального противодействия. Но, по-видимому, были и внутренние, эстетические основания подобной сдержанности советских композиторов, очевидно, на генетическом уровне связанных с интонационной, вокально-речевой природой музыкального высказывания. Движение «в глубь звука» поэтому адаптировалось в первую очередь как расширение возможностей именно интонационной сферы средствами традиционного инструментария, пусть и не всегда используемого традиционным образом.
Необычная трактовка человеческого голоса и инструмента, часто связанная с театрализацией исполнения, — одна из существенных особенностей музыкального авангарда в целом. Однако кажется, что сама по себе она мало заинтересовала советских композиторов: сочинений, подобных «Секвенциям» Лючано Берио, в советской музыке почти не появилось. Зато налицо стремление «оправдать» необычные звучания почти программным образом. Так. у Губайдулиной непривычные, «неестественные» звуки, издаваемые фаготом, баяном или виолончелью, часто ассоциируются с активной, подчас пугающей жизнью подсознания «героя».
[419]
Эти ассоциации не произвольны, ибо возникают не в любом случае необычного использования инструмента, а лишь в сочинениях, где он имеет отчетливо выраженные свойства «персонажа»: в Концерте для фагота и низких струнных, в «De profundis» для баяна соло, в Партите «Семь слов» для виолончели, баяна и струнного оркестра и в некоторых других произведениях.
Аналогичным образом нетрадиционная, местами деструктивная трактовка скрипки, виолончели и фортепиано в «Драме» Сильвестрова обусловлена философским замыслом опуса, развертывающегося как «драма музыки», как острый диспут о ее судьбе.
В творчестве Шнитке необычное использование инструментов вообще эпизодично (такова, например, фортепианная партия в «Трех стихотворениях Марины Цветаевой»). Зато очень широко им используется микроинтервалика — также одно из «общих мест» авангардного композиторского письма. Издавна существовавшая в вокальном и инструментальном исполнительстве, в XX веке микроинтервалика была осознана как особое измерение звука, позволяющее раздвинуть жесткие рамки темперации, — та область, где высота как бы перетекает в тембр. Как известно, микроинтервалика стала важнейшим элементом сонористики и в одноголосном, и в многоголосном (кластерном), и в электронном варианте. В микроинтервальной дифференциации проявилась характерная тенденция к аналитическому исследованию звука, движению вглубь материального объекта, ранее воспринимавшегося как неразложимая целостность.
Интерпретации этого открытия, естественно, оказалась различными. Для Шнитке актуальна та особенность микроинтервалики, которая нерасторжимо спаяна с энергией субъективного высказывания. В микроинтервальных скольжениях композитор услышал прежде всего речевую экспрессию, стихийность, импровизационную «неотшлифованность» звучания живого человеческого голоса. И не случайно микроинтервалика столь органично соединилась, уже в 70-е годы, с жанром монолога, в особенности с такой его разновидностью, как lamento, плач, как в начальной каденции 3-го скрипичного концерта. Четвертитоновые трели — как бы фиксированная вибрация — усугубляют стонущие опевания
[420]
этого трагедийного соло, где ритуальный пафос проникнут глубоко личностной экспрессией.
Также в редуцированном виде преломилась в советской музыке идея пространственности, одна из важнейших в спектре сонористики. Ее воплощение отечественными композиторами довольно редко бывает связано с реальным физическим разделением планов по типу «Групп» Штокхаузена или, тем более «Терретектора» Ксенакиса. Гораздо чаще и характернее — пространственные эффекты в условиях обычного расположения инструментов, достигаемые специальными тембродинамическими и фактурными приемами (к тому же, не всегда новыми; впрочем, и реальная пространственность, как известно, далеко не нова: здесь можно указать на барочную практику многохорности). Quasi-пространственная артикуляция планов специально культивируется Гией Канчелн (р. 1935), Валентином Сильвестровым и Аветом Тертеряном (1929-1994); для второго из них характерны эффекты искусственной (темброфактурной) реверберации, перекликающиеся с инструментальным стилем Л.Берио зрелого периода.
Область сонористики, темброфактурного письма, возможно, с еще большей остротой, чем додекафония и сериализм, выдвигает проблему интерпретации авангардных идей в советской музыке. Именно в области интерпретации, истолкования решается в конечном итоге важнейший вопрос, касающийся уже не хронологического приоритета и прочих (не столь существенных в искусстве) вещей, но затрагивающий самую сердцевину творчества — проблему качественного своеобразия и глубины художественного высказывания.
Как уже говорилось, авангардный период в советской музыке длился недолго, чуть больше десятилетия. Он не имел и большого размаха — сравнительно скромное число преимущественно молодых композиторов было затронуто поисками новых звучаний и новых техник. Стимулы изобретений и открытий, очевидно, исчерпались во второй половине 60-х годов, когда в музыку авангардных авторов стали все сильнее проникать традиционные элементы самого широкого спектра. Все это, по-видимому, должно было свидетельствовать о слабости, «недопроявленности» авангарда в советской музыке.
Однако и на Западе чистый авангардизм второй волны, то есть послевоенный, просуществовал недолго, те же десять-пятнадцать лет (50-е — начало 60-х годов). Как и классического авангарда начала века, его не хватило даже на одно композиторское поколение. Группа последовательных авангардистов тоже не отличалась многочисленностью. Правда, западные композиторы действовали в других социальных условиях. Творческие поиски любого рода имели почти беспрепятственную возможность реализоваться, сочинения исполнялись и издавались, существовали устойчивые институты, связанные с новой музыкой, — электронные студии, исполнительские коллективы, фестивали, летние курсы, радиопередачи. Даже обычная концертная публика понемногу привыкала к экспериментам (хотя до конца так и не привыкла). Советские композиторы не только не имели подобных возможностей, но и были вынуждены существовать как бы на осадном положении. Зато на их стороне находилась значительная часть образованного общества, интеллигенции, поддерживавшей любые проявления духовной свободы, будь то литература, кино
[421]
или новая, не всегда понятная музыка. В советских условиях такая поддержка в немалой степени компенсировала недостаток официальных институтов.
Очевидно, что авангард как творческое состояние не только не бывает, но и не может быть длительным, как не может долго длиться взрыв. Дальше наступает период адаптации, «встраивания» авангардных изобретений и открытий в существующий культурный опыт, то есть — в традицию. При этом, естественно, смягчаются или вовсе уходят крайности авангарда.
Крайностью был тотальный сериализм с его экспансией рационального расчета. Но сама идея рациональной организации в пределах некоей избранной шкалы продолжает существовать, равно как и принцип серийной матрицы в звуковысотной организации, уже не обязательно двенадцатитоновой, допускающей повторения звуков. Недолго просуществовала и чистая сонористика, редуцировавшая звуковысотные связи к соотношениям регистров, плотностей сонорных конфигураций. Постепенно в тем-брофактурных сгущениях и разрежениях начала рождаться мелодическая интонация — линия из красочного «пятна». Эта новая мелодика не повторяла старую — она несла память о своем происхождении из тембра.
Таким образом, авангардный «взрыв» создал некий резервуар средств и приемов, пригодный для дальнейшего освоения. Оно не замедлило прийти в качестве законного наследника авангарда — семантическое «обживание» добытых авангардом элементов нового музыкального языка, которому пришла пора сделаться речью.
Процесс семантизации приема был повсеместным, но советским композиторам принадлежало в нем особое место. Стремление к осмысленности художественного высказывания, к его всеобщности, к обсуждению экзистенциально важных, «последних» вопросов бытия — типологическая черта русского искусства, восходящая к его классическим образцам. Поэтому процесс смыслового наполнения авангардных изобретений, скрещивания их с традицией протекал у советских композиторов настолько интенсивно, что скоро начал затмевать их собственно авангардные достижения — тем более что совпал со вступлением большинства из них в период зрелости.
В этом аспекте становится понятной позднейшая переоценка авангарда, например, Софьей Губайдулиной, недолюбливающей само это слово за политизированность: «С музыкальной точки зрения, — говорит она о своем поколении, — все мы никакие не авангардисты»[16].
Однако можно ли назвать авангардистом «с музыкальной точки зрения» кого-либо из западных коллег Губайдулиной — имея в виду актуальное состояние творчества? Даже те из них, кто, подобно Ксенакису или Кейджу, остался верен авангардным идиомам и авангардному типу творчества, — даже они создали на этой основе весьма устойчивую традицию. Авангард, ставший традицией, — нонсенс, это уже не авангард, а что-то другое.
Но большинство революционеров 50-60-х годов пережило сходную эволюцию в сторону примирения с теми или иными традиционными модусами музыкального языка. Л.Берио обратился к коллажам, полистилистике и модальности, К.Штокхаузен — к жанру оперы и мелодическому
[422]
письму, Кш.Пендерецкий — к неоромантизму и тоже к традиционным жанрам, Л.Ноно — к фактурно-прозрачной изысканной линеарности.
На этом фоне поворот советских авангардистов к традиционному оказывается частью общей эволюции современной музыки, приобретающей всеобщий характер, во многом независимый от государственных границ. Всеобщий характер присущ и некоторым художественным идеям, разработанным советскими композиторами в период семантизации авангардного опыта и в свою очередь оказавшим воздействие на западную музыкальную культуру.
Само отношение к советской музыке в западной критике начинает меняться. В 70-е годы и позднее произведения советских композиторов, исполняющиеся за рубежом все чаще (особенно оживился этот процесс, начиная с середины 80-х годов) воспринимаются почти без всякого намека на экзотику, нередкого в более ранние времена. Тем более, что сочинения звучат не только в специальных фестивалях, но иногда проникают в филармонические программы, ими начинают интересоваться известные дирижеры и солисты. Меняется сам тон рецензий. Так, впервые исполненная в апреле 1980 года 2-я симфония «St. Florian» Шнитке (оркестр Би-Би-Си под управлением Г.Рождественского) оживленно обсуждалась в прессе; при этом и критические, и хвалебные отзывы констатировали «выдающийся художественный и интеллектуальный масштаб» сочинения, как выразился один из рецензентов[17]. Кроме того, стилистика 2-й симфонии была воспринята как связующее звено между традициями новой западной и русской (Шостакович) музыки. Подобный смысл имело не только это сочинение: в широком значении его можно усмотреть в поставангардной эволюции поколения 60-х годов в целом. Шнитке оказался здесь одним из самых убедительных примеров.
Преодоление стилистической стерильности авангарда, общее для многих композиторов во второй половине 60-х годов, выразилось первоначально в авангардно-радикальном ее нарушении: в резких шокирующих столкновениях материала, получивших наименование полистилистики. Сам термин был пущен в оборот А.Шнитке, выступившим в 1971 году на Международном конгрессе ММС в Москве с докладом на эту тему[18]. Как обычно у Шнитке, теоретическое осмысление шло рука об руку с композиторской практикой. К этому времени им было создано несколько опусов в полистилистическом роде, и он был близок к завершению своего центрального создания этой направленности — 1-й симфонии (1972).
На рубеже 60-х и 70-х годов полистилистика, во всем многообразии своих проявлений, оказалась в центре творческих интересов многих западных композиторов: Штокхаузена, Кагеля, Лигети, Берио, еще раньше — Б.А.Циммермана. В этом же русле эволюционировали советские композиторы, причем, в отличие от додекафонно-сериального периода, хронологически достаточно самостоятельно. Так, Шнитке с полным основанием отрицал возможность прямого влияния Симфонии Берио на концепцию собственной 1-й симфонии[19], равно как и воздействие Айвза. Действительно, концепционное различие в подходе к полистилистике весьма существенно, если сравнить упомянутые сочинения, а также обратиться к другим произведениям подобного рода, например. «Credo» Пярта или «Драме» Сильвестрова. Более того, полистилистика в интерпретации художников разной культурной принадлежности и не может не ока-
[423]
заться различной, поскольку оперирует укорененными в традиционном сознании элементами, типичными именно для данной культуры.
1-я симфония Шнитке сыграла в этом отношении роль этапного для советской музыки произведения. На Западе как крупное художественное явление она была осознана несколько позднее, поскольку попала туда сначала в качестве балетной музыки («Трамвай Желание» по Т.Уильямсу Дж.Ноймайера, поставленный под любительскую фонограмму горьковской премьеры). Полистилистическая техника и философия симфонии не раз уже становилась предметом исследовательской рефлексии[20], поэтому подчеркнем только одно важное свойство этого сочинения. Авангардные черты его внешнего облика (кроме шокирующих стилистических контрастов, достойны упоминания элементы инструментального театра и широкое использование алеаторики разного рода) гармонично существуют в условиях хотя и разомкнутого, но в основных чертах традиционного четырехчастного цикла, с классическими функциями частей, драматически устремленных к финалу. 1-я симфония была настоящим концепционно весомым высказыванием художника-философа, вскоре признанного в этом качестве во всем мире.
Полистилистика раскрыла важнейшую особенность художественного мышления Шнитке, подспудно формировавшуюся в его раннем творчестве— плюралистичность. Заметная на концепционном уровне, она существенна также для «словаря» композитора, в зрелый период отличающегося широтой и многоосновностью. Шнитке удалось интегрировать целый спектр интонационных источников прошлого и настоящего, высокого и низкого, авангардного и традиционного. Многоосновность музыки была осознана им как важнейшая черта современного художественного сознания: «Композитор, как и всякий человек, несет в себе некий музыкальный внутренний мир, который состоит далеко не только из его собственных композиторских идей, чистых, стерильных, — там вся музыкальная субкультура, которую он впитал, и то, что он слышал в детстве, и то, что он слышит каждый день на улице, все это его окружает, все это живет в нем — и все это иерархичное, многоступенчатое музыкальное сознание может стать материалом для работы»[21].
В этом и других подобных высказываниях композитора важна констатация не только пестрой множественности звукового мира композитора, но и утверждение иерархии. Плюрализм трактуется не как самодостаточная идея, а как почва высшего единства, новой центростремительной концепции. В этой особенности ясно проступает классическая ориентация стиля Шнитке. В каждом конкретном случае происходит новая ассимиляция разнородных источников согласно индивидуальному принципу, каждый раз новому и порой неожиданному. В зрелом творчестве Шнитке это свойство, которое можно назвать эвристичностью концепции, проявляется очень ярко: чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить, скажем 1-ю симфонию, кантату «История доктора Иоганна Фауста» и 1-й концерт для виолончели с оркестром.
Все это сообщает музыке Шнитке интеллектуальный блеск, а также особую серьезность и глубину. Композитор не склонен трактовать идею плюрализма в игровом ироническом ключе — здесь он тоже тесно связан с традицией концепционного симфонического высказывания. Именно в этом качестве творчество Шнитке приобрело известность и. со временем,
[424]
популярность на Западе. К концу 80-х годов он становится одним из самых исполняемых современных композиторов в мировом масштабе.
Полистилистика в целом имела довольно широкое распространение в советской музыке, по-видимому, отвечая наилучшим образом потребности в широкомасштабном философском содержании искусства. Эстетическая значительность цитируемого материала или стиля обогащала и конкретизировала содержание произведения (подчас до степени почти литературной программы). Плакатная отчетливость полистилистической идеи присуща, например, небольшой кантате «Credo» Пярта, основанной на до-мажорной прелюдии из I тома «Хорошо темперированного клавира» И.С.Баха. Прелюдия звучит у Пярта полностью, без «материальных» изменений. Но, как справедливо отметил Шнитке, здесь «ноты Баха, а музыка Пярта»[22] — в основном благодаря контексту, в котором баховская музыка превращается в символ сакральной чистоты евангельской заповеди: «А Я говорю вам: „Не противься злому"».
Как глобальная философская идея трактована полистилистика в «Драме» Сильвестрова (1971) — сверхцикле, состоящем из двух сонат, скрипичной и виолончельной, и финального фортепианного трио. Как и в 1-й симфонии Шнитке, полистилистическая и вообще музыкальная конфликтность в «Драме» настолько остра, что она то и дело прорывается во внемузыкальное — в инструментальный театр. Отсюда весьма авангардный внешний облик полистилистики Сильвестрова: — и в «Драме», и в «Медитации» для виолончели с оркестром важнейшую роль играет символика вспыхивающего и гаснущего огня, один из древнейших архетипов человеческой культуры.
Принято считать, что все упомянутые и многие другие, оставшиеся за кадром, полистилистические сочинения советских композиторов трактуют в основном проблемы судьбы культуры перед лицом угрозы уничтожения, нового варварства. Это справедливо. Но не менее важно, что культура выступает в данном случае как метафора жизни, самого человеческого существования перед лицом угнетения и смерти. «Косвенная речь» оказывается в художественном смысле более действенной, нежели прямая проповедь.
Полистилистика, следовательно, вернула советских композиторов в лоно национальной духовной традиции, связанной с «обсуждением» экзистенциальных проблем. Но это не было простым повторением пройденного: языковые новации авангардных времен нашли применение в новых условиях, получили убедительное семантическое истолкование. В этом же направлении двигались и западные композиторы; отечественные мастера обнаружили здесь не только принципиальную самостоятельность, но и заняли во многом первенствующее положение. Во всяком случае, полистилистика как культурологический метод «мышления стилями» закрепилась в мировой современной музыке в качестве индивидуального вклада советских композиторов, в первую очередь Альфреда Шнитке.
Коллажная конфликтная полистилистика в чистом виде просуществовала также не слишком долго. К середине 70-х годов она постепенно сдает свои позиции — как почти всякое броское сильнодействующее сред-
[425]
ство, она не обладала большим запасом прочности. Процесс, который начался в это время в творчестве многих композиторов, можно было бы назвать вслушиванием в цитату, которую уже не хочется воспринимать как простой знак чуждости. Словно бы хотелось спросить: а что там, в цитате и за цитатой, какой смысл она несет сама по себе?
Так в музыке начали складываться явления, названные «новым традиционализмом», неоромантизмом, «новой простотой»[23] и тому подобными терминами. Коллажная полистилистика ретроспективно была оценена как первое предвестие этих тенденций.
Стилистический поворот в той или иной степени пережили практически все композиторы, начинавшие в 50-60-е годы. У некоторых он выглядел более плавным, новое накапливалось постепенно, эволюционным путем. Так, например, в музыке С.Губайдулиной в целом сохраняется приверженность авангардным приемам — ею создан один из самых чистых в советской музыке вариантов сонористического стиля, тембровой композиции. Коллажная волна лишь отчасти затронула ее творчество («Час души» и некоторые другие опусы). Мелодическая интонационность, поначалу неотделимая от серийной двенадцатитоновости, как в финале кантаты «Ночь в Мемфисе» (1968) затем обрела еще одну опору — знаменное пение. Оно звучит у Губайдулиной в качестве цитатного «чужого слова» — например, в пьесе «Descensio» («Сошествие») для камерного ансамбля (1981), но насыщает также авторскую интонационность. Высшее создание Губайдулиной в этом направлении — Концерт для скрипки с оркестром «Offertorium» (1980), отталкивающийся от баховской цитаты, сразу же исчезающей для слуха в водовороте драматического развертывания, и венчающийся редкой по мелодическому вдохновению кодой — хоралом струнных во главе с солирующей скрипкой, свободно претворяющим «бесконечную» вариантную распевность старинных православных мелодий, вкупе с протяжной песней. Таков «новый традиционализм Губайдулиной», сформировавшийся естественным путем, без резких стилистических перепадов, и развитый ею позднее — вплоть до крупных сочинений 90-х годов, таких как «Аллилуйя».
Довольно плавной была в эти годы и эволюция Эдисона Денисова. Приверженец чистого стиля, в противовес плюрализму Шнитке, Денисов к 80-м годам, тем не менее, движется в сторону более широкого жанрово-стилистического спектра. Отрицая полистилистику как метод, он иногда все же допускает в свои сочинения цитаты и стилистические аллюзии. В зрелом творчестве Денисов достигает естественного баланса авангардного по своему происхождению письма и традиционных элементов. Таков целый ряд его сочинений, начиная со второй половины 70-х годов, среди которых можно назвать оперу «Пена дней», балет «Исповедь», Реквием, симфонию и целую череду концертов для различных солирующих инструментов с оркестром[24]. Одной из важнейших особенностей денисовского стиля представляется тонкий сплав сонористического сверхмногоголосия и мелодического письма, благодаря чему музыка Денисова воспринимается как живой, движущийся звуковой объект.
Музыка Денисова, долгое время встречавшая на родине лишь негативное отношение со стороны композиторского официоза, постепенно пробила себе дорогу и была высоко оценена во всем мире, прежде всего во Франции, с которой Денисова связывает особенно тесное духовное
[426]
родство: в известном смысле его можно считать продолжателем французской музыкальной традиции на русской почве. Однако на Западе музыка Денисова, как и Шнитке, воспринимается не как «вообще авангардная», а именно как современная русская. Примечательно в этой связи мнение Булеза: «Для меня Денисов прежде всего очень хороший композитор и очень оригинальный. Его краски и сами его музыкальные мысли иные, чем на Западе. Я нахожу у него, в частности, своего рода русские краски [...] Смотрите, например, музыка говорит с большой выразительностью, однако же не в тоне романтического espressivo. Для меня это как икона. Те же черты встречаются, например, и в некоторых пьесах Стравинского. Я нахожу, что подобная ритуализация есть также и в живописи старых времен»[25].
То, что Булез называет «ритуальностью» музыки Денисова, вероятно, присутствует и в творчестве других современных русских композиторов. Речь здесь может идти о трудно передаваемом словами качестве, о некоем объективном всеобщем начале, в конечном итоге восходящем к литургическому мироощущению и народному искусству. Даже если в музыкальной материи не найти никаких конкретных признаков фольклорных влияний, все равно: народное творчество и, шире, традиционные жизненные ценности пока еще продолжают стоять незыблемым бастионом за спиной советского и постсоветского художника, даже если он этого не осознает. В этом отношении отличие от западноевропейского композитора может быть весьма заметным, хотя и у последнего, конечно, могут присутствовать в творчестве национальные архетипы. Однако чаще
[427]
фольклорное и традиционное искусство находит отражение на Западе в качестве экзотического элемента, принадлежащего, как правило, далекой и чуждой культуре.
Для советских композиторов экзотизм в целом оказался малохарактерным. Зато нередко встречается спонтанная вовлеченность в отечественные фольклорные традиции[26]. Вот, например, свидетельство Г.Канчели: «Я много думаю над тем, как возник наш музыкальный фольклор. И чем теснее мое соприкосновение с ним, тем загадочнее для меня это явление [...] Мне представляется, что шедевры народной полифонии могли возникнуть лишь в результате совместного творчества гениальных людей. Я не принадлежу к людям, которые „свое" ставят превыше всего. Тем не менее считаю грузинскую народную песню явлением абсолютно уникальным. Грузинская народная полифония аналогий не имеет»[27]. Однако Канчели считает для себя невозможным «прикасаться» к этому первозданному материалу — при том, что типологические особенности фольклора, несомненно, присутствуют в его музыке[28]. Для него реален другой путь — продолжение фольклорной традиции на своем языке, свободно впитавшем самые разнообразные влияния, но растущем от того же ствола.
Национальные традиции ощутимы и в творчестве недавно ушедшего Авета Тертеряна. Его музыке не чужды конкретные воздействия фольклора: звучание народных инструментов, характерные жанровые и фактурные типы тематизма. Однако локальные элементы у Тертеряна, как и у Канчели, не экзотичны, они естественно существуют в условиях сонористических массивов и пространственности (у Тертеряна нередко встречается монтаж «живой» и записанной музыки). Тертеряновский синтез фольклорного и авангардного — один из самых впечатляющих в современной музыке.
Не каждому даже крупному художнику дана от природы подобная укорененность. Чаще всего она встречается в культурах, сохранивших архаические черты и ощущение внутреннего единства, как это было до недавнего времени в той же Армении или других странах Закавказья. Но иногда связи с архетипическим могут возникнуть и в менее единых, расслоившихся культурах, например — в русской.
Речь здесь идет не об инкрустации тех или иных фольклорных форм в профессиональное композиторское творчество — на этом, как известно, выросла «новая фольклорная волна» 60-х годов. Это течение сыграло важную роль в осознании композиторами своей почвенности в прямом, конкретном смысле этого слова; не случайно многое в новофольклористском творчестве родилось в результате целенаправленного изучения народного искусства и быта — в научных экспедициях, записях и расшифровках аутентичных образцов. Так утративший память о предшествующих поколениях пытается вновь выстроить свое генеалогическое древо, собирая разрозненные свидетельства и случайно уцелевшие предметы. Но тот, кто живет в родовом доме, выстроенном дедами и прадедами, не нуждается в подобных поисках: память о прошлом сохраняется в семейном предании.
Для Бориса Тищенко изучение народного творчества, предпринятое им в начале пути, послужило не только расширению композиторского кругозора. Оно стало катализатором глубинных свойств индивидуально-
[428]
го стиля, типологически восходящего к фольклору, даже тогда, когда нет речи о прямых «прикосновениях» к нему.
Творчество Тищенко в целом принадлежит русско-европейской традиции симфонизма и опирается на диалектическое процессуальное «обсуждение» неких основополагающих, первичных сущностей[29]. Общеизвестны преемственные связи его стиля с творчеством Шостаковича, крупнейшего симфониста-диалектика современности. Однако индивидуальность Тищенко обусловливает несколько иной, чем у Шостаковича, тип развертывания, отличающийся и от западноевропейской симфонической традиции в целом: стихийно-импровизационное — мелодическое в основе — становление, где исходным моментом служит интервал-атом, чаще всего один звук, очень постепенно разрастающийся подобно живому организму. Основой этого роста становится вариантный метод, типологически восходящий к русской протяжной песне. Но, в отличие от фольклора, вариантность у Тищенко при всей своей спонтанности имеет четкую драматургическую направленность. Недаром его крупные композиции, такие как 3-я симфония (1966) или 1-й концерт для виолончели, семнадцати духовых, ударных и фисгармонии (1963), представляют собой яркие образцы волнообразной драматургии: очень напряженное стадиальное нарастание к кульминационной зоне и затем постепенный откат-изживание, совершающийся, по законам драмы, гораздо быстрее, чем восхождение. Сложившийся в раннем творчестве как-то без усилий, словно подаренный от природы, этот тип композиции плодотворно развивается им и в последующие десятилетия.
Логике интонационного развертывания подчинены у Тищенко встречающиеся у него приемы фиксированной алеаторики (особенно в кульминациях, решенных очень часто как алеаторические зоны), а также серийная организация звуковысотности, также существенная для его раннего творчества (один из возможных примеров — Реквием на стихи А.Ахматовой). Примечательна и ритмика Тищенко, опирающаяся на идею прогрессии, но как целое очень индивидуальная[30].
Подобный разброс стилистики — от протяжной песни до серийности — может навести на мысль об эклектическом смешении. Однако это не так: стиль Тищенко на редкость целен, ибо монологичен. Генетическая связь с русской фольклорной и профессиональной традицией (протяжная песня и Шостакович) настолько естественна и сильна, что допускает самые разнообразные «прививки», будь то техника западного авангарда или экзотика японского гагаку, увлекшая композитора в 70-е годы.
Синтез, созданный Тищенко, представляется очень перспективным не только в местном, но и в общеевропейском масштабе, благодаря довольно редкому сочетанию непосредственной новизны и не менее непосредственной почвенности.
Индивидуальные варианты синтеза создали и другие композиторы поколения 50-х. Например, Сергей Слонимский, долгое время изучавший фольклор северо-западных русских областей, сумел услышать общность нетемперированного строя народного пения и авангардных микроинтервальных систем, а также скрестить народную импровизацию и алеаторику (например, в квартете «Антифоны», 1968). Стилистическая открытость вообще присуща творчеству Слонимского; интересы композитора кажутся в этой сфере практически безграничными. Здесь и древнейшие культу-
[429]
ры (иногда реконструируемые, «воображаемые»), и музыка трубадуров, и русская классика, и романтический симфонизм, и современная массовая культура. Синтез у Слонимского основан на идее стилистического «театра», выражающего самую сущность дарования композитора.
Театральность в очень значительной степени присуща творчеству Родиона Щедрина, также много способствовавшего формированию современного русского стиля. Русский звуковой мир в его музыке универсален: колокольность, православные жанры, частушка, плач, протяжная песня, духовный стих. Блестящий мастер, Щедрин с успехом примиряет в своем творчестве традиционно-фольклорное начало и авангардные приемы, добиваясь в результате свежести и пикантности звучания. На этом пути у композитора немало достижений; специального упоминания заслуживают хоры из оперы «Мертвые души», с их замечательной народной гетерофонией, которая то и дело оборачивается диссонантной атональной линеарностью.
Все эти примеры, равно как и другие, возможные в данном контексте, свидетельствуют о пока не исчерпанных и, возможно, в обозримом будущем неисчерпаемых ресурсах обновления, которые таит в себе отечественная музыка — и фольклорная, и профессиональная ее ветвь. Качество национального своеобразия советской и постсоветской музыки до сих пор является одним из важнейших ее свойств, высоко ценимых и на Западе. Национальное своеобразие, разумеется, не сводится к фольклорным влияниям, о которых только что шла речь. По своему происхождению и сущности оно значительно шире. О такой широкой преемственности говорил Шнитке: «Я думаю, что можно говорить о существовании традиции советской музыкальной классики [...] Нам это менее заметно, но извне видится лучше. Обычная неожиданность: где-нибудь за границей слушают музыку — как нам кажется, абсолютно новую — и говорят: это русская музыка. Они слышат в ней и русское начало, и Шостаковича, и Прокофьева, они все это каким-то образом слышат»[31].
Традиционное начало, окрепшее в советской музыке к началу 80-х годов, имело разные формы проявления. Здесь в полной мере сказались законы избирательного сродства.
Как уже говорилось, некоторые композиторы авангардной или частично авангардной ориентации эволюционировали в традиционную сторону довольно плавно. У других перемена оказалась более заметной, вплоть до резкого стилистического поворота, совершенного с истинно авангардной решительностью.
В творчестве Шнитке перемену обозначил Реквием (1975), написанный в простой мелодической манере, синтезировавшей довольно широкий круг прототипов (от Моцарта до Пендерецкого и рок-музыки), но не в коллажно-конфликтной манере, а под знаком своеобразного стилистического примирения. Столкновение «своего» и «чужого», выявляющее их несовместимость, уступило место тонкому взаимодействию, как бы вслушиванию стилей друг в друга. Хотя прозрачное письмо Реквиема осталось исключением в творчестве Шнитке, без этого сочинения вряд ли бы оказались возможными последовавшие затем опусы. Коллажная полисти-
[430]
листика еще появлялась в них, порой в весьма впечатляющем виде («История доктора Иоганна Фауста», 1983), однако на первом плане оказалось взаимодействие и взаимовлияние разнородных элементов в русле большой симфонической концепции позднеромантического типа. Романтический комплекс вообще выступает у позднего Шнитке на первый план, и на Западе, где творчество композитора приобрело значительную известность, его музыка в 80-90-е годы воспринимается в русле неотрадиционализма широкого плана.
В творческой эволюции коллег Шнитке тоже встречаются сочинения, подобные его Реквиему, обозначившие некий стилистический полюс притяжения. У Сильвестрова это вокальный цикл «Тихие песни» (1974-1977), у Щедрина — камерно-инструментальное «Музыкальное приношение» (1983). И то, и другое сочинение абсолютно несходных друг с другом композиторов были восприняты как стилистическая декларация, в которой автор словно бы заявлял о решительной творческой переориентации. Как и Реквием у Шнитке, эти опусы остались единичными в своем радикализме, в том числе и временном (и «Тихие песни», и «Музыкальное приношение» выходят за конвенциональные рамки традиционного концерта). Однако они ясно обозначили направление творческих интересов обоих авторов.
Сами направления оказались при этом совершенно различными. «Музыкальное приношение» обнаружило стремление Щедрина писать «абсолютную» музыку в барочно-классическом смысле слова, развертывающуюся в абстрактном интонационном пространстве как совершенная архитектурная конструкция. «Тихие песни» возникли как утопическое погружение в мир классического романса XIX века, воспринятого целостно, в качестве свершившегося культурного феномена.
Оба произведения имели следствием стилистическую переориентацию, особенно заметную у Сильвестрова. После «Тихих песен» в его музыке формируется оригинальный род симфонической поэмной композиции (иногда с солирующим инструментом), опирающейся на романтические архетипы[32].
Наконец, самую резкую и драматическую перемену стилистического порядка пережил на рубеже 60-70-х годов Арво Пярт. Один из самых блестящих и последовательных приверженцев авангардных техник, первым схватывавший и выражавший самую суть нового приема, Пярт на несколько лет вообще отказался от сочинения, уйдя в кропотливое изучение музыки средневековья и Ренессанса. В результате явился на свет глубоко индивидуальный вариант «новой простоты» — строгое диатоническое письмо и ритмика, подобная мензуральной, подчиненная литургическому слову. Это «бегство в добровольную бедность», как позднее выразился сам композитор, раскрыло неожиданные возможности аскетического самоограничения.
Нетрудно увидеть в этом реакцию на авангардное изобретательство и, шире, на безудержную экспансию прогресса и построенную на нем европейскую цивилизацию. То, что бездумный прогрессизм ведет в тупик, человечество начинает осознавать все отчетливее. «Добровольную бедность» Пярта можно оценивать и в этом — более широком — аспекте.
Хотя в западной музыке трудно найти прямую аналогию пяртовскому «строгому стилю», и хотя неоромантизм Сильвестрова не очень
[431]
похож на западноевропейский неоромантизм, само направление эволюции крупнейших композиторов из бывшего Советского Союза полностью отвечает общемировым процессам. Более того, радикализм нового традиционализма может в какой-то степени оказаться ориентиром для западных композиторов, пусть даже конкретные формы этого радикализма не всегда отвечают их вкусу. Авангардная природа творчества, сильнее выраженная на Западе, чем на отечественной музыкальной почве, иногда не позволяет принять новый романтизм или «добровольную бедность», в которых не слышат новизны — подобно тому как раньше в авангарде не слышали традиции. Но сама включенность отечественных композиторов в общеевропейские художественные процессы не подлежит сомнению: это свершившийся факт, и вернуться к прежней изоляции естественным, а не насильственным путем в обозримом будущем уже вряд ли удастся.
Почти полувековой промежуток времени, отделяющий конец века от рубежа 50-х и 60-х годов, когда впервые заявило о себе новое композиторское поколение, позволяет взглянуть на его деятельность в исторической перспективе. Можно сказать с большой долей уверенности, что это была самая яркая за всю историю советской музыки генерация — если оценивать тот вклад, которым ей обязана история отечественного искусства. Композиторы 60-х достойно сменили великих классиков, Прокофьева и Шостаковича, напомнив ослепительным взрывом новаторства об их молодости и собственном начале пути. Не утратив почвы традиции, новое поколение сумело преодолеть ее ограниченность обращением к открытиям зарубежной музыки. В кратчайший срок, буквально за несколько лет, советские музыканты овладели целым арсеналом авангардной композиторской техники, быстро пройдя этап ученичества и превратившись в самостоятельно мыслящих интерпретаторов авангардных идей. С этого времени можно говорить о равноправном положении советской музыки на международной художественной арене, о ее «конкурентоспособности».
Соединение мощных отечественных традиций и западного художественного опыта дало беспримерные творческие результаты, не ограничивающиеся пределами бывшего СССР. Семантическая активность советской музыкальной традиции послужила своеобразной лакмусовой бумагой для авангардных изобретений и открытий — в конечном итоге ею усваивалось лишь то, что было действительно жизнеспособно. Ситуация равноправия с западной музыкой, сложившаяся благодаря талантам нового поколения, укреплялась перерабатыванием нового в русле традиционного, «встраиванием» авангарда в систему устойчивых музыкальных ценностей. Все это сделало возможным и обратное влияние отечественной музыки на зарубежную — процесс, который еще ждет специального и тщательного изучения.
Опубл.: Русская музыка и ХХ век / Редактор-составитель М. Арановский. М., 1997. С. 407-432.
размещено 23.04.2008
--------------------------------------------------------------------------------
[1] О «Musica stricta» и других сочинениях Волконского см.: Холопов Ю Инициатор: О жизни и музыке Андрея Волконского // Музыка из бывшего СССР. М.,1994. С. 10.
[2] Цит. по: Холопов Ю. Указ. соч. С. 12.
[3] О Гершковиче см.: Филипп Гершкович. О музыке. Статьи, заметки, письма, воспоминания. М., 1991, а также: Холопов Ю. В поисках утраченной сущности музыки: Филипп Гершкович // Музыка из бывшего СССР (цит. изд.).
[4] Примерами могут служить статья Э.Денисова «Вариации ор.27 для фортепиано А.Веберна», опубликованная в его авторском сборнике «Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники» (М., 1986), а также доклад А.Шнитке о композиторской технике К.Штокхаузена, прочитанный в Московской консерватории 7 мая 1970 года.
[5] Единственное специальное исследование новой советской музыки принадлежит Вацлаву Кучере и вышло в Праге в 1967 году.
[6] См.: Тараканов М. Творчество Р.Щедрина. М., 1980; Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. М.. 1990: Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. М., 1993.
[7] См.: Холопов Ю., Ценова В. Цит. монография. С.84.
[8] Там же.
[9] См. авторский комментарий в изд.: Шульгин Д.И. Годы неизвестности Альфреда Шнитке. М., 1993. С.38-39.
[10] Там же. С.63.
[11] Там же. С. 26.
[12] См. описание композиции в указанной монографии В.Холоповой и Е.Чигаревой (с.317-319).
[13] Цит. по: Холопов Ю, Ценова В. Указ. монография. С.22.
[14] Цит. по: Schwarz Boris. Musik und Musikleben in der Sowjelunion 1917 bis zur Gegenwart. Wilhelmshaven: Heinrichshofen"s Verlag, 1982. S.777.
[15] Op. cit. S. 742.
[16] Цит. по: Schulze Brigitte. Fremd bin ich eingezogen. Musikkultur der GUS-Staaten im AusverkaufV/NZfM, 1993, Mai. S.38.
[17] Обзор английской прессы по поводу премьеры см.: Schwarz Boris. Op.cit. S.992-995.
[18] Полностью впервые опубликован: Музыка в СССР, 1988, апрель — июнь. С. 22-24.
[19] «[...] я услышал ее в 1969 году. Моя симфония была в это время по форме готова, и ее полистилистическая смесь, следовательно, задумана до моего знакомства с симфонией Берио [...]. На мой взгляд, какой-то параллелизм внешний есть, но концепционное различие очень большое» (Цит. по: Шульгин Д.И. Цит. соч. С.26).
[20] О 1-й симфонии Шнитке (в частности, в связи с Симфонией Берио) см.: Арановский М.Г. Симфонические искания. Л.. 1979.
[21] Из выступления Шнитке на авторском вечере в ВДК 13 декабря 1984 года (Московский музыкальный клуб).
[22] Шнитке А. Полистилистические тенденции современной музыки (цит. по: Ивашкин А. Беседы с Альфредом Шнитке. М., 1994. С. 144).
[23] Термин пришел с Запада и не связан с известным выражением С.Прокофьева.
[24] Подробнее см. вышеуказанную монографию Ю.Холопова и В.Ценовой (гл.IV).
[25] Там же. С. 184 185.
[26] Данная проблематика обстоятельно исследована Г.Головинским в книге «Композитор и фольклор» (М., 1981).
[27] Новая жизнь традиций в советской музыке: Статьи, интервью. М., 1989. С.352-353.
[28] См.: Зейфас Н. Песнопения. М., 1993.
[29] О творчестве Б.Тищенко существует довольно значительное число публикаций. См.: Кац Б. О музыке Бориса Тищенко. Л., 1986 (там же — библиография).
[30] См.: Холопова В. Борис Тищенко: рельефы спонтанности на фоне рационализма // Музыка из бывшего СССР (указ.изд.).
[31] Новая жизнь традиций в советской музыке (указ. изд.). С. 345.
[32] Подробнее см.: Савенко С. Рукотворный космос Валентина Сильвестрова // Музыка из бывшего СССР (указ. изд.).
А. ЛУНАЧАРСКИЙ Основы художественного образования
[24]
Часто возникают сомнения относительно того, оценивают ли современное государство и новая революционная общественность искусство как такую общественную функцию, ради которой стоит затрачивать средства, на которую стоит направлять силы?
Разумеется, некоторый скептицизм в этом отношении возник, прежде всего, по причине поистине нищенской постановки нашего художественного образования. Весьма мало за последнее время был заметен прогресс в смысле материальной заботы о нем; наоборот, пожалуй, художественное образование терпело некоторый ущерб по мере продвижения строгой, скуповатой экономии во всех государственных расходах. Но все-таки этот скептицизм неоснователен, и чем больше жизнь будет успокаиваться и чем большее место будет занимать у нас мирное культурное строительство (а этот процесс неуклонно развертывается на наших глазах) — тем большее место в реальном, конкретном культурном строительстве наших дней займет и искусство в лице своих старых служителей и в лице нового поколения, которое уже начинает давать первых мастеров и подмастерьев, и тем скорее отпадут всякие преграды и предрассудки и сделается яснее, насколько наша художественная культура важна советскому государству и насколько оно опирается на нее. Терять много слов по этому поводу я не думаю. Перечислю просто, как нам рисуются главнейшие задачи самого искусства как общественного явления с точки зрения нашего государственного культурного строительства. Именно это дает основную целевую установку для нашего художественного образования.
[25]
Очень много в последнее время говорят о так называемом производственном искусстве, и, конечно, это одна из его бросающихся в глаза функций. Мы должны построить новый быт. Новый быт предполагает новую вещную обстановку. Вся эта вещная обстановка — даже та, которая имеет в человеческом культурном укладе чисто утилитарный, в узком смысле слова, характер,— стремится к выявлению эстетических форм, радующих человека. Тем более это верно относительно той вещной обстановки, которая искони имела не узко утилитарное значение, но значение материальной среды, которую сам человек создает для себя в своей жизни и которая, по самому своему заданию и смыслу своего существования, должна стремиться быть разумной и радостной. Естественно поэтому, что мы будем производить вещи, преисполненные художественного достоинства; вещь художественная есть вещь, дающая максимальную радость человеку.
Здесь искусству открывается огромный горизонт. По всей вероятности, стиль, который выработается постепенно в нашей общественности, будет отличаться от тех стилей изящества и роскоши в разных преломлениях, которые создал буржуазный мир; но ничто не может нас заставить хоть одну минуту думать, что это будет какой-нибудь пуританский, строго утилитарный стиль. Устремление к радостной жизни — исконное чувство нашего пролетарского движения, и оно, конечно, стремится пропитать им и всю нашу новую культуру.
Само собой разумеется, мы ни в коем случае не можем остановиться только на одной задаче искусства — на создании жилища, инвентаря, мебели, одежды и всевозможных предметов обихода (что я отношу к области производственного искусства). Искусство играет огромную роль в нашей идеологии. Само слово идеология, как я его только что употребил, иногда вызывает некоторые сомнения, так как Энгельс, например, это слово употреблял для обозначения того искривления фактической действительности, которое люди создают — сознательно или бессознательно,— отражая в своем сознании действительность, и которое потом служит для них орудием борьбы за свои цели и интересы. Действительно, всякое искривленное общество, классовое общество, которое не умеет и не хочет поставить перед собой прямо вопрос о наивысшем благе для всех, а ставит этот вопрос прелом-
[26]
ленным сквозь искусственную и ложную призму паразитических господствующих классов, — всякое такое общество непременно должно быть устремлено к идеологии, искажающей действительность. Но у нас нет слова более подходящего, чем идеология, для обозначения также и пролетарского мышления. Только надо знать при этом, что пролетарское мышление об обществе и мире есть мышление класса, интересы которого совпадают с интересами всего человечества, что сознательный пролетарский ученый и сознательный пролетарский художник, пролетарский идеолог вообще есть одновременно и страстный адепт интересов своего класса и страстный правдолюбец, потому что интересы эти совпадают с интересами всего человечества. Историческое творчество рабочего класса, ведущего свою боевую работу, борющегося с эксплуататорскими классами и создающего постепенно новое, бесклассовое, общество, ставит гигантские задачи специалистам-идеологам, то есть художникам и ученым.
А. К. Воронский[1] недавно старался свести искусство почти целиком к познанию. Но конечно, художественное познавание через образы, через типы, через художественное обобщение не только в громадной степени помогает осознавать свой класс, весь окружающий человеческий мир и природу, но является даже необходимым элементом такого познания. Класс, не познавший себя и всего окружающего художественно, не есть еще вполне завершенный, сознательный класс, хотя, конечно, было бы в высокой степени неверно употреблять такое выражение, например, какое мы встречаем в работе нашего молодого товарища Федорова-Давыдова[2]: он говорит, что класс нельзя назвать классом, если он не имеет своего искусства. Это требование слишком строго, и здесь палка слишком перегнута в сторону, противоположную тем
[27]
товарищам, которые говорят, что пролетариат в период борьбы вообще не может иметь своего искусства.
Но если этот момент познания необходим, то все же никак нельзя сводить искусство только к процессу самопознания и познания окружающего.
Искусство относится не только к области информации, оно есть вместе с тем активная сила. Конечно, и информация имеет воспитательное значение — для себя и по отношению к другим классам. Но ведь сила искусства того или другого класса всегда доводит до высшей степени утверждение основных принципов его культуры, а вместе с тем борется, иногда побеждает, претворяет, приспособляет психологию окружающих классов, враждебных, дружественных или подвластных. И в этом заключается его чрезвычайно важная историческая миссия.
Поэтому искусство не только служит орудием познания, но и организует идеи и, в особенности, эмоции. Организует через посредство образов (также через посредство музыкальных идей). Организует эмоции как боевую силу, как воспитательную силу.
Глубокое замечание Толстого, что всякий художник, в сущности говоря, заражает своим настроением окружающих— или, скажем образно, не претендуя на научную точность, что он проводит в нервно-мозговую систему окружающих тот же ритм, каким живет его собственный организм,— относится как к отдельному художнику, так и к классу. Класс точно так же создает мощные вибраторы. Эти мощные вибраторы, как могучая волна, начинают обнимать всё и заставляют звучать все сердечные и умственные струны у окружающих на тот же самый лад, создавая не какой-нибудь бедный унисон, а необыкновенно сложный гармонический аккорд; и чем больше в таком гармоническом аккорде проводится в общество искусство данного господствующего класса, тем больше мы можем говорить об определенной культуре и стиле. Там, где нет такого созвучания, там нет стиля, там нет культуры,— в сущности говоря, там нет почти и общества. Вот почему, хотя в буржуазной культуре и достигнута высокая стадия техники, но самими же буржуазными мыслителями часто выдвигается правильная мысль о том, что буржуазный строй есть строй варварский и менее культурный, чем некоторые бывшие до него общественные уклады.
[28]
Вот таковы задачи искусства в общих чертах. Они огромны. Отрицать их — значит не понимать основных законов культурного пролетарского строительства.
Какие же нам нужны художники? Кого мы должны из нашей молодежи воспитать?
Я начну с самой важной, хотя и наиболее индивидуальной постановки этого вопроса,— именно, с вопроса о художниках-творцах и виртуозах.
Является в высокой степени неправильным, и даже прямым уклонением в ересь, с точки зрения коммунизма, утверждение, что мы вступаем в период массовой жизни в том смысле, что всё мы будем делать толпой, что мы вступаем в коллективную жизнь в том смысле, что коллектив сам, как комплекс индивидуумов, заменит собой мастера. Владимир Ильич в области политики боролся с крайним напряжением против этой ереси. Эта ересь нашла в нашей политической жизни полное выражение в теории немецкой так называемой «Рабочей коммунистической партии», которая заявляет, что мы покончили с партиями и вождями, нам их не нужно, нам нужна самосознательная масса как таковая. Это, конечно, совершенно неверно. Кипучая эпоха истории, которая теперь перед нами открывается, будет чревата необыкновенно великими людьми; первых из них мы уже схоронили. Это будет так именно потому, что (как Владимир Ильич гениально предусматривал и учил) организованный коллектив есть коллектив, выдвигающий свой штаб.
Слабый, рыхлый коллектив может воспитывать своих членов как толпу, не замечая, не умея заметить среди них наиболее талантливые единицы, не умея поставить их в такое положение, чтобы они представляли сильное орудие этого самого коллектива.
Тут есть две противоположные тенденции, которых избегает всякий подлинный коллектив. Одна — когда наиболее индивидуально талантливые, поднимающиеся из среды коллектива люди отрываются от него, и, разрастаясь в общественном организме, превращаются как бы в раковую опухоль; тогда такого рода индивидуалисты представляют собой паразитическое и в высшей степени вредное явление. В буржуазном коллективе индивидуализм этот встречается на всяком шагу, всякое выделение наиболее талантливых есть вместе с тем, в сущности, процесс распада.
[29]
Другая крайность — это первобытная безликая коллективность, когда каждый, кто творит или мыслит, делает это не намеренно. Если вы вспомните выставку крестьянского искусства, которая была недавно в Историческом музее, то увидите, что ни один художник не смотрит, как выглядит лошадь или человек; традиционный художник-крестьянин не интересуется этим — он пишет какой-то знак лошади или человека, который установился в его среде испокон веков, и пользуется только этим знаком, почти совершенно его не варьируя, отчего получается стилизованное, массовидное, безликое искусство, достигающее часто совершенства в своем роде, но не развивающееся и не выделяющее из своей среды творческих индивидуальностей.
Наш коллектив отличается тем, что он — организованный, сознающий себя коллектив, что он использует до конца каждое дарование отдельных индивидуальностей.
В пределе, так сказать, в идеале мы будем иметь такой коллектив, в котором каждый индивидуализирован и каждый дает коллективу все, на что он способен, беря от него все то, что ему нужно; ведь и теперь всякому ясно, что если великий музыкант заболел, то он будет искать хорошего врача, а если хорошему врачу захочется послушать хорошую музыку, то он пойдет на концерт этого музыканта. В идеале, в пределе каждый будет талантлив в своем роде. А сейчас мы можем сказать так: мы нуждаемся и будем нуждаться в индивидуальных организаторах, но — согласно диалектике развития настоящего, подлинного коллектива — сознание этих организаторов должно быть пропитано соками коллектива, они ни в каком случае не должны впадать в противоречие с ним, они будут выразителями того, что созревает в этом коллективе, организаторами, указывающими пути,— потому что всё, чем живут отдельные члены коллектива, наиболее талантливыми и наиболее подготовленными членами этого коллектива будет проводиться через свое сознание, а потом, в конденсированном виде, уяснится всем остальным членам коллектива.
И в политической области мы отнюдь не отрицаем — и были бы последними идиотами, если бы отрицали — руководящую роль Ленина. Разумеется, то же самое и в еще большей мере верно относительно искусства: творец,
[30]
композитор (в широком смысле слова), виртуоз (тоже в широчайшем смысле слова)—это абсолютно необходимые элементы всякого высокого искусства. Как бы ни был поднят общий уровень образования, масса всегда окажется опереженной в своей средней линии наиболее даровитыми индивидуальностями. И это очень хорошо. Очень хорошо потому, что мы никогда не будем иметь застывшего искусства, а всегда будем высылать пионеров и авангард и, таким образом, двигаться вперед. А пионерами, авангардом могут быть только люди одаренные в области искусства, ибо каждое искусство имеет особенные предпосылки, во многом физиологического характера. И поэтому прирожденная даровитость является основным условием, вне которого правильное развитие искусства невозможно.
Наше высшее художественное образование должно быть устремлено на то, чтобы создавать педагогическую среду для наиболее талантливых творцов и виртуозов. Под виртуозом я имею в виду не слово, употребленное в отрицательном смысле, то есть человека, который внешней техникой заслоняет свою внутреннюю пустоту, а обозначаю словом «виртуоз» артиста огромной мощи в смысле впечатления, которое он производит на воспринимающую его среду (таково понимание этого термина и Б. Л. Яворским). Но не меньшей задачей является, конечно, общий подъем художественного уровня масс. Даже можно сказать: гениальная фигура сама по себе не является самоцелью. Самый гениальный человек, если его переселим на Луну, на необитаемый остров, потеряет всякий смысл; если он и напишет целый ряд картин, создаст целый ряд симфоний, но убедится, что никто никогда их не увидит и не услышит, он повесится или утопится с отчаяния, потому что художественное произведение не есть то, что написано на полотне или начертано на бумаге, не есть звучание струн или меди. Художественные произведения— это глубочайшие, тончайшие, интереснейшие вибрации, которые происходят в живых человеческих организмах, которые отражают и в известном направлении организуют сознание; это те переживания, которые оставляют известный след в так называемой духовной жизни (конечно, я пользуюсь этим термином, не предполагая какую-нибудь особую субстанцию), обусловливают ее усложнение, усугубление, рост.
[31]
II поэтому художник, как бы он от этого ни отнекивался (а в период индивидуалистического распада такие отнекивания встречаются), всегда, когда он творит, своим внутренним оком видит перед собою сотни, тысячи и миллионы людей своего поколения и грядущих поколений, в которых начавшаяся, зародившаяся в нем мысль развернется в нечто колоссальное.
Я говорю, что с этой точки зрения воспитание виртуоза и композитора не является самоцелью. Окончательной целью является создание культурного общества, то есть такого народа, такого человечества, которые являются необыкновенно благодарным резонатором для каждого подлинного произведения искусства, которые являются богатой почвой, где каждое брошенное нами семя даст необыкновенно пышный плод, где братское общение между всеми собратьями по творчески-человеческой деятельности приобретет характер необычайно напряженного и блестящего бытия. Вот это есть настоящая, подлинная культурная задача, которую ставит себе коммунизм. Может быть, покажется несколько парадоксальным такое выражение: общее дело коммунизма состоит не в уничтожении аристократии, а в превращении всего человечества в своего рода аристократию. Для того, чтобы достигнуть этой цели, необходимо широчайшее культурное в о с п и т а н и е м а с с.
Тут мы имеем целый ряд ступеней. Очень часто можно совершить большую ошибку, признавая те ступени, на которых стоит творец высших из форм, присущих буржуазной среде, буржуазной архикультуре, окончательными и недосягаемо прекрасными.
Думаю, что для художника подлинная нелепость — относиться с жалостливым презрением к массам с этой точки зрения и только учить их своему языку. Подобное отношение неправильно. Масса имеет в себе колоссальный потенциальный заряд, который и теперь в некоторых случаях настолько превышает буржуазную культуру, что никакого сравнения между ними не может быть. Вот почему эта работа по опоре на творчески воспринимающую общественные знания массу человечества представляет собой не только, так сказать, процесс культуртрегерства, а глубочайшей значительности процесс, в котором индивидуальность композитора, виртуоза или высокосозна-
[32]
тельного педагога и воспитывается, и сама воспитывает. Поэтому процесс соприкосновения с массами в клубе, в школе, вплоть до самых простейших форм инструктажам педагогики, представляет собой столь же важную, может быть, даже более важную задачу, чем задача воспитания блестящего даровитого индивидуума. То и другое должно непременно соответствовать центральной общей основной идее — подъему всего человечества на новые культурные высоты.
Я совсем не буду останавливаться на предрассудке, будто таланты не могут воспитываться. Только в нашей злосчастной области — литературе (я называю «нашей», потому что я к ней более принадлежу, чем к другой какой-либо) эта возможность подвергалась сомнению, которое лишь теперь рассеялось. Начали понимать, что «чистое кустарничество» и в области литературы есть явление случайное и что, конечно, и здесь, как во всякой деятельности, необходимы серьезная подготовка и серьезное образование. Трудность усвоения техники в музыке и живописи такова, что никому никогда в голову не приходило, что можно быть живописцем или музыкантом, не учившись, без специального образования. Это только писательская братия полагала, что в школе их могут лишь испортить, что они самородки и прямо из себя должны давать свое нутро.
Но каким методом надо вести преподавание для исключительно одаренных индивидуальностей и для руководителей общественно-культурной работы, художественно-просветительной и творческой одновременно?
Конечно, довольно трудно на это ответить. Я не могу сказать, чтобы меня удовлетворяло все, что в этом отношении имеется и делается; я не знаю, как лучше сделать, не могу сказать: «вот это хорошо, а это хуже; есть торная дорога, хопошие методы, а вы блуждаете по каким-то тропам». Но всем должно быть ясно, что буржуазная культура (пролетарская у нас еще не выработалась) не нашла методов вполне приемлемых.
Наиболее благополучно обстоит дело в области музыки. Я не буду вдаваться во все, что можно было бы назвать социальной философией нашей современной музыки, но отмечу очень характерное явление: музыка сама основалась на том, чтобы отобрать себе из мира звучаний некоторое количество элементов наиболее пригодных,
[33]
которые, при естественном ходе развития человеческого слуха, составляют элементы, наиболее ритмически приемлемые для человеческих нервов. Затем произведена была рационализация этого материала. Конечно, этот процесс сложен и полон любопытных случайных отклонений. Недавняя книга Вебера[3] дает богатый материал о том, каким образом чистая рационализация музыкального мира нарушалась внешними явлениями. Я сейчас не буду на этом останавливаться. Музыкальный материал, который сам по себе уже выбран, как более или менее чистый и взаимно согласованный, может быть подвергнут рационализации, почти математической обработке, вследствие чего и получилась музыкальная система, во многих отношениях напоминающая науку; она даже имеет нечто родственное с математикой. Этим я и объясняю тот факт, что у нас здесь дело обстоит гораздо благополучнее, чем, например, с изобразительными искусствами: есть наука о музыке, есть музыкальная педагогика, довольно прочно обоснованная. Конечно, как и всё на свете, она относительна; она уже колеблется; есть такие Самсоны, которые, ухватившись за колонны храма, хотят его разрушить. Удастся ли этот храм разрушить, я не знаю, но что некоторое его содрогание чувствуется — это не подлежит никакому сомнению. Так, в нашей консерватории оказалось три (три!) отдельные теории[4], очень интересные, так что студенты не соглашаются изучать только одну из них, думая, что они упустят тогда две другие части истины, а на все три нет времени. И в этом мы уже встречаем признак таких внутренних колебаний. Подобного рода явление мы можем иногда отметить и в точных науках, в которых тоже могут быть разные подходы. Возьмем, например, физику и все прилегающие к ней дисциплины; они глубочайшим образом потрясены теорией относительности. Физики делятся на приемлющих и не приемлющих теорию относительности. Поэтому непризнание незыблемости музыкальной науки не обидит музыкантов...
[34]
Мы наталкиваемся на большие трудности при строгом проведении тех реформ музыкального воспитания, которые не отходят в общем от основных, принятых нами принципов преподавания вообще. Мы точно разделяем теперь и в музыке низшее, среднее и высшее образование[5]. Отчасти сама консерватория в связи с этим упорядочила и расширила свою программу. Но, может быть рядом с большим добром, которое получилось в результате преобразований, есть и некоторые ущербы. Задача состоит в том, чтобы воспитать культурного художника во всеоружии знания культурной действительности. Кроме глубочайших технических знаний по своему делу, кроме прекрасного знания истории достижений в своей области, он еще должен быть раскрыт для всего человеческого путем общего образования. Но такого рода программа становится непосильной. Я думаю, что она невозможна в наших учебных заведениях. Может быть, в конце концов консерватории выберут самое важное, и только самое важное,— но выбрать это надо так, чтобы не сузилось поле дальнейшего развития молодого художника. Эта задача очень трудна, и я не знаю, достигнем ли мы ее решения в ближайшем будущем. Я этим ни на одну секунду не хочу ограничить важности введения социального момента в художественное образование,— наоборот, я считаю его колоссально важным. Может быть, самый капитальный промах, который делался вообще в области художественного образования, был именно тот, что эта сторона упускалась и никак не была упорядочена. И хотя стало аксиомой, что всякий великий художник стоял во главе своей культуры и понимания ее, но ясно и то, что он приходил к этому пониманию совер-
[35]
шенно случайным, кустарным путем; облегчить это дело не только наша задача, а прямой наш долг. Это повелительно диктуется всеми условиями нашей нынешней жизни.
Музыкальное образование находится в счастливых условиях и в смысле борьбы между лекционным и лабораторным началами, так как лекционного преподавания в области музыкального образования весьма мало. В этом отношении как будто положение в высших музыкальных учебных заведениях обстоит более благополучно, чем в других. Очень важно сказать, что так называемая «связь с производством», судя по докладным запискам консерватории, тоже налажена хорошо. Не так проста эта производственная связь; она принимает своеобразный характер для каждого отдельного художественного вуза; но консерватория совершенно правильно нащупала свой путь. Она готовит своих учеников также к инструкторской работе. Под известным контролем ученики ведут школьную, популярную концертную работу и т. д. Те многочисленные линии, которые намечены и по которым будет выполняться план в этом году (как обещают докладные записки), заставляют с интересом и надеждой смотреть на развитие этой стороны жизни консерватории.
Еще одно замечание, которое я считаю совершенно необходимым, поскольку я говорю об общих принципах музыкального образования студентов. Как все искусства, музыка находится у нас в состоянии кризиса. Это я говорю не о ее теории, а просто об ее дальнейших путях. Кризис этот отражается, конечно, и на законченных мастерах-композиторах, и на некоторых внутренних заданиях молодых людей, кончающих учебу и вступающих на поле широкой музыкальной деятельности. У нас есть, так сказать, аристократические музыкальные круги. Принадлежащие к одному из них верят в те твердые пути, которые намечены были, в широком смысле слова, классической музыкой и которые, не боясь ярлыка эпигонов (этот ярлык часто на них наклеивают), утверждают с большим мужеством, что это и есть единственная, настоящая, подлинная музыка, что она не только не исчерпана, но и неисчерпаема, что, идя по стопам великанов прошлого, только и можно создавать новые высокие художественные произведения. И вы знаете, что внутри музыкального мира, как внутри всякого художественного мира, в ярост-
[36]
ной борьбе с этим направлением находится, так сказать, «музыкальный Леф»[6] — люди, которые думают, что всякое время должно иметь свое искусство, с пренебрежением относятся как к старине, так и к старым устоям, и которые уже имеют своих крупных руководителей, людей еще молодых или людей, принадлежащих к нашему поколению, но ищущих новых путей.
Обе эти аристократические группы требуют необыкновенно утонченной музыки, стремятся к чрезвычайному ее усложнению. Им обеим противостоит у нас так называемое доморощенное упрощенство, которое часто выдает себя за революционную струю. Сторонники его говорят: бог с ними, с классиками; это — старые колпаки или, по крайней мере, хорошо причесанные парики. Не хотим мы и вас, модернисты, потому что вы утонченнейшие пьеро и клоуны современной буржуазии, а наша публика совсем не такая, наша публика простая, и ей нужен, так сказать, аржаной хлеб в области музыки, как и в остальных областях. Такой хлеб мы беремся печь и очень просто.
На самом деле такие упрощенцы дают отвратительную подделку под старую музыку и как раз берут от нее самое тривиальное или, наоборот, щеголяют не туда вставленными украшениями, напоминающими серьги, вставленные в нос. Это упрощенство, музыкальное невежество чрезвычайно страшно для нового класса, ибо ведь новый класс, который еще не разобрался в старой культуре, легко может быть этим обманут; ему легко можно подать такую горячую селянку, которая сделана из кошатины или из какой-нибудь гнилятины и которую он, как голодный человек, все же съест. Если ему сказать, что это революционная селянка, да еще на красном блюде поданная, то он ее съест с особым удовольствием; он подумает, что это и есть пролетарская культура. Дело, конечно, в высокой степени отчаянное и печальное, против него надо всемерно бороться.
Но это не значит, чтобы мы могли идти по пути или буржуазного новаторства (буржуазного «Лефа») или буржуазного эпигонства. Очевидно, мы должны куда-то
[37]
от них отойти, и перед нами стоит задача не только создания высоких музыкальных творений, которые удовлетворили бы остатки старой интеллигенции и вообще плыли над жизнью, как весьма красивые и озаренные заходящим солнцем буржуазной культуры облака. Нам нужно, чтобы музыкальные творения составляли часть жизни, и поэтому необходимо, чтобы произошла гармоническая смычка между подлинной художественной музыкой и потребностями масс. Я сказал бы: нужна даже не музыка для простого удовлетворения потребностей масс, а музыка, основанная на вслушивании в своеобразный ритм этих масс, в своеобразное музыкальное сознание, которое они с собой несут. Я не знаю, насколько мысли, слова и те указания, которые дает тов. Асафьев, в этом отношении являются исчерпывающими.
Правильный путь требует большой чуткости к тому, в какую сторону должны развиваться наши музыкальные искания. Но нет сомнений, что музыкант должен стараться не снижаться до той пошлости, которую только на первых порах может не заметить, не понять и проглотить великий народ. Нужно постараться организовать жизнь наших теперешних городских и деревенских музыкальных коллективов на началах тех ритмов и тех музыкальных предпосылок, которые в их культурной жизни можно найти. Это задача весьма сложная и трудная, но она должна быть поставлена во весь свой рост. Изучение с этой стороны элементов самодеятельной, самотворческой музыки масс является в высокой степени важным. Что касается городского фольклора, я не знаю, сколько можно там найти ценных элементов — вероятно, довольно много. Но совсем не ново для нас черпание полными ковшами из колоссальных рудников деревенского народного творчества; в последнее время как будто появилась такая странная тенденция, что это-де мужиковство, крестьянофильство, и народная песня даже заподозрена, как обрывки феодализма, крепостного права, что-то, словом, нехорошее, что-то сермяжное; нам-де не до того. Это, разумеется, бесконечно неправильный подход к делу. Когда мы говорим о смычке города с деревней и, между прочим, о подъеме к новой культурной жизни наших окраин, восточных народов и маленьких затертых народностей, то мы вовсе не думаем при этом, что мы являемся
[38]
«культуртрегерами». Совершенно так же, как мы считаем абсолютно необходимым в индустрии опираться на земледелие, точно так же мы признаем, что человеческая культура не есть городская культура, а есть культура деревенско-городская, которая, вероятно, придет в конце концов к тому, что сотрется грань между ними — деревней и городом — и создастся здоровая почва для развития единой человеческой культуры. Если мы из области завоеванной нами и унаследованной буржуазной культуры, а также из того, что мы сами выработали, очень много уделим крестьянству или отсталым национальностям, то мы можем, в свою очередь, очень много и от них получить: прежде всего, огромное, только тысячелетиями могущее сложиться сокровище художественного стиля (в том числе и в музыке). Поэтому я думаю, что одной из больших дорог наметившегося развития нашей музыки будет как раз открытие новых источников среди тех народов, которые могут быть только теперь призваны к тому, чтобы рассказать, что у них накопилось на сердце, и использование этих материалов на гораздо более блестящих базах и с гораздо более народными устремлениями, чем раньше.
Наметить какую-нибудь прямую линию и узкий путь для проводников музыки не входит в мою задачу. Я хотел сказать, какие опасности и возможности ждут всякого музыканта, что нужно принять во внимание при выборе методов воспитания и самих принципов его. На деталях я останавливаться не буду.
В области изобразительного искусства дело обстоит много хуже, потому что здесь не выработались законченные физико-математические теории. То, что было возможно для уха, оказалось невозможным для глаза. Попытки построить параллельно с акустикой та- кую оптику, которая создала бы нечто вроде красочной гаммы, попытки к выделению и здесь чистых тонов, которые входили бы также в точные закономерные комбинации друг с другом, не увенчались успехом. Ньютон дал нам гениальное обобщение, и наука с тех пор двинулась вперед, но тем не менее эта область далеко не хорошо разработана.
Программная музыка представляет собой часть музыки, не вполне чтимую (хотя она вполне заслуживает уважения); но и программная музыка устремляется к
[39]
изображению действительности все-таки исключительно на своем музыкальном языке, нигде не прибегая к шумам, и выделяет всегда те же облагороженные звуки; живопись и скульптура в этом смысле гораздо реалистичнее. Они идут навстречу жизни и стараются дать возможно точное отражение ее форм, они программны по самому своему существу. Правда, именно под влиянием музыки, ее огромных своеобразных достижении, развилось то своеобразное изобразительное искусство, которое старалось создать нечто вроде линейного и красочного контрапункта и гармонии и при помощи такого рода приемов достигнуть выражения непосредственных душевных переживаний, настроений, якобы не передаваемых никакими другими образами. Но, как вы знаете, это любопытное художественное явление (Кандинский, Малевич, Бобрин[7]) не имело большого успеха и никакого сравнения с программной живописью и скульптурой не выдерживает. Музыка тоже есть изобразительное искусство, но всякому понятно, что изобразительность в музыке играет совершенно второстепенную роль по сравнению с ИЗО, как показывает само название. И вот весь непосредственный объект собственно изобразительного искусства - так сказать, то, что соответствует в объекте музыки всему звучанию непосредственной жизненной реальности, - меньше разработано и дифференцировано в самом нашем оптическом органе, в нашем восприятии световой и цветовой шкалы, чем в нашем изумительном слуховом аппарате. Это и привело к тому фатальному результату, что если все-таки буржуазное общество выработало точную пауку и преподавание в области музыки, то оно не смогло этого сделать в области изобразительного искусства.
[40]
Мы не только преподаем химию красок, оптику и анатомию - все это входило и в элементы прежнего научного преподавания. Но мы самое изобразительное искусство - живопись в особенности, но также и скульптуру - постарались разделить на точно установленные дисциплины, которые имели бы объективный характер, при которых преподаватель действовал бы не только личным примером, а обучал бы объективно. Из этого сначала ровным счетом ничего не вышло. Это оказалось довольно печальной повестью о том, что там, где нет такого разделения, его программой не создашь. И мы сейчас пришли к тому, что так называемый основной факультет Вхутемаса[8] распределили на три концентра, стараясь таким образом внести на этом факультете возможный максимум объективности в преподавание зрительного искусства. Это у нас графический концентр (линейный, затем плоскостной), цветной и, наконец, объемный. Бросается в глаза, что здесь есть последовательный геометрический переход от простейших к более усложненным, чисто пространственным формам восприятия и выражения (искусство графики, живописи и, наконец, скульптуры и архитектуры). Дальнейшее дробление внутри этих концентров является еще предметом, так сказать, некоторых изысканий. В первый год во Вхутемасе стараются дать будущему художнику представление обо всех трех концентрах, а во втором каждый выбирает себе один из них и таким образом предрешает дальнейшее углубление работы — свою специальность. Что же касается специальных факультетов, то — за исключением факультета производственного, которым Вхутемас может по праву гордиться и где речь идет о производственном искусстве как таковом,— здесь мы имеем вместо всяких дисциплин часть научных ингредиентов, которые и раньше входили в общее образование: элементы естествознания и общественных наук, которые необходимы (при этом обществознание мы очень сильно расширили). А затем идет то
[41]
же преподавание путем, собственно говоря, непосредственного примера, интуитивного восприятия учеником методов учителя в свою собственную манеру и свой собственный стиль.
Мы признаем, как я уже сказал, огромнейшее значение производственного искусства, и нигде оно не занимает такого большого места, как в изобразительном искусстве. Изобразительное искусство с промышленностью связывается непосредственнейшим образом, потому что изобразительное искусство есть искусство формы, а так как производство тоже должно дать законченную форму своему продукту, то здесь союз искусства и промышленности - союз естественный.
Производство как таковое дает наивысшую целесообразную форму своему продукту сточки зрения того употребления, которое человек из него сделает, как из орудия своей жизни, как из предмета пользования. Установлено, что каждый предмет приобретает чрезвычайно повышенную ценность для человека, если он еще получит определенную форму не только с точки зрения его целесообразности, но и с точки зрения наивысшей приспособленности к органам восприятия. Вот почему достаточно теплая и достаточно прочная материя без соответственной окраски все-таки не удовлетворяет человека. Это, конечно, простейший пример. Вот в этом смысле искусство должно пробиться чрезвычайно широко в производство, причем оно оттуда получит, в свою очередь, чрезвычайно важные элементы, так как в мире нашего восприятия очень большую роль играет целесообразность; целесообразность важна не только своим экономическим, хозяйственным значением, но она производит эстетическое впечатление красоты, совершенства. Поэтому в промышленности художник может очень многому научиться, он многое может, в свою очередь, и внести туда. И инженер-художник и художник-инженер на всех стадиях и на всех ступенях этих специальных функций представляет собою очень важное явление: мы сейчас во всех плоскостях к этому стремимся и, кажется, будем иметь известный успех, так как в данном случае связь с производством построена на действительно прочном основании. Нужно лишь сделать усилие, чтобы сами производственники глубже заинтересовались этой связью и шли охотнее навстречу нашему художественному студенчеству. Из до-
[42]
кладной записки о связи с производством видно, что здесь сделан большой шаг вперед и дело обстоит, если принять во внимание все трудности, относительно удовлетворительно.
Но признание важности производственного искусства не дает права думать, что мы отрицательно относимся к станковой живописи, монументальной скульптуре, фрескам. Одно время был такой уклон, было такое увлечение. Совершенно правильно увлечение производственным искусством: оно очень конкретно, демократично, весомо; но забыть вследствие этого идеологическое значение искусства могли не столько выходцы из пролетариата, как просто очень угодливые люди. Когда охотник идет на охоту, он знает, куда идет, а собака его не всегда знает. Если охотник внезапно поворачивает назад, а собака забежала далеко вперед, то приходится ей возвращаться. Так бывает и с идеологами, преданными и желающими угодить пролетариату, но не всегда знающими, куда идет хозяин, и не умеющими вовремя повернуть. Конечно, не все идеологи этого мнимо-производственного уклона обладали такой «производственной» психикой; некоторые из них исходили действительно из глубокого убеждения. Но эти убеждения были, при всей их искренности, иллюзией.
Нет никакого сомнения в том, что великому классу и великой культуре нужна великая идеология в искусстве. Рекомендую вашему вниманию прекрасную книгу одного из наших учителей, Франца Меринга, о мировой литературе[9]. Каждый, кто захочет заглянуть в эту замечательную книгу, увидит, до какой степени была извращена «чистыми производственниками» настоящая коммунистическая мысль, о которой в этой книге говорится. Поэтому, отдавая должное искусству, которому предстоит самая великая задача преображения всего мира вещей вокруг нас, не надо забывать, что если человек - это хозяйствующий субъект и к превращению человека в
[43]
подлинного хозяина своего материального производства сводится пафос экономического материализма, то человек отнюдь не только рабочий и инженер, но еще и художник; он хочет свое хозяйство привести в эстетически более высокий вид, и в этом смысле перед ним раскрываются гигантские перспективы творца. Можно всячески преклоняться перед производственным искусством, выходящим в своих достижениях в наше время за пределы ранее мыслимого, показывающего какие-то сверхчеловеческие пределы формального совершенства. Но это не должно заслонять идеологию.
В некоторой связи с «производственным» уклоном находится и формальный уклон в искусстве: «только те художники революционеры, - говорят его адепты, - кто со-создает новые, революционные формы». Это игра слов, потому что ниоткуда не следует, чтобы каждая формальная революция в науке или искусстве была в непосредственной связи с социально-политической революцией пролетариата. Можно сказать, что введение удушливых газов произвело целую революцию в военном деле, но можно ли сделать отсюда вывод, что автор этих удушливых газов родствен коммунизму?
Было и другое, как говорится, увлечение «производственным искусством». Например, нам говорили: «Что такое картина? Картина есть вещь и, как вещь, она должна отличаться всеми свойствами вещи. Что же за вещь - картина? Висит на стене для того, чтобы производить известное впечатление на глаз. Если можно признать картину, то только такую, которая бы выполняла полностью свое вещное назначение красочного пятна». Идеологии сторонились очень усиленно, тем более, что иной художник чувствует, что вещь он может сделать, а идеологию сделать не может, - не каждому это удается. Сладить вещь — это работа чистого мастерства, а работать в области идеологии - это дело глубокого убеждения. Художник не коммунист и не сочувствующий пролетарской культуре и искусству, но готовый им служить, очень любил шептать на ухо пролетариату: «Ты брось идеологию, тебе нужна вещь; вот насчет вещей я могу. А идеологией тебя только отравляют». На самом деле пролетариату нужна идеология, и поэтому он даже довольно сердито хотел послать этих людей к черту.
[44]
Был такой момент, когда перегибали палку и в другую сторону.
«Я ни на одну минуту не отрицаю того, что форма должна развиваться на основе нового жизненного уклада. Обновленная идеология должна принести и обновление форм. Это несомненно так. Но на практике дело обстоит гораздо проще. И как мы не изобретали с самого начала новых букв, а только выбросили букву ять и старыми буквами стали изображать наши коммунистические мысли, так и в области искусства задача пролетариата была с самого начала такая: четким шрифтом изложить то, что у него на душе. Нельзя сказать, чтобы картины Репина были непонятны. Понятны, только говорят они не совсем то, чего хочет пролетариат. А картина какого-нибудь футуриста непонятна пролетариату, и он говорит: «может быть, она и революционна, но черт ее знает — не разберешь».
Как бы нас назвали, если бы мы предложили пролетариату книгу, написанную новой азбукой, с такими выкрутасами на каждой букве, что он не прочтет, и если бы мы сказали, что это есть «вещь», и неважно, что она обозначает, а важно, как она выглядит, - «посмотрите, какие красивые страницы, хотя их и не прочтешь?»
Для класса, которому нечего говорить, нечего слушать, такая новизна печати может служить большим утешением, потому что этот класс держит книги в шкафах и показывает их с точки зрения шрифта, переплета и т. д. Но для класса, который хочет учиться жизни, это неподходяще. И он всегда будет стремиться к тому, чтобы воспользоваться наиболее удобочитаемой формой искусства. Эта наиболее удобная форма — форма реалистическая.
Реалистическая форма есть та, которую пролетариат понимает. На последней выставке АХРР[10] было видно,
[45]
как понимает ее пролетариат и как она глубоко его радует; начинается настоящее, подлинное сближение пролетариата с художником. Этого другие художники не могли сделать. С этой точки зрения, мне кажется, нашим молодым мастерам надо помнить, что если они хотят быть органической частью, настоящими сотрудниками, строителями вместе с пролетариатом его культуры, то они должны говорить на понятном пролетариату языке. Художник должен подходить реально к действительности со всеми законами перспективы, композиции и т. д., со всеми огромными достижениями, которые в этом отношении возможны, — это есть то, чем художник должен сейчас заняться в первую голову.
Мастерство, проявляющее себя на непонятных новых путях, иногда бывает невольно почти самообманом; оно отказывается служить там, где надобно настоящее мастерство. Часто архитектор на бумаге, на плане может вам возвести изумительный дворец, но если вы после этого попробуете поручить ему построить самую обыкновенную водокачку, то она у него рухнет, потому что его мастерство не считается с жизненными данными. Так же для настоящего времени совершенно не нужно и то изобразительное искусство, которое ничего не изображает.
Тут я должен коснуться одной очень важной стороны дела, которая имеет отношение ко всем отраслям искусства и художественного преподавания: в конце концов, решительно каждый художник должен быть поэтом. Лозунг, свойственный художникам современной буржуазии, - «прочь от литературы» - мы сейчас должны радикально отвергнуть и сказать художникам всех родов: «все к литературе!» Буржуазия стала бессодержательным классом, и все ее искусство пошло к бессодержательному, а наш класс содержателен, и все искусство его стремится к содержательному. Поэт — творец идей и чувств, прежде всего; поэт — творец образов, которые он может мыслить в звуках, красках или слове. Он великий гражданин своего времени, причем он не непременно строго и определенно партийный человек — я не это имею в виду, — но он всегда является гражданином своего времени, потому что живет его болью, знает его радости, является центральным нервным узлом современной общественной жизни. Ху-
[46]
дожник есть центральный нервный узел, который претворяет все со всех сторон получаемые вибрации в упорядоченные мощные токи художественного порядка. И кто этим даром не обладает, тот не художник, а в лучшем случае очень хороший ремесленник своего дела, который; может кое в чем способствовать даже художнику. Художник может и у маляра, быть может, поучиться, как накладывать краски; тому же можно научиться и у мастера-живописца, который разработал чисто внешнюю технику; очень хороший оратор может учиться у человека, который не может связать двух умных слов, но знает, как надо поставить голос. Можно научиться технике говорения; но оратор, который не имеет, что сказать, конечно, нуль, — больший нуль, чем заика, который не умеет хорошо сказать, что думает, но может написать.
В этом смысле каждый художник должен быть подобен художнику-оратору, умеющему передать то огромное содержание переживаний, которое в нем имеется. В этом-то и сказывается и талант, и гений; все остальное - технический момент, который также имеет, конечно, колоссальное значение, но лишь потому, что является условием наибольшей убедительности, наибольшего эффекта передачи того, что в вас есть.
Там, где имеется великолепный передаточный аппарат, но нечего передавать, - дело, конечно, дрянь. Это ясно. Но и где имеется великолепный запас того, что передать, но нет передаточного аппарата, - там этот запас идей для других как будто и не существует. Обе эти стороны очень важны.
Совершенствуя передаточный аппарат, мы должны заботиться о том, чтобы развернулся самый внутренний мир художника. И не может высшее учебное заведение сказать; «Он получит это в жизни, а мы этого чуждаемся и сторонимся»,— никак не может. Если мы хотим воспитать художника, мы должны обратить внимание на эту сторону воспитания.
У нас в плохом состоянии (внешне) находится архитектурный факультет. Я по этому поводу хочу сказать, что буду, конечно, всевозможным образом отстаивать дальнейшее существование архитектурного факультета при Вхутемасе. Я считаю, что он органически здесь необходим; я думаю, что конечные устремления живописи и скульптуры есть все-таки устремления к превращению
[47]
себя в элементы архитектуры. Настоящее выражение искусство имеет там, где оно широко организовано. Даже простая выставка ставит определенное требование к архитектуре. Я на архитектуре вообще сейчас не буду останавливаться, так как это чрезвычайно специальный и очень сложный предмет; но, найдя в представленном мне материале опасения относительно возможности уничтожения этого факультета, я говорю категорически, что он встретит во мне решительного союзника. Я считаю, что нужно восстановить его как органическую часть Вхутемаса и что без этого Вхутемас окажется пораненным.
Более бегло, чем об изобразительных искусствах и музыке, скажу о литературе; скажу только несколько слов относительно центральной установки, которой требует наше время. Оно очень ответственно для литераторов. Всякая фиоритурная литература будет отвергнута со страстностью, с которой производит человечество свой процесс самопознания всего окружающего, и со страстностью, которая вносится в нашу агитацию. Я не говорю о чисто забавляющей литературе, которая имеет право на существование для людей уставших; время от времени может появиться потребность в отвлечении и реставрировании себя не только котлетой, но и каким-нибудь анекдотом; и кто желает доставлять соответствующий художественный материал, тот может этим заняться, но без претензии на то, что это и есть современная литература, хотя бы такое произведение и было в своем роде
Время категорически требует от литератора участия его в самопознании и самоопределении общества. Произошли такие колоссальные события и такие колоссальные сдвиги, что обнять их как будто возможно либо в широчайших эпических произведениях, которые не по :- силам отдельному человеку, либо в каких-то вытяжках, экстрактах, в таких огромной силы символах, которые тоже находятся в пределах ресурсов разве только настоящего гения. С этой огромной глыбой, какой является революция, чрезвычайно трудно что-нибудь сделать. И художник, и поэт, которые откалывают тот или другой кусок от нее или отскребают только песчинки, чувствуют глубокую неудовлетворенность. Кое-кто делает это, правда, с удовольствием; выдирает из глыбы хлеба изюминки— и как будто сам питается и других питает. Но
[48]
это не есть настоящая работа; а настоящую работу безумно трудно производить.
Никогда объект сам по себе не был таким богатым, таким захватывающим, никогда он не был таким внутренне единым, несмотря на свои противоречия. Задачи, которые ставит сейчас литературе жизнь, невероятно трудны, и мы видим, как наши литераторы впадают то в ту, то в другую крайность: либо в разбросанность, либо в крохоборство. Перед нами стоит огромная задача. Но это не значит, что мы безнадежно уперлись в эту революционную глыбу, как в стену. Разумеется, постепенно, путем литературно-коллективного процесса она будет разработана.
Это центральная задача, и здесь, товарищи, особенно приходится подчеркнуть то, что надо считать обязательным для всякого художника: именно необходимость марксистской подготовки. Мы смотрим на мир по-марксистски, с этим можно спорить, но тот, кто спорит, будет переспорен жизнью. Марксизм как гениальный ключ отпирает также все индивидуально-психологические задачи. Я опять-таки попрошу товарищей художников, педагогов-художников внимательно прочесть (правда, в плохом переводе вышедшую) книгу Меринга. Просто поражаешься, в какой степени человек этот стоит выше своих современников, буржуазных критиков. Когда он с ними спорит, получается впечатление зрячего, спорящего со слепыми. Конечно, художнику-интуиту, любящему работать подсознательно, представляется чем-то почти опасным такой ясный свет. Он говорит: «Вы дайте мне сумрак, вы оставьте меня в лунном освещении, уберите от меня ваше марксистское солнце, и в неясных тенях, которые меня окружают, я найду те тонкие сочетания, которых вы при вашем солнце не увидите». Конечно, могут быть и такие натуры, и мы можем их оценить по достоинству. Но из этого вовсе не следует, что в наше время, которое нуждается в самоопределении, нам нужно романтическое тусклое освещение. Нам нужно максимальное освещение. Художник-головастик тоже не нужен, потому что у нас есть хорошие теоретики с крепкими головами, которые все это скажут без него и лучше него И поэтому «марксистские» рассказы, которые походят на хорошую передовицу, - ужасны. И неправы товарищи которые говорят: «Черт знает что такое! Скучная штука!
[49]
но идеологически правильная, поэтому нужно ее рекомендовать: ведь это идеологически правильная вещь, это марксистское дважды два равно четырем». Надо сказать, что, хотя и не точь-в-точь, но все-таки такие курьезные примеры, почти похожие на арифметические задачи, имеются.
Я не говорю, что художник должен в каждом произведении заниматься марксистским анализом действительности. Он должен быть всегда художником, который всегда пламенеет, страдает и радуется, который прежде всего представляет собой эмоционально богатую натуру. Это должен быть художник, который воспринимает прежде всего образы и у которого всякое его переживание также порождает образы. Он даже может и не думать о том, что пишет Маркс; можно забыть, когда пишешь, про Маркса, но нужно его знать. Можно не смотреть постоянно на солнце, но надо уметь пользоваться солнечным светом, забывать о нем самом, но ясно видеть предметы и смотреть на них собственными глазами. В этом смысле эта предпосылка абсолютно необходима, она до крайности облегчает работу художника, облегчая ему понимание жизни. Целый ряд таинственных вещей окажется не таинственным, а зато станет на очередь колоссальная масса необыкновенно трудных вопросов, которые при помощи одной только художественной интуиции разрешить нельзя, но которые только тогда смогут стать доступными, когда вы к ним подошли при свете марксистского солнца. Для литератора это особенно важно.
Теперь несколько слов о театральном высшем образовании. Я прихожу к выводу, что у нас нет высшего театрального образования. Нет и быть не может. Об этом говорят не теоретические выводы, простая практика к этому приводит. Был у нас Гитис, было у нас и соответствующее учебное заведение в Ленинграде. Они, как капля на каплю, похожи на те высшие учебные заведения, которые мы закрывали за то, что они не были высшими. В разных губерниях возникала идея иметь свой собственный университет. На какой-нибудь гимназии писали вывеску, что это университет, учителей гимназии обращали в профессоров, гимназистов — в студентов, а затем гимназические классные комнаты и физические кабинеты называли разными учеными названиями, как, например, аудиториями и т. д. Начинали работать, но за-
[50]
тем приезжал какой-нибудь инспектор и говорил: «Да ведь что же такое у вас? Техникум, а не вуз. Даже вам самим видно хорошо, что это не тигр, а кошка». Нам всячески старались доказать, что это именно вуз по всем признакам, но признаки были такие же, какие объединяют кошку и тигра. В театральной провинции называли техникум вузом с успехом, но оставались в пределах очень мелких кошек, которые тигров не напоминают никак. Естественно, что мы обратили внимание на это и после тщательного обследования вопроса пришли к мнению, что это не тигренок, который может вырасти в тигра, а довольно пожилая кошка, которой дальше расти невозможно. Это-то и заставило нас назвать Гитис техникумом. Но затем эта любезная нашему сердцу кошка делает огромные усилия, чтобы вырасти; и мы еще не знаем, действительно ли это рост или нечто вроде истории с лягушкой, которая хотела сравняться с волом. Может быть и так, что техникум поднатужился, чтобы сравняться с вузом, с некоторой опасностью для своей жизни. Поэтому у меня нет еще совершенно точного вывода. Извиняюсь перед товарищами из Гитиса, которые здесь сидят, но я очень боюсь, что у них нет ни методов высшего преподавания актерского искусства, ни профессоров, которые могли бы заполнить их кафедры, что в этом отношении театральная жизнь не выработала еще того, что выработано в других областях искусства, — даже того, что оказалось выработанным в области литературы. Это неудивительно. В области литературы, хотя бы и кустарным способом, было собрано много опыта и можно было привлечь к преподаванию исследователей литературы — а количество исследователей театра невелико. Актеры — люди без рефлексии, в отличие от писателей, поэтому они очень мало могут довести то, что они показывают, до научной дисциплины. Поэтому они и поступают так, как обыкновенно поступают учебные заведения, которые хотят сделаться вузами: очень тонкую струйку своего подлинного специального образования, струйку прерывистую и слабую, загромождают колоссальным количеством дополнительных предметов. Тут есть много всяких наук — цикл естественных наук, цикл физики, математики и т. д.,—но читать эти предметы некому, и получаются, так сказать, одни грустные выводы. Если, конечно, на конференции, где встанет этот вопрос, мы из доклада
[51]
убедимся, что Гитис представляет собою растущий вуз, я могу этому только порадоваться, потому что в области театра вуз, разумеется, был бы нужен.
На вопросах театральных я дольше останавливаться не буду и только расскажу один маленький эпизод, чтобы бросить некоторый свет для товарищей, занятых театральной педагогикой, на ту же связь с марксизмом, о которой я говорил на диспуте по поводу «Бубуса» Мейерхольда[11]. Я выступал с таким тезисом: Мейерхольду в его постановке «Бубуса» мешает его биомеханика, поскольку биомеханика является только техническим средством, основанным на владении аппаратом своего тела и доведении его до высокого совершенства. На это Мейерхольд возразил, что сюда входит еще обучение выразительности. Но человеческая выразительность не может быть механической. Поэтому я сказал Мейерхольду, что он должен, оставив биомеханику как самоцель, отведя ее в область физкультуры, заняться так сказать, «социо-механикой», то есть теми складками, которые проходят по нашей натуре, являясь не особенностью данного человека, а социальными складками. Внешность каждого человека, его одежда, его манера держаться, его способ разговора, его тип — все это социальный тип. Откуда мы узнаем купца, приказчика или попа, как сложилась его социальная жизнь, откуда он произошел? Театральная фигура может быть настоящим образом понятна только в социальном свете.
Когда Островский создал у нас социальный театр, то Малый театр, который шел ему навстречу, одновременно развивался внутренне, занимался изучением общественности. Конечно, это изучение было не научным, а кустарным. Актеры ходили по трактирам, по улицам, всюду, где могли наблюдать, и благодаря тонкости своих наблю-
[52]
дений создавали необычайно сочные социальные типы. Никакой биомеханикой этого не добьешься. Пускай это будут окарикатуренные, буффонадные типы, лишь бы это были действительные этюды с нашего нынешнего общества. Поскольку я говорю, что задание искусства сейчас есть пролетарское классовое самосознание и самоопределение, постольку совершенно ясно, что нужно на этот путь вступить. Тов. Мейерхольд уже вступил на этот путь, чему я искренно рад. В «Бубусе» есть первые проблески создания социальной фигуры, и я не сомневаюсь, что Мейерхольдом будет создан весьма интересный театр.
Я говорю, что изучение жизни, которое производили всегда кустарным путем, человек, вооруженный марксистcки, может производить с несравненно большей успешностью. Для человека, который знает, что такое общество и его структура, всякая экскурсия, всякая летняя практика — вроде таких, когда художника посылают с этюдником, чтобы он зарисовал себе возможно большее ; количество элементов, потом служащих ему материалом для его художественного творчества—вся эта практика для человека, вооруженного марксизмом, окажется особенно полезной.
Товарищи, я уже сказал, и на этом кончу свой доклад, что мне представляется все-таки, несмотря на известную забитость той части третьего фронта, перед которой я имею честь выступить сегодня, — мне все-таки кажется, что здесь положение далеко не отчаянное, что у нас не застой или регресс; в общем и целом нужно указать, что положительных и подчас замечательных результатов мы в области нашего художественного образования добились. И мы констатируем более ясное понимание тех запросов, с которыми к нам обращаются новое общество и советское государство,— а в этом залог дальнейшего роста. Когда АХРР, имеющая свои огромные недостатки и несомненные достоинства, обратилась к правительству за субсидией, то ее дали, — хотя не полностью, но значительную часть. Почему? Потому что правительство убедилось, что масса интересуется этим искусством и нуждается в нем. Никакими философскими эстетическими рассуждениями не сделать того, что сделал простой факт: фабрики, сходив на выставку один раз, требуют, чтобы их повели еще. Когда вы увидите, что де-
[53]
сятки тысяч пошли в концерты, то это будет значить, что мы имеем значительный сдвиг массовой публики в направлении к музыке.
Все заставляет нас ждать в ближайшем будущем чрезвычайного повышения интереса народных масс, а вместе с ними партии и правительства к вопросам искусства, и когда внимание будет привлечено к ним (а по части литературы оно уже сосредоточено на некоторых проблемах), мы должны быть en toute forme, «в полной форме», мы должны ответить если не парадом, то во всяком случае не ударить лицом в грязь. Я думаю, что для этого у нас есть огромные ресурсы, и если нельзя немедленно рассчитывать на блистательный эффект такого рода парада, то только потому, что материальные средства, которыми питалась эта часть культурного фронта, были слишком незначительны.
От соприкосновения центральной линии нашего строительства с вопросами искусства, которое произойдет в ближайшее время, несомненно, должно произойти величайшее благо для самого искусства. Надо, чтобы оно постаралось в первую голову подготовить художников, которым предстоит выполнить главную массу задач, стоящих перед нами, и чтобы они были проникнуты правильным пониманием задач, которые ставит им жизнь; тогда, естественно, и жизни предстоит признать в художественном образовании не пасынка, не случайного чужого ребенка, а своего настоящего сына, своего настоящего сотрудника. Прежде всего приложим старание к тому, чтобы не укрепилось в высшей степени неверное представление, будто мы машем рукой на эту часть культурного фронта и смотрим на нее как на какую-то роскошь.
Искусство не является роскошью теперь, когда проблема будущего стала проблемой настоящего. Жизнь придвинулась вплотную к тому делу, которое мы творим; то, что будет сделано в дальнейшем, будет более точным, более широким выполнением наших заданий, чрезвычайным оживлением той работы, которую мы уже теперь ведем.
Опубл.: Октябрь и музыка. Сб. статей / Сост. А.А.Александров, Л.И.Левин. М.: Музыка, 1977. С. 24 - 53.
Впервые опубликовано в журнале «Музыкальное образование», 1926, № 1—2. Печатается по изд.: Луначарский А. В. В мире музыки. Статьи и речи. Изд. 2-е. Составление, редакция и комментарии Г. Б. Бернандта и И. А. Саца. М., 1971.
размещено 5.11.2008
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Воронский Александр Константинович (1884—1943)—публицист, литературный критик и мемуарист. Автор сборников статей: «Искусство и жизнь», «Литературные типы», «Литературные записи» и воспоминании «За живой и мертвой водой». Луначарский, ценя его художественное чутье и понимание литературы, расходился с ним во взглядах на эстетику и перспективы социалистического искусства.
[2] Имеется в виду книга А. А. Федорова-Давыдова «Марксистская история изобразительных искусств» (Иваново-Вознесенск, 1925).
[3] Имеется в виду книга Макса Вебера «Социологические и рациональные основы музыки».
[4] Речь идет о «теории многоосновности ладов и созвучий» Н Л Гарбузова, «теории метротектонизма» Г. Э. Конюса и «теории слухового тяготения» («ладового ритма» или «музыкального мышления») Б. Л. Яворского.
[5] Речь идет, прежде всего, о проводившейся в начале 1920-х годов так называемой «типизации школы», то есть разделении всей системы музыкального образования на три ступени: начальную, среднюю и высшую; в результате проведения этой реформы младшие и средние курсы консерватории превращались, соответственно, в школу первой ступени и техникум, а старшие курсы становились высшим учебным заведением. Одновременно с этим программа музыкального образования (для всех специальностей) дополнялась обязательными общеобразовательными предметами, обязательным изучением педагогической методики и прохождением педагогической практики, изучением хоровой музыки и обучением организации хора. Эта реформа встретила сопротивление части преподавателей консерватории.
[6] «Леф» — «Левый фронт искусства» — литературная группа, возникшая в Москве в 1923 году. Издавала журналы «Леф» (1923— 1925), «Новый Леф» (1927—1928). Основные принципы этой группы были близки к футуризму.
[7] Кандинский Василий Васильевич (1866—1944) — одни из наиболее ярких представителен «левой» живописи и один из основателей «беспредметной» живописи, потом экспрессионизма (в Германии). Малевич Казимир Северьянович (1878—1935) – художник, эволюционировавший от реалистических картин XIX века, через импрессионизм и кубизм, к «беспредметной» живописи. В 1917 году Малевич основал течение, названное им «супрематизмом» и провозгласившее задачей живописи комбинации простых геометрических фигур (круг, квадрат, и т. д.) и простых цветов. Это направление нашло эффективное применение в художественной промышленности— в узорах для тканей и в росписи фарфоровой посуды. О художнике Бобрине данных нет.
[8] Вхутемас — Высшие государственные художественно-технические мастерские. Высшее учебное заведение, организованное в Москве в 1919 году и имевшее факультеты: живописный, скульптурный, керамический, деревообделочный, текстильный и полиграфический. В 1927 году преобразован во Вхутеин (Высший художественно-технический институт). Позднее почти все факультеты стали самостоятельными институтами.
[9] Меринг Франц (1846—1919) — немецкий революционный социал-демократ, публицист, политический деятель, один из основоположников марксистской литературной критики. Самые известные работы: «Легенда о Лессинге», «Мировая литература и пролетариат» (сборник статей о Шиллере, Гёте, Лессинге, Гейне, Гервеге, Фрейлиграте, Диккенсе, Гауптмане, Ибсене и др.), биография Карла Маркса.
[10] АХРР - Ассоциация художников революционной России. Организована в 1922 году и ликвидирована в 1932 году в связи с возникновением единого Союза советских художников, в который вошли все прежде существовавшие художественные группы. Лозунгами АХРР были: современность, содержательность, реализм и народность изобразительного искусства. Эти лозунги были полезны в борьбе против «левого» формализма. Однако в самой влиятельной группе художников Ассоциации был заметен уклон к натуралистической разновидности декаданса. Статьи Луначарского об АХРР см. в сборнике «Статьи об изобразительном искусстве», т. 2. (М., 1966).
[11] «Учитель Бубус» — пъеса Алексея Михаиловича Файко (род. 1893), поставленная в 1925 году на сцене Театра им. Вс. Мейерхольда; Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874—1940) — режиссер, народный артист РСФСР. Против «левых» увлечений Мейерхольда Луначарский полемизировал и до революции 1917 года, когда они выражались в мистическом символизме, и после Октября, когда Мейерхольд стал футуристом. Но Луначарский поддерживал реалистические тенденции в творчестве Мейерхольда и положительно оценил постановки пьес «Рычи, Китай» С. Третьякова, «Ревизор» Гоголя и «Горе уму» (по Грибоедову).
Тамара ЛЕВАЯ Шостакович и Прокофьев: эскиз к двойному портрету
Имена Д.Д.Шостаковича и С.С.Прокофьева неслучайно стоят рядом в названии предлагаемого очерка. Сопоставление этих фигур, столь же равновеликих, сколь не похожих друг на друга, давно уже прибрело статус традиции. Носившая поначалу сугубо эмпирический характер, эта традиция со временем облекалась в форму разного рода научных рефлексий. Поскольку в данном направлении накоплен определенный опыт, представляется небезынтересным обобщить эти рефлексии, при этом попытавшись заново взглянуть на «двойной портрет» Сергея Сергеевича и Дмитрия Дмитриевича.
Сразу же стоит отметить многоплановость сравнительных характеристик, предпринимавшихся в музыковедческих трудах, - что само по себе указывает на принципиальный характер существующих различий. Прокофьев и Шостакович сопоставлялись по меньшей мере в четырех аспектах: типологическом, стилевом, культурно-генеалогическом, психологическом (можно даже сказать – психоаналитическом, если учесть, что некоторые из позднейших работ содержат ссылки на К.Г.Юнга). Попытаюсь прокомментировать эти сопоставления в той же последовательности.
Весьма примечательно, что первые опубликованные наблюдения на данную тему восходят к эпохе «оттепели» - времени, с которого, строго говоря, и ведет свой отсчет наука о советской музыкальной классике. В 1962 году издательство «Советский композитор» выпустило в свет сборники «Черты стиля Прокофьева» и «Черты стиля Шостаковича», составленные и отредактированные Л.Бергер. Этот двухтомный «проект» (как бы сейчас его назвали) органически вписался в ситуацию зарождения и бурного расцвета нашего «прокофьеведения» и «шостаковичеведения», случившегося в те и последующие годы (напомню, что оба персонажа лидировали по степени проявленного к ним внимания также и в сборнике «Музыка и современность», ставшего в некотором смысле символом «оттепели»).
Прокофьевский сборник открывался статьей от редактора, которая, однако, не ограничивалась скромной функцией комментария к публикуемым работам. Кроме активно заявленной авторской позиции по существу обсуждаемых проблем, она содержала развернутые постраничные примечания, долженствующие ввести музыку Прокофьева в широкий контекст современного искусства (с этой целью приводился внушительный, хотя и до известной степени случайный ряд имен - от Хемингуэя и Элюара до Сезанна и Пикассо). В этих примечаниях, демонстрирующих в некотором роде романтическую пору отечественного музыкознания, нашлось место и для нашего «двойного портрета». Автор говорит о принадлежности Прокофьева и Шостаковича противоположному типу художников. При этом производится ссылка на этюд Т.Манна «Гете и Толстой», где Гете противопоставляется Шиллеру, а Толстой Достоевскому, подобно тому как объективное, природное, пластически-созерцательное искусство противостоит искусству субъективному, морально-критическому и бунтарскому. «Контраст между созерцанием и буйными галлюцинациями не нов и не стар, он вечен», - цитирует Л.Бергер Т.Манна[1]. Эти абсолютно резонные посылки не получили, однако, развития в рамках вступительной статьи – вероятно, потому, что сами эти рамки такой задачи не предусматривали.
Между тем заимствованная у Т.Манна методология несла в себе далеко идущие характерологические возможности. Это обстоятельство, а также выход в 1975 году книги И.Барсовой «Симфонии Густава Малера», с лежащей в ее основе концепцией «классического-аклассического», должны были вдохновить на последующие шаги в означенном направлении. Они и были предприняты, причем в числе «вдохновленных» оказался и автор этих строк, со своей статьей «Д.Шостакович. Тип творческой личности»[2]. Шостакович рассматривался в этой статье в плане сопоставления двух полярно противоположных типов художественного мышления (Прокофьев соответственно фигурировал в том же аспекте). Не имея намерения пересказывать здесь собственный опус, отмечу лишь, что, вслед за упомянутыми трудами, это была попытка типологического подхода к ключевым фигурам отечественной музыки ХХ века.
Возвращаясь же к двухтомному проекту эпохи «оттепели», стоит напомнить его главную тему – «черты стиля». Знаменательно, однако, что именно в стилевом, конкретно-музыкальном плане дихотомия «Прокофьев-Шостакович» была осмыслена гораздо позже, десятилетиями спустя, когда «опыт феноменологии» музыкального творчества потребовал соответствующей системы доказательств. Как можно догадаться, речь идет о книге Л.Акопяна, посвященной Шостаковичу[3]. На страницах этой книги, в подражание известному фрагменту из «Диалогов» И.Стравинского, где последний сравнивает себя с А.Шенбергом, воспроизводится в виде таблицы сравнительная характеристика Прокофьева и Шостаковича. Она выглядит как ряд антитез (приведем их в несколько редуцированном виде): стилистическая однородность – стилистическая гетерогенность, гомофония – полифония, индукция – дедукция, мажор – минор, регулярная акцентность – времяизмерительность, имманентно-музыкальный характер содержания – внетекстовые ассоциации, приоритетное значение «своего» материала – широкое использование «чужих слов».
В последующем изложении автор дополняет эти антитезы параллелями, в рамках которых, однако, еще резче проступают характерные различия. Так, для обоих композиторов важной являлась категория «классического»; но «если у Прокофьева, - замечает Л.Акопян, - "классическое" отсылает прежде всего к классицизму ХVШ <…> века <…>, то у Шостаковича этот же типологический элемент чаще ассоциируется с барочными полифоническими конструкциями <…>»[4]. Полностью соглашаясь с этим тезисом, хотелось бы возразить автору в одном: неоклассицизм Прокофьева и необарокко Шостаковича вряд ли имеют общий типологический корень, скорее еще раз разводя наших героев по разным полюсам. Ведь применительно к обоим композиторам речь может идти не только о соответствующих стилевых моделях, но о чем-то большем - типах художественного мышления, олицетворяемых барокко и классицизмом: противоположность этих типов, доказанная еще Г.Вельфлином, во многом объясняет и различия стилевых установок в творчестве наших мастеров.
В книге Л.Акопяна затронута еще одна параллель-антитеза, связанная на этот раз с историко-культурной генеалогией композиторов. Речь идет об их изначальной принадлежности «петербургскому тексту» русской культуры[5]. Действительно, и Прокофьев, и Шостакович, и Стравинский, каждый по-своему, демонстрировали музыкальный вариант «петербургского текста», с его внутренней напряженностью и антитетичностью, двоевластием природы и культуры, почвенничества и западничества, рациональности и фантасмагоричности. Антитезы петербургской культуры определяли и характерные различия в художественных установках. С этой точки зрения Л.Акопян считает показательным движение акмеизма, который противостоял «гоголевско-достоевско-символистской» традиции Петербурга, а также одному из ее позднейших ответвлений – «стихийному советскому гностицизму»[6]. В музыке олицетворением последнего, согласно концепции Акопяна, стал Шостакович; «акмеистами» же были, по сути, и Стравинский, и Прокофьев. Эти весьма любопытные и далеко идущие наблюдения подтверждаются на многих страницах «феноменологического» исследования - прежде всего, разумеется, в связи с Шостаковичем. Следует напомнить, что рассмотрение Стравинского в контексте акмеизма уже было до того предпринято С.Савенко[7]. Что же касается Прокофьева, то он в данном ракурсе фактически никем не рассматривался.
Не берясь здесь за обсуждение этой столь же сложной, сколь интригующей темы, хочу уточнить лишь один, на мой взгляд, немаловажный момент. Прокофьев и Шостакович соприкоснулись с петербургским мифом на исторически различных стадиях его существования. Петербург Серебряного века, питавший молодого Прокофьева, и Петроград 1920-х годов, в котором рос и формировался Шостакович, - достаточно разные вещи. А.Шнитке, вероятно, прав, говоря о том, что Прокофьев был воспитан на стихийном оптимизме начала ХХ столетия, как бы не желая признавать происшедший позже в его истории апокалиптический сдвиг[8]. К тому же в 1920-е годы он находился уже за пределами «колыбели революции», связав последующую полосу своей жизни с западным культурным контекстом. Можно сказать, что само различие возрастов (а Прокофьев был старше Шостаковича без малого на полтора десятка лет) в подобных исторических обстоятельствах обернулось различием творческих судеб.
Однако нашим героям довелось пересечься и в реальном жизненном пространстве, коим оказался Советский Союз конца 1930-начала 1950-х годов. «Совместное присутствие Шостаковича и Прокофьева на культурной сцене советского государства»[9] дало не меньше поводов для их сравнений и соотнесений. Пожалуй, этих поводов здесь даже больше, учитывая сходство жизненных ситуаций, в которых оказались оба композитора. Неслучайно психологический «двойной портрет», вплоть до деталей социально-бытового поведения, например, реакции на события 1948 года, создавался пишущими в основном именно на этом историческом материале. Как пример можно привести и упомянутую монографию Л.Акопяна, и ряд работ западных ученых.
Я не берусь полемизировать здесь с некоторыми позднейшими оценками, варьирующими миф о «конформисте» Прокофьеве и «диссиденте» Шостаковиче, какими они якобы проявили себя в условиях советского идеологического диктата. Думается, Прокофьева и Шостаковича тогда гораздо большее сближало, нежели разъединяло[10] - в том числе и мучительная дилемма истинного и ложного в искусстве, стоявшая в советское время перед многими мыслящими художниками. В какой-то мере происходило, вероятно, и чисто человеческое сближение, о чем косвенно свидетельствует запись Прокофьева 1947 года в связи с постановкой «Дуэньи»: «К сожалению, мне не удалось быть на премьере "Дуэньи" в Ленинграде, но было приятно услышать от моего друга Д.Д.Шостаковича, побывавшего на "Дуэнье", его отличный отзыв об этом спектакле»[11].
Слова о «моем друге» звучат обязывающе. В то же время им трудно дать адекватную оценку, учитывая явно негативную позицию Прокофьева, занятую им по отношению к Шостаковичу на заседании пленума СК 1944 года. Вообще весь контекст действий и высказываний композиторов, даже и в бытность их товарищами по несчастью, скорее свидетельствует о глубокой личностной взаимоотчужденности, что ставит, кажется, окончательные точки над i в обсуждаемой теме. Можно сказать, что в данном отношении описываемый «двойной портрет» с успехом пополняет историческую галерею современников-антагонистов: Верди и Вагнер, Скрябин и Рахманинов... Упомянутые пары имен даже стали предметом литературной фантазии: вспомним рассказ Ю.Нагибина «Где стол был яств…», посвященный теме «роковой несовместимости» характеров.
Но обратимся все же к мемуарной литературе, в частности, к недавно опубликованным воспоминаниям Д.Толстого[12]. Д.Толстой пишет о полном несходстве вкусов и самих человеческих типов, которое обнаружилось, как только Прокофьев вернулся в советскую Россию и наши герои начали встречаться. «Столкнулись бесцеремонная прямота одного и болезненная ранимость другого»[13]. Мемуарист описывает характерный случай, происшедший на одном из домашних музыкальных вечеров, когда Прокофьев в пренебрежительно-резкой форме и в диссонанс к общей дружеской атмосфере вечера отозвался о Первом фортепианном концерте Шостаковича, только что сыгранном автором. После этого случая отношение Шостаковича к своему недавнему кумиру резко изменились. Инцидент имел необратимые последствия, став «поучительным примером на тему, как рождается вражда между двумя титанами»[14]. Согласно свидетельствам Толстого, отношения между Прокофьевым и Шостаковичем не восстановились по-настоящему и в 1948 году, когда композиторы «стали, встречая друг друга, улыбаться, жать руки и даже вести друг с другом легкие, "светские" разговоры»[15].
Подобные мемуарные свидетельства с психологической точки зрения весьма поучительны. В то же время они оставляют открытым вопрос о внутренних пружинах человеческих конфликтов, в частности, применительно к данной ситуации, – о первопричинах негативного, в лучшем случае – прохладно-сдержанного отношения Прокофьева к творчеству своего коллеги. Думается, за несходством характеров здесь действительно стояло несходство эстетических установок. С этой точки зрения высказывания Прокофьева о тех или иных сочинениях Шостаковича воспринимаются скорее как красноречивый автопортрет.
Например, упрек в «неустойчивом вкусе», адресованный тем страницам музыки Шостаковича, где использован улично-бытовой или кафешантанный материал, лишний раз говорит о специфическом вкусовом «герметизме» самого Прокофьева, избегавшего контактов с низовыми слоями культуры. Этот упрек, вкупе с обвинениями в несколько внешней, хотя и «блестящей» оркестровой изобретательности, предъявлялся не только Фортепианному концерту, но, по-видимому, и балетам, в частности, балету « Болт». В переписке Прокофьева и Мясковского есть место, где Прокофьев говорит о нежелательности исполнения сюиты из «Болта» в парижской программе советской музыки (дело происходило в 1934 году, когда Прокофьев еще проживал в Париже): «В Париже к советской музыке предъявляются требования несколько иные, нежели в Москве: в Москве требуют прежде всего бодрости, в Париже же в советскую бодрость уже давно поверили, но часто выражают опасения, что позади нее нет глубины содержания»[16].
Эстета Прокофьева коробил, вероятно, сам тип музыкального гротеска Шостаковича, в котором он находил «элемент некоторой грубости». За это он критикует, например, П часть Шестой симфонии, вспоминая заодно и некоторые эпизоды «Катерины Измайловой»[17]. Впрочем, еще более жестко оценивалась им третья, финальная часть той же симфонии, на этот раз – за недостаточную самостоятельность материала. Прокофьев полагал, что намеки на Россини и Моцарта не идут на пользу оригинальности этой музыки. Аналогичным образом не одобрял он и баховско-генделевские приемы в Фортепианном квинтете (сочинении, которое в целом было оценено им положительно). Порицания не избежало, в том числе, и замечательное Интермеццо: «длительную бесконечную мелодию на пиццикатном басу» Прокофьев расценивает как заезженный прием западных неоклассиков.
Если вспомнить здесь сходные стрелы, направленные против Стравинского («бахизмы с фальшивизмами»), то может закрасться подозрение о негативном отношении Прокофьева к неоклассицизму в целом. Но не странно ли звучит этот вывод применительно к создателю «Классической симфонии»? Вероятно, разгадка подобного парадокса таится в различии стилистических адресатов: охотно культивируя в собственном творчестве «классическую линию», композитор вместе с тем оставался чужд полифоническому конструктивизму барочного образца (о чем уже упоминалось выше). Возможно, имела значение и германская генетика этой традиции, также не близкая прокофьевской природе (в упомянутой таблице Л.Акопяна резонно указывается на большее духовное родство Прокофьева с французской культурой, которая часто позиционировала себя как антинемецкая).
Среди высказываний Прокофьева о Шостаковиче можно обнаружить весьма лестный отзыв о Пятой симфонии: «Многие места симфонии мне чрезвычайно понравились, - пишет он в письме к Шостаковичу от 5 июня 1938 года, - хотя стало ясно, что ее хвалят совсем не за то, за что надо хвалить; то же, за что надо хвалить, вероятно, не замечают»[18]. Прокофьев не поясняет здесь, за что же надо хвалить симфонию, приветствуя лишь сам факт появления «настоящей свежей вещи» в противовес «вчерашнему холодному», которым «кормят нас товарищи-композиторы»[19]. Но можно, по крайней мере, предположить, что бесспорная «творческая удача» Шостаковича начисто отводила упреки в недостаточной глубине содержания его музыки, которые Прокофьев склонен был предъявлять более ранним опусам композитора.
Тем более удивительной кажется его негативная оценка Восьмой симфонии, созданной во многом «по лекалам» Пятой. Прокофьев упрекает произведение в недостаточно интересном и выпуклом мелодизме: «Профиль мелодии Восьмой симфонии Шостаковича <…> скорее напоминает средний голос из четырехголосного сложения, чем тему для большой симфонии»[20]. По-видимому, ему мало что говорил сдержанно-строгий, избегающий «красивостей» мелодический слог сочинения. Раздражение вызывала и чрезмерная, на его взгляд, растянутость симфонии. «Если бы симфония не имела этой части (имеется в виду пассакалья, где Шостакович, по мнению Прокофьева, «не смог найти достаточно яркое противосложение» для поддержания слушательского интереса. – Т.Л.), а прямо бы перешла в заключительную часть с ее превосходной кодой, если бы симфония не имела второй части, которая не нова и грубовата (знакомая уже претензия. – Т.Л.), а были бы только первая, третья и пятая части, то я уверен, что споров об этой симфонии было бы гораздо меньше»[21].
Сегодня предложенные Прокофьевым «экстренные меры» по преодолению слушательского «утомления» в связи с Восьмой симфонией кажутся настоящей экзекуцией над гениальным творением его коллеги. К тому же в контексте упомянутых «споров», а точнее, «партийной критики» 1944 года (выступление прозвучало на заседании пленума СК СССР) такой отзыв объективно лил воду на мельницу официальных хулителей Шостаковича. Вместе с тем Прокофьева, в отличие, например, от Б.Асафьева, В.Белого или А.Иконникова, вряд ли можно было заподозрить в верноподданнических настроениях. Думается, решающим снова оказалось «несходство вкусов». В случае с Восьмой дело осложнялось еще засилием в произведении нелюбимых Прокофьевым медленных темпов и вообще отходом от той классической ясности целого, которая явно импонировала ему в Пятой симфонии Шостаковича.
Как же оценивал Шостакович Прокофьева? Известно, что он довольно нелицеприятно отозвался о кантате «Александр Невский» («слишком много там физически громкой иллюстративной музыки»[22]). Хотя в целом его высказывания, судя по известным отечественным публикациям, не слишком выходят за границы того официально-комплиментарного тона, который вообще характеризовал манеру Д.Д. (кстати, упомянутый выше «отличный отзыв» «моего друга Шостаковича» о ленинградской постановке «Дуэньи» был написан И.Гликманом). Зато в неофициальных «Мемуарах»[23] Прокофьеву (теперь уже, правда, покойному) возвращаются все долги. Здесь и застарелая обида на его критику, высказанную в безапелляционном тоне, и язвительный упрек в словесной примитивности прокофьевских суждений, не превышающих словарный запас Эллочки-людоедки. Плохо скрываемая антипатия по отношению к Прокофьеву-человеку проявляется также в оценке его сочинений, в частности, опер, в которых сюжет зачастую приносится в жертву внешним эффектам. Шостакович объясняет свое отторжение от Прокофьева эволюцией собственных вкусов – а именно начавшимся в определенный момент жизни увлечением Малером (Малер же и Прокофьев «несовместимы», как говорил И.Соллертинский; кстати, Прокофьев с известной поры называл Шостаковича «наш маленький Малер»). Однако весь тон его мемуаров, равно как и весь контекст взаимоотношений между двумя «титанами» советской музыки, указывает на более глубокую природу их человеческого и творческого антагонизма…
Возвращаясь к исходной точке разговора, уместно напомнить, что любые сравнительные характеристики, конечно, весьма относительны (Стравинский называл их «приятной игрой в слова»). По неизбежности они всегда схематичны и ориентированы лишь на ведущие, доминирующие в том или ином случае характерологические особенности, не исчерпывая всей полноты анализируемых явлений. Это относится и к нашему «двойному портрету». Прокофьев и Шостакович, каждый в отдельности, сформировали солидную слушательскую, исполнительскую и исследовательскую традицию. Современная наука расценивает их как явления столь же масштабные, сколь и внутренне автономные. И чем больше восходит научная мысль к «вертикальному», феноменологическому аспекту анализа, тем глубже осознается эта автономность, тем неопровержимее воспринимаются наши герои как самостоятельно существующие музыкальные галактики. Такими «непересекающимися мирами» Прокофьев и Шостакович оставались, очевидно, и при жизни[24]. И все же двум музыкальным гениям ХХ века суждено было встретиться – не столько в реальной советской действительности (где, выражаясь словами классика, они были погружены «в заботы суетного света»), сколько в метафизическом пространстве русской культуры, чью безграничную широту и разнополярность они сумели воплотить.
Публикуется в авторской редакции
Первая публикация: Музыкальная академия. 2006. №3. С.59 - 62
размещено 11.05.2007
--------------------------------------------------------------------------------
[1] См. Черты стиля Прокофьева. М., 1962. С. 9.
[2] См. сборник «Современная музыка и проблемы воспитания музыковеда». Новосибирск, 1988.
[3] Дмитрий Шостакович: опыт феноменологии творчества. СПб., 2004.
[4] Указ. изд. С. 164.
[5] При обсуждении этого понятия автор ссылается на известные работы В.Н.Топорова, прежде всего, на его статью «Петербург и петербургский текст русской культуры» // Метафизика Петербурга. СПб., 1993.
[6] Указ изд. С. 32.
[7] См.: Музыка Стравинского в стилистическом пейзаже эпохи // Искусство ХХ века: уходящая эпоха? Сб. статей. Т. 1. Нижний Новгород, 1997.
[8] Шнитке А. Слово о Прокофьеве // Советская музыка. 1990. № 11.
[9] Акопян Л. Указ. изд. С. 161.
[10] Сходная точка зрения высказывается также В.Орловым в его статье «Прокофьев-Шостакович: метафизика "света" и "тени"» // Гармония и дисгармония в искусстве. Нижний Новгород, 2006.
[11] Прокофьев о Прокофьеве. Статьи и интервью. Редактор и составитель В.Варунц. М., 1991. С. 214.
[12] Фрагменты книги «Для чего все это было» напечатаны в журнале «Музыкальная академия» (2003. № 3).
[13] Указ. изд. С. 79.
[14] Там же.
[15] Там же. С. 80.
[16] С.С.Прокофьев и Н.Я.Мясковский. Переписка. М., 1977. С. 415.
[17] Выступление на конференции писателей и композиторов // Прокофьев о Прокофьеве. С. 175.
[18] Прокофьев о Прокофьеве. С. 163.
[19] Там же.
[20] Прокофьев о Прокофьеве. С. 202.
[21] Там же.
[22] См.:Волков С. Шостакович и Сталин. Художник и царь. М., 2004. С. 448.
[23] Имеется в виду известная публикация С.Волкова, в частности, одно из последних изданий его книги: Memoiren des Dmitri Schostakowitsch. Herausgegeben von Solomon Wolkov. List Verlag, 2003. S. 102-106. Следует оговорить, что при всей критике в адрес этой публикации, нельзя не признать достоверности многих ее страниц, являющихся незаменимым свидетельством мыслей и настроений Шостаковича в последние годы его жизни. В оценке «Мемуаров» я придерживаюсь позиции, близкой той, что была в свое время высказана Д.Житомирским в статье «Шостакович официальный и подлинный» (Даугава. 1990. № 3-4).
[24] Напомним, что Прокофьев и Шостакович, среди прочего, принадлежали к разному человеческому кругу: Прокофьев еще в молодые годы выбрал в наперсники Н.Я.Мясковского, с которым долгое время переписывался, Шостакович же дружил с И.И.Соллертинским (позже – с И.Д.Гликманом). Нет сомнений, что за этими человеческими привязанностями стояла и близость позиций по многим коренным вопросам художественного творчества.
Борис АСАФЬЕВ Музыкальная форма как процесс (фрагменты из книги)
Глава I
[29]
ФАКТЫ И ФАКТОРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ И ФОРМОВАНИЯ
Два основных явления помогают постигнуть свойства процесса музыкального формования: 1) музыкальное движение (последование звуков друг за другом как взаимоотношение высотностей), 2) условия запоминания музыки или средства, какие выработало наше сознание для удержания протекающих созвучий. Временная природа музыки, ее текучесть, и — с другой [стороны] — вызванные этим особого рода способы запоминания неизбежно влияют на формы, в которых фиксируется музыкальное движение. Законы его, обусловленные самим звучащим материалом, не поддаются пока точному определению. Но, наблюдая за постоянно и повсюду во всякой музыке проявляющимися сходными явлениями в образовании музыкальной ткани, можно установить их закономерность через их же повторяемость. Изучение функций этих повторяемых явлений позволяет приблизиться к установке полезных рабочих гипотез и с их помощью систематизировать и приводить к единству многообразнейшие факты музыкального оформления.
Здесь необходимо сделать важную оговорку, что, при рассмотрении фактов и факторов музыкального движения и музыкального формования в данном исследовании, анализ ведется на музыке письменной, т. е. зафиксированной в нотных знаках. Каждая система записи в свою очередь окристаллизовывалась в результате длительных опытов и приспособлений, причем этапы музыкального формования, конечно, отразились на способах письменной фиксации музыки и в формах этой фиксации. Яркий пример: соотношение между невменным и мензуральным письмом. Первое — несомненный продукт музыки, только-только переходящей из эпохи устной традиции в эпоху «письменной
[30]
истории», и к тому же музыки, тесно спаянной со словом. Второе создалось в силу настоятельной потребности в создании самостоятельных от словесной метрики способов фиксации музыки ввиду развития полифонического мышления и других факторов (в числе их и лингвистических, как-то: новые национальные языки, их ритмика, их интонация). Если рост музыки требовал все более и более удобной и легко охватываемой нотации, то и, обратно, усовершенствование нотации помогало и творчеству и восприятию музыки, облегчая памяти процессы запоминания и увязки летучих звукосоотношений. Музыка устной традиции, включая как музыку первобытных культур, нашу крестьянскую песню, так и сохраняющие свое значение даже в далеко подвинутых музыкальных культурах навыки восприятия и сохранения музыки только «на слух»,— остается здесь в стороне. Это не значит, что в ней совсем иные принципы и приемы формообразования. Но все-таки своеобразие ее форм и даже ее характер во многом обусловлены ее «устностью». Предполагаю об этом изложить свои соображения в специальной работе, посвященной русскому крестьянскому песенному искусству.
Точно так же приходится ради большего сосредоточения внимания на изучении свойств и принципов формования музыки, вытекающих из законов ее движения и способов ее запоминания, оставить здесь в стороне ряд других факторов, влияющих на характер движения и формования, но не меняющих их по существу. Эти факторы можно здесь только перечислить. Прежде всего надо , принимать в соображение роль дыхания человека (его запас, силу и интенсивность) в формовании музыки не только вокальной, но и инструментальной, не только в музыке устной традиции, но и в письменной. Короткое или длительное дыхание влияет на строение и расчленение мелодий, на их сокращение и растяжение, на длину подъемов и ниспаданий мелодической дуги — словом, на динамику мелоса. В музыке устной традиции наблюдается большая разница между объемом напева в целом и его отрезков, смотря по тому, связана ли песня со спокойным положением организма или его движением и с формами этого движения. Песни протяжные и плясовые, песни, связанные с теми или иными процессами труда, формуются иначе, и у них не только ритмо-конструктивные различия, но иная интонационная природа.
Естественно также, что наблюдается разница в формовании мелоса сольных и хоровых песен, мелоса культового и уличного, салонного и кабацкого.[1] Место и среда, темп жизни
[31]
и социальная среда влияют на мелос. До сих пор очень мало (даже почти совсем не) учитывалось воздействие на формы музыкальной речи и на конструкцию музыкальных произведений методов, приемов, навыков и вообще динамики и конструкции ораторской речи, а между тем риторика не могла не быть чрезвычайно влиятельным по отношению к музыке как выразительному языку фактором. В особенности если принять еще во внимание агитационное значение музыки (хотя бы культовой). И протестантские и католические композиторы, особенно XVII и XVIII веков, во многих отношениях были выдающимися ораторами, если не всегда религиозными проповедниками в своей музыке, и эта установка влияла на процесс формования. Различие между камерными и концертно-симфоническими формами музыки, между музыкой лирико-созерцательной (высказывания и признания как бы для себя — своего рода интроспекция) и музыкой действенной в сильной степени покоится на присутствии или отсутствии момента риторической направленности и наличии агитационности (большое расстояние в этом отношении между какой-либо салонной «песнью без слов» и мессой). Но, с другой стороны, какая-либо лаконичная уличная песня может быть действеннее громадной по масштабу интроспективной симфонии.[2]
Еще чрезвычайно важный фактор, влияющий на процесс музыкального формования и на результат процесса — на произведения, — это музыкальные инструменты, их материал, их строй, тембр, техника игры на них etc. Конечно, данный фактор понимается как формообразующий в том случае, если отказаться от абстрактного представления о форме в музыке и от чисто зрительно-архитектонического понимания ее в виде количества количества тактовых единиц. Мелодии в 16 тактов, допустим, даже со скодными кадансами и одинаковыми модуляционными отклонениями, но сочиненные одна, скажем, для скрипки, с использованием всех возможностей, которые дают ее диапазон и смычковые штрихи, другая же для английского рожка,— будут различаться в отношении формы. Это произойдет у них, несмотря на сходство многих элементов, и произойдет уже оттого только, что они сочинены в характере данных инструментов, и различие скажется непременно в мелодическом рисунке, в его протяженности, в расчленении его, в длительности, в диапазоне, в его, так сказать, мускулатуре и дыхании. Но влияние инструментализма вообще как фактора формы на самом деле еще гораздо сильнее. Достаточно указать
[32]
на колоссальное формующее значение, которое имеют «волыночные» («бурдонные») басы в первобытных формах, и как потом они сказываются в богатых и развитых музыкальных культурах в виде приемов basso ostinato, органных пунктов (педалей) и т. д. Инструментальный cantus firmus средневековья является точно так же одним из преломлений принципа бурдона, потому что цель его — объединять, связывать и поддерживать расцветающую полифоническую ткань.
Большее или меньшее наличие декоративных (орнаментальных) элементов в сочинении тоже относится не только к фактуре и не только служит показателем стиля, но имеет значение и в отношении формы, хотя бы уже потому, что есть большая разница между мелодической линией, в которой имеются лишь органически и конструктивно обусловленные, формирующие ее звучания, и между линией, движение которой «окутано» орнаментом. Кроме того, достаточно часто наблюдаемый в мелодическом рисунке процесс превращения декоративных элементов в основные, определяющие лад мелодии и получающие значение гармонических функций,— определенно указывает на необходимость считаться с инструментально и вокально декоративными элементами как с факторами формования. Но поскольку, с другой стороны, на характер орнаментики преимущественно влияли инструменты и их конструктивные свойства, постольку и в данной области надо видеть весьма активное воздействие на форму, идущее от инструментализма. В этом отношении старинное деление музыкальных форм на вокальные и инструментальные имеет свое полное основание, и преобладание в данной местности, стране или народе вокальной или инструментальной практики музыки неизбежно влияет на образование тех или иных принципов и приемов формования звучащей ткани.[3]
После этого неизбежного отступления можно сосредоточиться на некоторых основных фактах в области музыкального движения, временно не касаясь вида их звучания (человеческий голос или инструмент). Понять форму музыкального сочинения — это значит уяснить целесообразность продвижения воспринимаемого слухом потока звучаний, отдать себе отчет, почему движение продолжается, то сокращаясь, то растягиваясь. Еще раз повторяю уже сказанное: чтобы осознать произведение, люди инстинктивно сравнивают между собою «моменты» протекающей музыки и в памяти своей запечатлевают сходные и часто повторяющиеся комплексы созвучий. Эти созвучия мало-помалу фиксируются в сознании и стано-
[33]
вятся легко узнаваемыми, знакомыми, приятными. При слушании каждого нового сочинения люди сравнивают неизвестные комплексы звучаний с известными и производят отбор, резко отталкивая особенно непривычные сочетания. Повторное слушание, однако, постепенно вызывает узнавание в непривычном связи со знакомыми звукоэлементами. Исходя от окристаллизовавшихся в памяти, в силу развития слуховых навыков, звукоотношений, слух втягивается в поразившие его своей новизной созвучия и устанавливает большее или меньшее сходство их с прежними. Музыкант-специалист и рядовой слушатель различаются друг от друга только в том отношении, что у первого в сознании гораздо больший запас готовых, строго систематизированных звукосоотношений, тогда как у рядового слушателя их меньше, и он чаще всего удовлетворяется только привычными слуховыми навыками и узнаванием отдельных моментов, а не общей функциональной их связи. Степень предубеждения к новому, однако, тем самым не уменьшается у специалистов в сравнении с только любителями музыки. Нередко она даже повышается у них из-за неспособности проникнуть в чуждый и непривычный склад мышления: настолько властно в их сознании оседают и делают его инертным прочно усвоенные в музыкально-профессиональной практике привычные нормы и формулы звукосочетаний и перестановок. Одна последовательность неизбежно вызывает другую, и всякая неожиданность профессиональным слухом ощущается как резкое нарушение закономерности.[4]
Сходный процесс цепляемости за привычные созвучия или отталкивания от них, сравнения и отбора происходит и у композитора при творческой работе. Большая или меньшая выразительность, оригинальность и новизна создаваемой музыки в сильной мере обусловливаются чувством связи между различными моментами музыкального движения и непривычными еще для многих людей, а для сознания композитора уже вполне осознанными звукосоотношениями. Инертность или активность в композиторском творчестве зависит от такого выбора между пассивно пребывающими в памяти, издавна усвоенными сочетаниями (творчество по линии наименьшего сопротивления всегда покоится на комбинировании в простейших вариантах привычных слуху соотношений), и еще «не преодоленным материалом», между вполне рационально обоснованными сопряжениями звуков и до поры до времени необъяснимыми, кажущимися иррациональными, находками и новыми перспективами. Часто наблюдаемый факт и в консерваториях, и в музыкальных училищах, и при внешкольном обучении музыкальной композиции:
[34]
ученики особенно даровитые и с ярким отпечатком индивидуального таланта, сочиняющие музыку еще до усвоения правил голосоведения и гармонии, очень долго инстинктивно и упорно противятся механическому и пассивному усвоению готовых рецептов техники. Эти рецепты представляются им в облике схоластических тезисов или обветшавших формул. Они, естественно, боятся заражения «инертностью» и ищут не застылых, пассивно воспринимаемых схем, а усвоения техники как общих принципов и приемов овладения материалом. Замена таких принципов и приемов подстановкой издавна заготовленных звукосочетаний, считаемых за абсолютно правильные, конечно, пугает всякое сильное дарование.[5]
Исходя из сказанного, можно утверждать, что до высших своих ступеней (преобладание интеллектуальных факторов и актов мышления над инстинктивным комбинированием звуков и преобладание моментов изобретения над пассивным вариантным воспроизведением знакомых интонаций) творчество, а следовательно, и процесс оформления в музыке проходит ряд длительных стадий. С течением времени вырабатывается в данной среде «социальная инерция» в отношении к музыке — фактор громадного значения для формы и для кристаллизации социально прочных и ценных звукосопряжений, но в той же мере противодействующий быстрому наплыву творческого изобретения. Различные стадии творческого процесса наблюдаются не только в исторической последовательности, но существуют в каждой данной среде в каждую эпоху. Примитивнейший вид— это творчество «на память», стремление фиксировать (и испытываемое при этом чувство удовольствия) понравившиеся или особенно приятные организму, своим частым повторением возбуждающие или успокаивающие его, усвоенные и повырванные из различных музыкальных впечатлений созвучия. Этот низший вид звукокомбинирования крайне ограничен и случаен. Момент изобретения тут почти отсутствует, точно так же, как и процесс музыкального мышления. Созвучия сопоставляются друг с другом привычной стезей, и нанизывание их одного за другим художественной целесообразности не имеет, а обусловлено только исканием психофизиологического непосредственного воздействия, исходящего именно от таких привычных сочетаний. Обычно — это настойчивое повторение очень затрепанных кадансовых формул как точек опоры, вокруг которых крутятся, с постоянным к ним возвращением, «случайные» сочетания. Сознательно организованного длительного движения музыки в виде развития данных звукосоотношений здесь еще
[35]
нет. Характерный «облик» такой музыки — это гипнотизирующее повторение одной и той же формулы, что можно и до сих пор наблюдать в бытовом музицировании при использовании формулы совершенного каданса в качестве возбудителя пляски. Уже самый факт обнаружения (интонирования) знакомого, ничем не возбуждающего сопротивления звукового комплекса, привычно оформленного, является достаточным стимулом для бесконечных его повторений.
Это примивный вид творчества. Но творчество стимулируется восприятием, и потому нет ничего удивительного в том, что рядовой слушатель воспринимает музыку как ряд «отдельностей», приятных или досадных, радуется многократному вариантному появлению тождественных знакомых ему созвучий и относится с недоверием к чуждым сочетаниям. Примитивные стадии восприятия, как и первичные творческие навыки, исходящие из конкретно утилитарных биологических и психофизиологических потребностей в возбуждении организма звуками, всегда свидетельствуют о присутствии в них упорной цепляемости за повторность сходных элементов, а также о стремлении не столько к длительному развитию, сколько к вариантному повторению крепко усвоенных и зафиксировавшихся в памяти звукоформул.[6] Конечно, вызывание музыкой мускульно-моторных ощущений и, обратно, потребность в музыке как организующем и обобществляющем эти ощущения (ходьба, пляска) средстве («раздражителе») в сильной степени содействовали укреплению творческих навыков, устремленных к тому, чтобы на одном и том же ритмическом стержне строить несложные в интонационном отношении мелодические образования и повторять их, варьируя или чередуя со столь же несложными и близкими к ним инообразованиями. Отсюда рост ритмо-интонационных формул маршей, танцев etc.
В противоположность рядовому слушателю музыкант-специалист прежде всего направляет свое внимание к схватыванию отношений в музыке и к пониманию связи и анализу причин этой связи между последованиями звуков во времени и между комплексами звучаний, отдаленных друг от друга на большие расстояния (в смысле срока появления их в сознании слушателя, а не в смысле конкретно осязаемых расстояний, как в пространственных искусствах). Слух музыканта старается установить взаимотяготение звукосочетаний в их продвижении и свести к рациональному единству все разнообразие их отношении друг к другу. Чем непривычнее сочинение, тем больше слух поражается этим разнообразием. Чем прочнее и устойчивее
[36]
кристаллизуются в сознании (и при этом еще у большинства людей ассоциируются с различными немузыкальными представлениями и связываются с «эмоциональным тоном» жизневосприятия) основные и характерные для данного времени и среды формулы звукосопряжений,— тем сильнее и продолжительнее будет противодействие разнообразию и тем длительнее процесс «связывания» кажущихся отдаленными друг от друга сочетаний с системой привычных звукоотношений. Таким образом, при усвоении музыки происходит постоянная борьба между окристаллизовавшимися в памяти звукосочетаниями (обычно таковые и воспринимаются как формы, а из них уже извлекаются конструктивные схемы, по которым происходит обучение «формам») и между столь же постоянным процессом формования, т. е. приведением к некоторому рациональному единству многообразия звукоотношений, стимулируемого творческим инстинктом в поисках новых раздражителей.
Таким образом, в отличие от первичных музыкально-творческих навыков, в которых очень сильна зависимость от внемузыкальных факторов, последующие стадии композиторства заключают в себе интерес к преодолению инертности музыкального материала (конечно, и к преодолению инертности собственного сознания и роста в нем стремления к усвоению чисто музыкальных отношений — то, что можно назвать зарождением «профессионального музыкального сознания»). Это преодоление сказывается в организации и развитии материала на основе его динамических свойств — процесс, происходящий под влиянием ряда промежуточных ступеней как стимулов, начиная от производственных отношений (с усложнением которых усложняется и музыка, что убедительно доказывает эволюция хозяйства европейских городов), а не под воздействием обнаженных психофизиологических факторов, т. е. примитивной потребности в частом повторении возбуждающих или успокаивающих организм звукосочетаний как «моментальных» раздражителей[7]. Здесь вырабатываются принципы оформления материала, которые рационально обобщают весь процесс формования (только что указанный) и приводят к развитию протяженных форм со сложными соотношениями составляющих их элементов и свойственных им функций. Эти формы, конечно, развиваются в тесной связи с ростом всей культуры человечества в данный период времени и в данной стране.
Глава VIII
ФОРМЫ, БАЗИРУЮЩИЕСЯ НА ПРИНЦИПЕ КОНТРАСТА (1)
[119]
Наивысшее выражение этого принципа — форма сонатного (симфонического) аллегро. Схема аллегро проста: экспозиция, разработка, реприза. За ней скрывается процесс: толчок — нарушение равновесия — восстановление равновесия. Микрокосм, в котором запечатлелся этот процесс, представляет собою формулу совершенного каданса. Иначе говоря, сонатное аллегро по отношению к этой органической формуле (клетке) является развитым организмом. Процесс формообразования каждого сонатного аллегро воспринимается как полагание контрастного материала: сперва раскрывается одна «тоническая» группа тем (главная партия), затем — вторая, чаще всего «доминантовая» группа (побочная партия). Так называемая связующая партия переключает музыку из одной тональной сферы в другую и выступает как крайне существенный, организующий движение фактор. Привитое ей название «ход» слишком поверхностно отражает сущность процесса. Дело в том, что эта «музыка связи» должна не столько механически переключить слух из одной сферы в другую, сколько, развивая данный тезис (главная партия), вызвать из него же и противопоставить ему антитезис (побочная партия), но сделать это с максимальной экономией времени и средств выражения, чтобы за дальностью расстояния не исчезло главное — острота контраста двух партий, двух тональных сфер (обычным соотношением бывает тонико-доминантовое).
[120]
Эта противополагаемая по своему характеру главной партии новая тема (группа тем) в новой тональной сфере закрепляется развитым кадансом — музыкой утвердительного, устойчивого склада, часто с новым тематическим материалом (так называемая заключительная партия). Динамика процесса ясна: одна сфера не механически сопоставляется с другой, а своим развитием неизбежно вызывает другую как свой антитезис. Из сопоставления возникает возможность дальнейшего движения музыки. Даже больше, чем возможность,— необходимость, потому что в условиях тональной системы данное соотношение тем (можно сказать: строфа — антистрофа и эпод) воспринимается как крайне неустойчивое и контрастное.[8] Оно возникло из долгих и упорных исканий и опытов прорастания движения из тонико-доминантового комплекса (толчка). В непрерывности движения сонатной экспозиции было достигнуто непрерывное же контрастное тематическое становление, в котором даже момент замыкания движения (каданс в заключении экспозиции) одновременно является и тормозом и — в силу того, что он
[121]
закрепляет новый тематический и тональный комплекс,— мощным двигателем музыки. Создавая сама по себе впечатление достигнутого равновесия, заключительная партия в отношении ко всему предшествующему продвижению музыки не является моментом восстановления создавшегося неравновесия. Наоборот, она его как бы утверждает и тем самым обостряет, а следовательно, неизбежно и интенсивно вызывает продолжение движения.[9]
Это естественно. В своем развитии экспозиция сонатного аллегро направлена к заострению неустойчивости все в более и более сильной степени. Главным средством к тому служит внедрение контрастности во все соотношения (тональные, ритмические, конструктивные) элементов становления и вызывание конфликтности в самой исходной сфере -— в изложении главной партии,— не говоря уже о связующей и побочной партиях. По мере все большего развития в главной партии, связующая партия теряла свой специфический смысл музыки, «переключающей» движение из одной тональной сферы в другую, и сливалась с развитием первой группы тем или главной партии. Но тем острее, при все более и более конфликтном характере изложения главной партии, выступало отличие ее от побочной партии и их взаимная «антитетичность». Лирико-мелодический и несколько пассивный характер движения, свойственный побочной партии, или же ее преимущественно мелодическое становление противополагается упругой, лаконической и рельефной, даже «напористой» главной партии. Образно говоря, исходная тема сонаты должна обладать «волей к развитию», в ней должна быть конденсирована энергия большой силы напряжения.[10]
Эти непременные данные усиливаются в колоссальной мере, когда главная партия вытекает из предшествующего ей медленного вступления (новая стадия контраста в экспозиции) и сама является антитезой к этому введению. Чем оно монументальнее и чем с большей силой и напором из него устремляется,
[122]
как горный поток из скалы или как стрела, первая тема,— тем интенсивнее, энергичнее и дальнодейственнее разбег всей главной партии (бетховенские симфонии — Первая, Вторая, Четвертая, Седьмая, Девятая дают тому блестящее подтверждение) и тем острее ее контраст со сферой побочной партии. Здесь нет возможности подробно останавливаться на том, как великие мастера симфонии достигают максимальной выразительности экспозиции; как происходит накопление энергии во вступлении, как тормозится в нем движение, чтобы тем более упругим и стремительным ощущалось аллегро; как строится главная партия, как она излагается и как изложение это обусловлено всей динамикой экспозиции. Через уяснение функций контрастности, присущих основным звукокомплексам (сопряжениям) европейской интонационной системы от Баха до Шёнберга и Стравинского, через анализ процесса формообразования на непременной основе слышания (постоянного ощущения интонационной энергии, ее колебаний, переходов — неожиданных и постепенных,— ее накопления и ее разрядов) — всякое органически создавшееся музыкальное становление воспринимается как динамическое и становится полной противоположностью господствующему чувственному наслаждению отдельными моментами музыки и абстрактному постижению формы как схемы путем зрительного анализа беззвучных горизонталей и вертикалей.
Подобного рода абстрагирование ведет к ложным антидиалектическим воззрениям на природу и смысл музыкальных форм и к полной оторванности формы от содержания, ибо форма, как беззвучная архитектоническая схема, не дает познания музыки и превращается в нейтральную среду, наполняемую любым содержанием. Мне думается, что исторические корни подобных воззрений лежат в рационалистической эстетике, базировавшейся на изобразительных искусствах. В наше время они — наследие ленивого филистерства в музыкознании, плод инертного сознания и веры в то, что в схемах умещается вся музыка. Освободиться от них можно только наблюдая форму как текучий и изменчивый процесс, направляемый извне действующими стимулами и силами и вместе с тем управляемый присущими музыкальному материалу свойствами формования. Свойства же эти в свою очередь отнюдь не принадлежат музыке, как механические, вне человеческого организующего сознания лежащие двигатели. Они образовались в эволюции восприятия текучего музыкального материала и обусловлены восприятием. В этом смысле есть глубокая разница между звуком как явлением физическим и звуком как явлением музыкальным.
Возвращаясь к описанию развития движения в сонатном аллегро, напомним, что присущий большинству классических
[123]
и романтических сонат прием повторения экспозиции вызван необходимостью закрепления и усвоения (запоминания) сознанием столь сложного и длительного ряда тематических взаимоотношений. Тем самым вносится элемент тождественности, и в памяти с большей прочностью фиксируется только что пройденный этап. Как было указано, конечная стадия экспозиции утверждается (замыкается) развитым кадансом в новой, «завоеванной» тональной сфере. Повторяю, что утверждение новой тональной сферы, однако, не воспринимается сознанием как конец или полное замыкание движения. Наоборот, в отношении к основной тональной сфере заключительная партия звучит контрастно, как «гребень», перевал или крайняя ступень неустойчивости и настойчиво вызывает последующее движение.
В центральной части сонатного аллегро, в так называемой разработке, создавшаяся неустойчивость подчеркивается еще острее, и все становление музыки становится интенсивнее. В этой стадии принцип контрастных сопоставлений господствует в полной мере:[11] все, что было высказано в экспозиции в последовательном ходе «событий»,— в «разработке» перемещается и вступает в новые ряды соотношений. Противоположение тематических планов на расстоянии переходит в столкновение контрастирующих элементов в непосредственном их сближении, в соприкосновении и скрещивании. Достигается это самыми разнообразными приемами. Композиция разработки иногда повторяет экспозицию в расширенном виде, почти не перемещая элементов, а иногда совершенно перетасовывает имевшие место соотношения и выдвигает на первый план те частицы материала, которые казались при восприятии экспозиции второстепенными и несущественными. В каждой из разработок несомненно проявляется закономерность оформления, но пока еще нет возможности исчерпывающе вскрыть причины, по которым материал видоизменяется так, а не иначе. Общая причина — стремление к вскрытию диалектики тем — конечно, всегда присутствует и обусловливает отбор материала. Можно в каждом отдельном случае наблюдать, как недосказанное или только намеченное в экспозиции превращается в разработке в завершенное высказывание, как раскрываются новые функции и новые экспрессивные возможности в, казалось бы, вполне утвердивших себя звукокомплексах. Можно отметить два основных русла, по которым направляется диалектическое становление тем в разработке. Или это становление являет собою динамически контрастную «игру» тематических фрагментов, без четко выраженных смен подъема (нарастания) и разряда;
[124]
или, наоборот, это единая линия нарастания сил до намеченного предела. Или разработка строится в параллельных (но в разных тональностях) проведениях какого-либо из крупных отделов ее — в чем проявляет себя принцип тождества. Или она становится лаконичной настолько, что сводится к проблеме обратного перемещения только что достигнутой тональной сферы или к гибкому и сжатому «переводу» ее в главную тональность (например, лаконизм в увертюре к «Женитьбе Фигаро» Моцарта!). Но в большинстве случаев целеустремленность разработки видна в максимальном раскрытии тональных контрастных соотношений между сопрягаемыми элементами и во внесении сюда, в эту область, различного рода неожиданных для слуха поворотов и отклонений движения. Например, вместо тонально последовательного «соседства» образуются элизии между теми или иными комплексами интонаций:[12] наблюдается стремление превратить каданс из замыкающего и завершающего ту или иную стадию движения фактора в фактор, стимулирующий дальнейшее движение (различные виды «ложных» кадансов).
Но, несмотря на «культивирование» в разработке разного рода «неожиданностей», можно все-таки заметить естественную закономерность движения: всякая элизия через некоторое время заполняется или уравновешивается, всякое отклонение пути оправдывается закреплением на той точке опоры, ради достижения которой необходимо было сделать «скачок» или сдвиг в сторону, чтобы тем настоятельнее дать почувствовать слуху неизбежность восстановления равновесия. Всякий «перебег», «заскок», переброска движения через ожидаемое звуко-соотношение или через естественный и последовательный для данного комплекса звукоотношений вывод так или иначе мотивируется и служит той же цепи — более твердому закреплению на опорной интонации.
Опубл.: Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. М.: Музыка, 1971. С. 29 - 36, 119 -124.
Использованы материалы сайта http://nfilatova.ru/tems/index.php
размещено 27.04.2009
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Кое-что в этом отношении дает сообщение М. Фрилендера “Eigenleben von Volksliedmelodien” (Bericht ueber Musikwissenschaftlichen Kongress in Basel. Leipzig, 1925)
[2] Я здесь только намечаю вкратце влияние ораторской речи или, вернее, самой сферы «ораторства» на музыку. Мысль эта всплыла в моем сознании почти одновременно с соображениями по этому поводу у А.Шеринга и у И.А.Браудо.
[3] В эпохи, когда формы еще не отождествлялись со схемами, с «костяками», в эпохи «импровизационного оформления» любопытно наблюдать, как «пересадка» произведения из одной сферы музицирования в другую являлась вместе с тем и процессом формования (например, в ренессансовой – лютневой и органной музыке; то же и в эпоху барокко).
[4] Социальная инертность восприятия имеет, словом, свои плюсы и минусы у профессионалов и у рядового слушателя.
[5] Мусоргский в данном отношении выступает как характерный тип композитора большой силы изобретения, упорно стремившегося охранить себя от влияния общепринятых форм-схем, от «инерции» в творчестве.
[6] Можно сказать: ритмо-интонаций, ибо ритмические факторы в этой стадии «обнажены» до полного почти оттеснения мелоса как самостоятельной области интонирования.
[7] Поэтому надо остерегаться преувеличивать биэмоциональное значение и сексуальное воздействие как якобы единственное предназначение музыки.
[8] В фуге это соотношение дано в самой тесной связи и в сопоставлении вождя и спутника; в концертирующем стиле оно становится формулой экспозиции первого руководящего комплекса интонаций (это еще не совсем тема). Изложение, подобное баховскому (начало Пятого Бранденбургского концерта)
имеет множество вариантов и находит в доклассической сонате, концертах, в аллемандах и т.д. множество применений на более или менее близких и далеких расстояниях. Можно сказать, что соотношение вождя-спутника расширялось до контрастного соотношения тональных сфер на основе общего тематического комплекса. Контраст тональных сфер установился раньше, чем четко выделилась контрастная тема в контрастной сфере: это выделение и является тем «скачком», который определил форму сонатного аллегро в ее диалектическом становлении. И здесь, как в появлении имитации, как в возникновении оперы, как в образовании классической фуги, - мы имеем перед собой последовательную цепь событий, приведших к данному «открытию», но само-то это «открытие» выступает как переход количества в качество – как скачок, и подтвердивший и вместе с тем взорвавший эволюционный ход вещей.
[9] Вообще мне думается, что моменты связи и перехода (связующая партия) и момент замыкания и утверждения (заключительная партия) суть моменты, определяющие собою характер и интенсивность противоречий, раскрывающихся в развитии сонатного движения, - словом, это моменты «взрывчатые».
[10] Понятие «тема» - глубоко диалектично. Тема – одновременно и себедовлеющий четкий образ, и динамически «взрывчатый» элемент. Тема – и толчок и утверждение. Тема концентрирует в себе энергию движения и определяет его характер и направление. Несмотря, однако, на свое главное свойство – рельефность, тема обладает способностью к различнейшим метаморфозам. Ее функции – контрастны. Своим становлением тема вызывает отрицающие ее новые образы и, противополагаясь им, утверждает себя. Тема – это яркая, находчивая творческая мысль, богатая выводами идея, в которой противоречие является движущей силой. Так вкратце я суммирую свои выводы из изучения тем классических и романтических симфоний.
[11] Выступая как наиболее динамичный фактор музыкального развития.
[12] Элизией является, например, выключение связующего или «разрешающего» аккорда в цепи вертикалей (последования септаккордов – доминант- или уменьшенных), т.е. замена двухчастных сочетаний одночастными, тождественными по построению, но контрастными в тональном отношении. Элизией будет всякий резкий междутональный скачок.
М.Е. ТАРАКАНОВ Замысел композитора и пути его воплощения
Определение путей воплощения композиторского замысла — едва ли не самая… Хорошо известно, что даже методы самой строгой из наук не обещают нам точных ответов на все поставленные задачи. Есть…М. АРАНОВСКИЙ Психическое и историческое
Пытаясь определить те психические силы, которые обеспечивают творческий… Талант - одна из великих тайн природы, сравнимая разве что с причиной происхождения Вселенной или индивидуального Я.…А. ШОПЕНГАУЕР О сущности музыки.
I. [1]Е. ДУКОВ Бал как социальная практика в России XVIII-XIX веков
Охотно верю, что предложенное название статьи отпугнет не одного читателя и…А. СЕЛИЦКИЙ Парадоксы бытовой музыки
Музыка быта сопутствует человеку постоянно, привычно и порой незаметно. С… Разумеется, о музыке быта написано немало. Запечатлены - как в мемуарно-эпистолярных источниках, так и в…О. ЗАХАРОВА Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII века: принципы, приемы
[4]Я. ОСИПОВ. О коми музыке и музыкантах. Гл. 2: О народной песне
[21]
Глава II
О НАРОДНОЙ ПЕСНЕ
Древний этап напевов отличает узкий звуковой объем, отсутствие внутрислогового распева, повторность одинаковых интонаций и ритмических рисунков.… Совершенствование и обновление напевов зависит от многих причин. И прежде… Национальный характер коми складывался в условиях севера,ПРИЗНАКИ РОДСТВА В КОМИ И УДМУРТСКОЙ МУЗЫКЕ
В далекие времена коми и удмурты имели общий единый язык, распевали одни песни. Какие же изменения произошли в пермской народной музыке, с тех пор… На эти вопросы музыковедение пока не дало ответа. А без разрешения этих… Здесь я коснусь лишь некоторых признаков родства коми и удмуртской музыки.Эдисон ДЕНИСОВ Музыка и машины
Небольшое введение
В наше время в музыке происходит эволюция, настолько быстрая и далеко идущая в своих возможных последствиях, что у многих возникает вопрос: «А не лежат ли уже эти поиски за границами музыки как искусства?» И в прежние времена наблюдались резкие переломы в развитии искусства, ставившие вопрос о его границах, но никогда еще эволюция не происходила столь быстрыми темпами.
Прежде чем ввести читателя в круг проблем современной музыки, попытаемся хотя бы кратко охарактеризовать те объекты, которыми оперируют композиторы. Элементы, составляющие музыкальное произведение или. как их называют, звуковые объекты, могут быть либо изолированными звуками, либо звуковыми комплексами (аккордами), имеющими значение самостоятельных звуковых объектов. Плотность аккорда зависит от количества составляющих его звуков и от их взаимного расположения. Фактически, всякое музыкальное произведение является распределением, а определенном промежутке временного континуума суммы единичных и комплексных объектов, причем все эти объекты не могут быть рассматриваемы как изолированные и имеющие самодовлеющее значение. Они тотчас же вступают в цепь взаимоотношений не только с близлежащими к ним элементами (по вертикали, горизонтали и диагонали[1]), но и в более сложные отношения с отдаленными друг от друга объектами. Наиболее элементарно отношения на расстоянии устанавливаются тогда, когда один или несколь-
[150]
ко объектов повторяются в первоначальном или измененном виде (в иной, например, конфигурации) через определенный промежуток времени, создавая внутреннюю репризность. Звуковые объекты претерпевают эволюцию, развиваются, модифицируются, возникают вновь в обновленной форме, устанавливают связи как с прошлым (по течению музыкального времени), так и с будущим.
В музыке XVIII—XIX веков взаимосвязь объектов наиболее ясна и легко воспринимаема: при наличии тональных связей и устойчивого центра все взаимоотношения звуковых объектов становятся функциональными. В добаховской музыке и в так называемой новой музыке связи гораздо более сложны и тонки.
Выбор звуковых объектов и их взаиморасположение являются основой композиции[2]. Естественно, что сознательность выбора составляет основу композиции: выбирая объекты, мы, тем самым, определяем ту материю, которую будем подвергать оперированию[3].
Таре Music
Звуковыми объектами предшествующих эпох были исключительно так называемые музыкальные звуки, то есть те, которые могли быть извлечены либо… В наше время благодаря изобретению магнитофона композиторы получили почти…Некоторые плюсы и минусы
Подрывает ли Таре Music основы того, что мы привыкли называть музыкой? Нет, и ни в коей мере. Появление электронной и конкретной музыки можно, вероятно, считать наиболее… При всем богатстве возможностей, открывшихся перед нами с изобретением электронной и конкретной музыки, они весьма…Что такое «сочинение музыки»?
У читателя может создаться впечатление, что речь идет о вещах, лежащих где-то на границе музыки, если уже не за ее пределами. Однако вряд ли… Вероятно, некоторым покажется непривычным применение слов «звуковой объект»,…Музыка и машины
Новые возможности монтажа увеличили степень контролируемости процесса сочинения музыки, но сам этот процесс сильно усложнился. Более сложный и требующий новой координативности звуковой материал при работе зачастую обнаруживал совершенно новые…Музыка и живопись
В заключение немного вставимся на проблеме синтеза двух видов искусств — живописи и музыки. Всякое произведение живописи является размещением в двумерном пространстве (на… Близкими по смыслу элементами оперирует и композитор. Всякое музыкальное произведение является размещением в…Маленькое заключение
Научные открытия XX века проникли к в область искусства, оказав влияние на технологию творчества. Композиторы впервые получили реальные возможности
контролируемого выполнения сложных операций в зыбком мире звуков.
Сейчас происходит процесс непрерывного расширения выразительных средств музыки, включения в этот мир все новых и новых звучаний, непрерывного образования новых форм, обнаружения новых и неведомых процессов жизнедеятельности музыкальных организмов. Некоторых, вероятно, шокирует проникновение вычислительных машин в те области, которые веками считались чуждыми всякой «машинизации, но человеку не нужно бояться «конкуренции» со стороны машин.
При любой степени совершенства машина никогда не станет не только «гениальным», но и «талантливым» композитором. Даже идеальная машина не сможет обрести то неуловимое, что всегда будет разграничивать живую природу и неживую (пусть и доведенную до идеальной степени совершенства). Машина всегда будет имитатором, при всей самостоятельности предоставляемого ей выбора и при превосходящих человека способностях собирания и распределения информации. По машина станет помощником композитора, избавив его от потери огромного количества времени на технологические расчеты и построения, которые усложняются в нарастающей прогрессии по мере расширения сферы выразительных средств музыки. Как пишет Я. Ксенакис: «Композитор, освобожденный от скучных расчетов, может больше посвятить себя общим проблемам, поставленным новой музыкальной формой, и исследовать изгибы и закоулки этой сферы, изменяя стоимость начальных данных. Например, испытать все инструментальные комбинации, начиная с солирующих инструментов, через камерные оркестры до больших оркестров. Композитор с помощью электронного мозга прекращается в пилота, нажимающего на кнопки, вводящего координацию и наблюдающего циферблаты космического корабля, плывущего в пространстве звуков, среди звуковых созвездий и галактик, которые туманно вырисовывались ему лишь в далеких грезах.
Теперь он может их свободно исследовать, сидя в кресле"[10].
Опубл.: Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М.: Советский композитор, 1986. С. 149 - 162.
размещено 15.11.2007
[1] В музыке XII—XVI веков звуковые объекты взаимодействовали, преимущественно по горизонтали, так как гармония как осознанный фактор почти не применялась; в музыке XVII—XIX веков вертикальные взаимоотношения объектов стали почти самодовлеющими. горизонтальные их взаимоотношения значительно упростились; в музыке XX века, одновременно с возвращением весьма сложных типов горизонтальных взаимоотношений звуковых объектов и обогащения вертикальных, возник новый тип их взаимодействия — диагональный, при котором в тесное взаимодействие вступали объекты, расположенные в удаленных друг от друга точках звукового пространства (первым диагональное взаимоотношение объектов применил А. Веберн в ряде своих сочинений).
[2] С проблемой выбора объектов мы встречаемся в живописи, скульптуре и литературе, не говоря уже о кино, где эта проблема, начиная со сценария и актеров и до окончания монтажа (отбор «дублей» и их взаиморасположение), быть может, наиболее четко просматривается.
[3] Мы здесь пока не затрагиваем вопрос о цели (или смысле) взаиморасположения звуковых объектов, то есть, иначе говоря, вопрос информации, которую несет в себе всякое произведение искусства. Для того, чтобы говорить об общих закономерностях музыки, необходимо временно отвлечься от так называемых «несущественных» признаков (в противном случае становится невозможным наблюдение этих закономерностей и, тем более, их обобщение).
[4] Кстати, путь к такому синтезу открывает и новая трактовка инструментов в оркестре, приводящая к прогрессивному увеличению количества немузыкальных звуков (новые приемы игры, рост числа разнообразных ударных инструментов, новые приемы инструментовки, стремящиеся к имитации звучаний Таре Music, и т. п.).
[5] Даже такой, склонный к литературности, романтик, как Р.Шуман, вынужден был защищать композиторскую профессию от мещанских вымыслов: "Ошибаются те, кто думает, что композиторы берутся за перо и бумагу с печальным намерением то или иное выразить, обрисовать, живописать".
[6] Яннис Ксенакис (р. 1922) - греческий композитор и архитектор, живущий во Франции. В течение двадцати лет был ближайшим помощником Корбюзье. С 1955 г. применяет в музыке математические методы композиции. Получил мировую известность своими сочинениями "Метастазис" (1953-54) и "Питопракта" (1955-56). Работает также в области электронной музыки.
[7] Помимо этого, композитор получил бы возможность выбора среди всех, даже мимолетно мелькнувших у него, музыкальных мыслей.
[8] См. изложение этого процесса, начиная с первоначальной идеи до рисунка реализованного павильона в книге Я. Ксенакиса «Musiques formells» (Ed. Richard—Masse, Paris, 1963, p. 21—25).
[9] Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие.-М.. 1966. с. 37.[10] Xenakis J. Musiques formells, p. 179.
Н. ТЕПЛОВ Акробатство в музыке
Акробатство в музыке[1]В. НОСИНА Загадка четырнадцатой инвенции И.С. Баха
Сначала было слово, и слово было у Бога, и слово было - Бог.Жанровые особенности инвенции
Первоначальная версия двухголосных инвенций под названием «preambulum» (прелюдии) помещена И. С. Бахом в «Нотную тетрадь В. Ф. Баха» в 1720 году.… «Invention - риторическая категория, обозначавшая в учении об ораторском… Свидетельством интереса И. С. Баха к этому жанру может быть тот факт, что он собственноручно переписал цикл инвенций…Мотивная символика в инвенции
Тема инвенции необычна. Главное мотивное зерно инвенции -характерная мелизматическая фигура из пяти звуков, «символ пребывания в радости» (по… [62]Традиции числовой символики
«В эпоху барокко музыка обладает двоякой сущностью: искусства, ремесла и науки.... Музыкальная наука... определяется как «звучащая математика»,… «Чтобы понять все тонкости баховской математики, необходимо иметь…Числовая символика в инвенции
Экспозиция.Перейдем теперь непосредственно к анализу инвенции B-dur. Ее тема занимает три такта. В каждом (число 1 - Единый Бог) заключены две пары… [66]Символика больших чисел в инвенции
Экспозиция.KS темы (оба голоса) равен 73. Это число в разных источниках трактуется по-разному. По Праутчу это число Бога Вседержителя (Zebaoth) [12,… Барочное мышление построено на антитезах. «Игра добра и зла проявляется везде»…Заключение
По смысловому содержанию инвенцию можно разделить на две части. Первая часть - Царство Божие - прегрешение - мольба (такты 1 — 14). Вторая часть — 10 заповедей - возвращение Царства Божия — суд над сатаной (такты 14 - 20). Это подтверждается и числами. Сумма KS первой части 198 + 84 + 62 = 344, что расшифровывается как 43 х 8 (43 — Credo - верую, 8 - смерть). Как видим, это соответ-
[72]
ствует и мотивной символике: «сомнение» в вере ведет к прегрешению и к духовной смерти. Кстати, корень числа 344 →11. Сумма KS второй части 120 + 128 = 248, то есть 62 х 4 (62 - Crux - крест, 4 -крест и вера). Корень числа 248 →14.
Сопоставление числовых корней 11 и 14 подчеркивает, что Бах со смирением и покаянием считает себя грешником, обретающим спасение в исполнении 10 заповедей и в прославлении Бога.
Примечательную симметрию дает еще одно сопоставление двух чисел: общего числа KS инвенции - 592 и числовых корней KS главных разделов инвенции (экспозиции, разработки и репризы) - 952. Расчет последнего показан в Таблице. Число 592 = 37 х 24 (37 - J. Chr. <Иисус Христос>, 2 - Бог Сын, 4 - крест). Число 952 = 68 х 14 (68 Virgo <Дева> , 14 - BACH). Так композитор еще раз выказывает свое преклонение перед Богородицей.
Числа 952 и 592 имеют одинаковый числовой корень - 7. Образуется число 77 Agnus Dei - Агнец Божий, одна из ипостасей Иисуса Христа, указывающая на жертву Бога во спасение людей.
Как видим, урок числовой символики вырос в теологический трактат о пути человека в созданном Богом мире, написанный Бахом в назидание своим детям и всем христианам. Столь маленькое сочинение, как инвенция, приобретает масштаб проповеди. Баху хватило на это двадцати тактов, намного меньше, чем нам потребовалось на его анализ.
Таблица. Вычисление суммы KS главных разделов инвенции
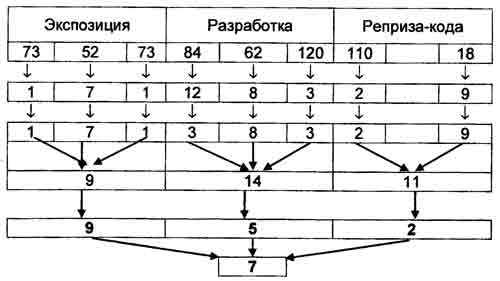
[73]
Литература
1. Бородин А. Число и мистика. - Донецк, 1975.
2. Бузони Ф. Предисловие к сб.: И. С. Бах Инвенции для фортепиано. - М, 1968.
3. Голованов В. Структурно-полифонические особенности двухголосных инвенций И. С. Баха. - М., 1998.
4. Друскин М. И. С. Бах. - М., 1982.
5. Лобанова М. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики. - М., 1994.
6. Немировский Л. Современная музыка как предвестие коренных изменений мышления // Дмитриевские чтения - РАМ им. Гнесиных. - М, 2004.
7. Петров Ю. Диалектика парных сонат Д. Скарлатти в контексте эпохи барокко // Музыкальная риторика и фортепианное искусство. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 104. - М, 1989.
8. Петров Ю. П. Символика и диалектика чисел в «Хорошо темперированном клавире И. С. Баха (1 том) // Интерпретация клавирных сочинений И. С. Баха. Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 109-М., 1990.
9. Шевелев И., Марутаев М, Шмелев И. Золотое сечение: три взгляда на природу гармонии. - М.,
10. Яворский Б. Лекции по мотивной символике И. С. Баха / Сост. Ряузов С. Рукопись: ГЦММК им. М. И. Глинки, Фонд. № 447, Ед. хран. 317-320, 291, 295, 298, 300, 306, 352.
11. Michell J. City of Revelation. - London, 1973.
12. Prautzsch L. Vor Deinem Thron tret ich hiermit: Figuren und Symbole in den letzten Werke Johann Sebastian Bachs - Neuhausen-Stuttgart: Hanssler-Verlag - 1980.
13. Troster I. Joh. Seb. Bach. - Iserholn: Karthause Verlag. 1984.
Опубл.: Процессы музыкального творчества. Вып. 8. М.: РАМ им. Гнесиных, 2005. С. 58 - 73.
размещено 25.08.2008
Николаус АРНОНКУР. Музыка языком звуков. Главы из книги
[4]А. МАЙКАПАР. Музыкальная интерпретация: проблемы психологии, этики и эстетики
О том, что тогда произошло, свидетельствуют сохранившиеся документы. Примечательным было уже само извещение о предстоящей премьере: "Большая… Вот уж воистину аутентичное исполнение! Но как оно вообще могло состояться?… Итак, успех был грандиозным. Понадобилось вмешательство полиции, чтобы положить конец овациям. "Бетховен…Н. ХАЗАНОВА. Музыка в понимании мыслителей эпохи Ренессанса.
Прежде всего обращаемся к личности, чей трактат «Музыка», созданный около… Приводим фрагменты его трактата «Музыка» – уникального творения раннего Ренессанса, грандиозной эпохи в музыкальной…– Конец работы –
Используемые теги: Три, страницы, музыкальной, жизни, сталинского, времени, Сумбур, вместо, музыки, Балетная, фальшь, Великая, Дружба0.158
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Три страницы из музыкальной жизни сталинского времени: Сумбур вместо музыки, Балетная фальшь, Великая дружба
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
| Твитнуть |
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?







Новости и инфо для студентов