Либреттист, романист. 1930—1940
355
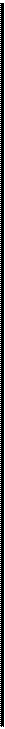 особам, о цензуре и пр.). За некоторыми из этих замечаний довольно прозрачно проступают намеки на нашу советскую действительность, особенно в тех случаях, когда это связано с Вашей личной биографией (об авторе, у которого снимают с театра пьесы, о социальном заказе и пр.).
особам, о цензуре и пр.). За некоторыми из этих замечаний довольно прозрачно проступают намеки на нашу советскую действительность, особенно в тех случаях, когда это связано с Вашей личной биографией (об авторе, у которого снимают с театра пьесы, о социальном заказе и пр.).
Зато вполне недвусмысленны его высказывания, касающиеся короля Людовика XIV, свидетельствующие о том, что рассказчик склонен к роялизму (оставим эту догадку на совести Тихонова. — Б. С).
Людовик XIV для него — «серьезный человек на троне», «лицо бесстрастное и безупречное» (иронии рецензент то ли не чувствует, то ли сознательно отставляет ее в сторону. — Б. С), он храбрый полководец и занят в «кругу своих выдающихся по уму министров». Он всегда галантен, вежлив и справедлив. Вместо ссылок на исторические материалы, Ваш рассказчик любит черпать свою информацию из каких-то сомнительных источников. Его рассказ то и дело пестрит выражениями: «как говорят», «поговаривают», «прошел слух», «злые языки болтают» и т. д. Все это придает его рассказу характер недостоверной сплетни даже в тех случаях, когда он излагает бесспорные факты.
И вообще, у этого человека большая любовь ко всякого рода сомнительным, альковным закулисным историям и пересудам. Вспомните только, с каким азартом и как подробно он излагает «пикантную» сплетню о сожительстве Мольера с дочерью.
Ко всему прочему он обладает, по-видимому, большими оккультными способностями, иначе откуда бы он мог узнать, что чувствовал, видел и слышал Мольер в момент своей смерти или сколько раз снился Мольер Филиппу Орлеанскому (автор утверждает, что всего «один раз»).
Да и вообще рассказчик верит в колдовство и чертовщину.
Его Мольер «пылает дьявольской страстью». Рукописи Мольера «колдовским образом сгинули». Таким же «колдовским образом» рассказчик проникает в тайну женитьбы Мольера...
Если все это сопоставить, то получается отчетливый портрет бойкого, иногда блестящего благера-мещанина (от французского blagueur, т. е. хвастун, насмешник, враль. — Б. С), может быть, близкого эпохе Мольера, но никак не приемлемого в качестве лектора для нашего советского слушателя.
А между тем, как я уже говорил, идея Ваша передать биографию Мольера устами выдуманного рассказчика — очень удачна.
Если бы Вы вместо этого развязного молодого человека в старинном кафтане, то и дело зажигающего и тушащего свечи, дали серьезного советского историка (интересно, как такого историка можно было бы вообразить в XVII веке, с помощью машины времени разве что? — Б. С), он бы мог много порассказать интересного о Мольере и его времени. Во-первых, — он рассказал бы о социальном и политическом окружении Мольера, о его роли литературного и театрального реформатора. Об истории театра до и после Мольера. Об театре — аристократическом, буржуазном и народном. Об их репертуаре и публике. Об существующих тогда теориях театрального искусства и борьбе этих теорий. Обустройстве театральной сцены, начиная от королевского театра до бродячих трупп. Об взаимоотношениях между антрепренерами и труппой и об целом ряде других интересных вещей, связанных с этой театральной эпохой.
Все это Вам, как специалисту по театру и знатоку Мольера, известно, конечно, лучше меня. Тогда почему же произошло такое досадное недоразумение с Вашей работой?
По-видимому, Вы либо не поняли задач нашей серии — хотя и лично и письменно мы Вас об них осведомляли, либо, создав для себя тип воображаемого рассказчика, вполне пригодного для первой части книги, Вы невольно, как художник, стали его развивать и в конце концов сами попали в его руки.
Так или иначе, но из всего сказанного выше нетрудно сделать неизбежный вывод — книга в теперешнем виде не может быть предложена советскому читателю. Ее появление вызовет ряд справедливых нареканий и на'
356
Борис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
ГЛАВА 6.
Михаил Булгаков — режиссер, либреттист, романист. 1930—1940
357
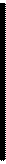
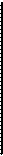
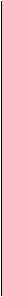
 издательство, и на автора. Книгу необходимо серьезно переработать. Я не сомневаюсь, что Вам нетрудно будет это сделать, если Вы, откинув отдельные, может быть, ошибочные мои замечания, согласитесь с основным — это не тот Мольер, каким его должен знать и ценить советский читатель.
издательство, и на автора. Книгу необходимо серьезно переработать. Я не сомневаюсь, что Вам нетрудно будет это сделать, если Вы, откинув отдельные, может быть, ошибочные мои замечания, согласитесь с основным — это не тот Мольер, каким его должен знать и ценить советский читатель.
Вы меня простите, Михаил Афанасьевич, что написал это все может быть резко и неуклюже — но я иначе не умею.
Если Вы согласитесь взять на себя дальнейшую работу над рукописью, я, разумеется, готов более подробно в личной беседе изложить свою точку зрения.
Как Вы просили, я послал Вашу рукопись Алексею Максимовичу.
Подождем, что он скажет».
Мнение Горького совпало с тихоновским. 28 апреля он писал редактору: «В данном виде это — несерьезная работа и Вы правильно указываете — она будет резко осуждена». Л. Е. Белозерская, одно время работавшая вместе с А. Н. Тихоновым в серии «ЖЗЛ», передает с его слов позднейший устный горьковский отзыв о булгаков-ской биографии Мольера: «Что и говорить, конечно, талантливо. Но если мы будем печатать такие книги, нам, пожалуй, попадет...»
Уже 12 апреля 1933 года, не дожидаясь отзыва Горького, Булгаков в ответном письме Тихонову категорически не согласился с замечаниями редактора, указав, что «вопрос идет о полном уничтожении той книги, которую я сочинил, и о написании взамен ее новой, в которой речь должна идти совершенно не о том, о чем я пишу в своей книге.
Для того чтобы вместо «развязного молодого человека» поставить, в качестве рассказчика, «серьезного советского историка», как предлагаете Вы, мне самому надо было бы быть историком. Но ведь я не историк, я драматург, изучающий в данное время Мольера. Но уж, находясь в этой позиции, я утверждаю, что я отчетливо вижу своего Мольера. Мой Мольер и есть единственно верный (с моей точки зрения) Мольер и форму для доне-
сения этого Мольера до зрителя* я выбрал тоже не зря, а совершенно обдуманно.
Вы сами понимаете, что, написав свою книгу налицо, я уж никак не мог переписать ее наизнанку. Помилуйте!
Итак, я, к сожалению, не могу переделывать книгу и отказываюсь переделывать. Но что ж делать в таком случае?
По-моему, у нас, Александр Николаевич, есть прекрасный выход. Книга непригодна для серии. Стало быть, и не нужно ее печатать. Похороним ее и забудем!»
17 ноября 1933 года редакция «ЖЗЛ» известила Булгакова о своем окончательном отказе от публикации «Мольера». Книга была издана лишь через 22 года, уже после смерти автора.
Замечания А. Н. Тихонова к булгаковской биографии Мольера прекрасно демонстрируют официальный канон биографий великих людей, которым самостоятельность автора практически сводилась на нет. К беллетризован-ной биографии Мольера Тихонов предъявлял требования, уместные, быть может, только для научной монографии по социально-политической истории Франции XVII века или истории французского театра в эпоху Людовика XIV. Советский канон также не допускал никаких намеков на то, что великим могут быть свойственны какие-либо пороки или не самые лучшие человеческие качества, вроде пьянства, разврата или кровосмесительства (вероятно, опасались, что читатели смогут тогда допустить существование подобных недостатков и у современных вождей). Осуждалась даже метафорическая отсылка к дьявольской или колдовской силам, мистическое запрещалось не только как элемент мировоззрения, но и как простой литературный прием. А ведь параллельно с биографией Мольера Булгаков работал над «Мастером и Маргаритой», где нечистой силе была отведена существенная роль.
В 30-е годы писатель работал еще над одной вещью, которая названа «Театральный роман» и имеет мрачный
 * Драматическая описка: не зрителя, а читателя (примеч. Булгакова. — Б. С).
* Драматическая описка: не зрителя, а читателя (примеч. Булгакова. — Б. С).
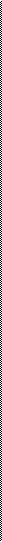 |
| 359 |
358 БоРис Соколов. ТРИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
подзаголовок «Записки покойника» (специалисты до сих пор спорят, где здесь основное название, а где подзаголовок). Это произведение выросло из неоконченной повести 1929 года «Тайному другу» и также осталось незавершенным. Булгаков оставил работу над ним, чтобы все силы отдать «Мастеру и Маргарите». Болезнь и смерть не позволили закончить «Театральный роман», который писатель начал 26 ноября 1936 года — через два с лишним месяца после ухода из МХАТа, прозрачно узнаваемого в Независимом театре, да и подавляющее большинство персонажей имеет неоспоримых прототипов среди мха-товцев. Перед нами — записки, оставленные покончившим с собой драматургом Максудовым, многие жизненные обстоятельства которого сходны с булгаковскими, ведь автор «Театрального романа» давно уже считал похороненными все свои произведения. Здесь не только сатира на отношения драматурга с МХАТом, но и признание в безоглядной любви к театру, невозможности жить без театральных подмостков. Е. С. Булгакова 15 сентября 1936 года в связи с уходом мужа из Художественного театра записала в дневнике: «М. А. говорит, что он не может оставаться в безвоздушном пространстве, что ему нужна окружающая среда, лучше всего — театральная. И что в Большом его привлекает музыка». Из мира театра драматург так и не ушел. В романе о театре бережно передано чудо сотворения спектакля, театральное волшебство, переносящее текст на сцену. И вместе с тем со злой иронией выведена знаменитая «система Станиславского», стоившая драматургу немало нервов. В романе Константин Сергеевич — это «Иван Васильевич, в теорию которого входило, между прочим, открытие о том, что текст на репетициях не играет никакой роли и что нужно создавать характеры в пьесе, играя на своем собственном тексте». Булгаков же устами Максудова высказывал свое убеждение, что никакие теории не заменят от Бога (или от Природы) данное мастерство актеров:
«— Не может она играть! — в злобном исступлении хрипел я...
— И никакие те... теории, ничего не поможет! А вон
| ГЛАВА 6. |