рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры
- Раздел Образование
- /
- МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
Реферат Курсовая Конспект
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ - раздел Образование, ...
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
И наоборот, чем значительнее достижения историка, тем шире будет поле свидетельств о человеческой речи и действии, открытое ддд психологического и социологического исследования4.
2. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ
Я мыслю человеческое знание не как чистое переживание, но как сочетание переживания, понимания и суждения. Поэтому, коль скоро существует историческое знание, должны существовать исторический опыт, историческое понимание и историческое суждение. Теперь наша цель — сказать несколько слов об историческом опыте, а затем — о движении мысли от исторического опыта к письменной истории.
Мы уже описывали субъект времени. Он всегда остается самотождественным, самим собой. Но его сознательные интенциональ-ные акты тем или иным образом смещаются, побуждая его «теперь» скользить от прошлого к будущему, в то время как поле объектов, на которые направлено внимание субъекта, может меняться сильно или слабо, быстро или медленно. Мало того, что психологическое настоящее субъекта представляет собой не момент, а некоторую протяженность; субъект к тому же может проникать в нем в прошлое — через память, повествования, историю; и в будущее — через предвосхищения, прикидки, прогнозы.
Было сказано и о том, что человек есть историческое существо. Смысл этого утверждения легче всего понять с помощью мысленного эксперимента. Предположим, что человек страдает полной амнезией. Он больше не знает, кто он, не узнает родственников и друзей, не помнит своих обязательств или прав и забыл даже ту информацию, которая необходима для выполнения некогда привычных дел-Очевидно, что, если он продолжает жить, либо амнезия должна быть излечена, либо ему придется начать все сначала. Ибо такими, какие
4 Обширная антология и двадцатистраничная библиография по предыдунН1*1 и связанным темам содержится в работе: Patrick Gardiner (ed.), Theories of'Histo/У' New York: Free Press, and London: Collier Macmillan, 1959. Так, где авторы РаС' ходятся с предлагаемым здесь подходом, основание для расхождения — Г"" читатель сможет в этом убедиться — лежит в теории познания.
ИСТОРИЯ
ы есть, нас сделало именно наше прошлое, и поэтому мы должны „ибо жить им, либо начинать заново. Не только индивид является историческим существом, проживающим свое прошлое: это верно в отношении группы. В самом деле, если предположить, что все члены группы страдают полной амнезией, то результатом станет коллапс всех групповых функций, а также функций каждого индивида в группе. Группы тоже живут своим прошлым, а прошлое, если можно так выразиться, продолжает жить в них. Функционирование благо-устроения в настоящем осуществляется большей частью благодаря его функционированию в прошлом, и лишь в малой степени благодаря тем небольшим усилиям, которые требуются сейчас, чтобы сохранить и по возможности улучшить положение дел. Начать все сначала означало бы вернуться в очень отдаленное прошлое.
Я сейчас вовсе не предлагаю медицинское описание амнезии. Я просто пытаюсь показать значение прошлого для настоящего и тем самым объяснить, чтб я имел в виду, говоря, что человек есть историческое существо. Но быть историческим — это история, о которой пишут. Если смотреть на нее изнутри, то можно назвать ее экзистенциальной историей: живой традицией, которая нас сформировала и привела в тот пункт, где мы сами начали формировать себя5. Эта традиция включает в себя, как минимум, индивидуальную и групповую память о прошлом, повествования о подвигах и легенды о героях, — коротко говоря, достаточно истории для того, чтобы группа идентифицировала себя как группу, а индивиды вносили свой многообразный вклад в поддержание и развитие общего благоустроения. Но теперь мы должны указать на ряд шагов, которые могут мысленно привести нас от этой рудиментарной истории, содержащейся в любой экзистенциальной истории и живой традиции, к понятию научной истории6.
В целом это — процесс объективации. Мы начнем с более про-
5 О современной реакции на деструктивные аспекты Просвещения и о реаби-литации традиции как условия возможности интерпретации см. H.G. Gadamer, ^ohrheit und Methode, SS. 250-290.
Это шаги от vecu [проживаемого] к thematique [тематизированному], от exis-enZielle [экзистентного] к existenzial [экзистенциальному], от exercite [фактически °сУЩествляемого] Ksignate [эксплицитно выраженному].
ОО
OI
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
ИСТОРИЯ


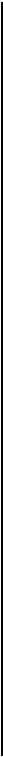 стых случаев автобиографии и биографии, а затем перейдем к более сложному вопросу об истории групп.
стых случаев автобиографии и биографии, а затем перейдем к более сложному вопросу об истории групп.
Первый шаг к автобиографии — дневник. День за днем человек записывает не любое происшествие — у него много дел и помимо этого, — а то, что представляется важным, значительным, исключительным, новым. Таким образом, он отбирает, сокращает, набрасывает, намекает. Он опускает бблыпую часть того, что и так слишком хорошо известно, чтобы быть отмеченным, слишком очевидно, чтобы упоминаться, слишком обыкновенно, чтобы считаться достойным записи.
По мере того, как годы идут, и дневник разбухает, взгляд, обращенный назад, удлиняется. Что раньше было лишь отдаленной возможностью, ныне осуществилось. Давние события, казавшиеся незначительными, оказались весьма важными, тогда как другие, казавшиеся важными, обернулись пустяками. Опущенные давние события нужно припомнить и восстановить, чтобы восполнить пробелы в контексте более раннего периода и чтобы сделать позднейшие события более понятными. Наконец, нужно дополнить, уточнить, скорректировать прежние суждения. Но если пытаться все это сделать, это означает перейти от ведения дневника к написанию мемуаров. Человек расширяет свои дневниковые источники, дополняя дневник всеми письмами и прочим материалом, который удастся раздобыть. Он роется в памяти. Он задает вопросы, а чтобы ответить на них, начинает реконструировать свое прошлое в воображении, рисуя самому себе то нынешнее, то прежнее Sitz im Leben [«место в жизни», жизненный контекст]; он находит ответы и задает следующие вопросы, возникающие из этих ответов. Как и в случае интерпретации, здесь тоже постепенно выстраиваются контексты, ограниченные гнезда вопросов и ответов, и каждое соотносится с одной многогранной, но определенной темой. В результате старая, подневная, организация дневника становит абсолютно не важной. Многое из ранее упущенного ныне восстановлено. Что было бессвязным, ныне взаимосвязано. Что ощущалось и вспоминалось смутно, ныне отчетливо вырисовывается в, возможно, неожиданной перспективе. Возникла новая организация, в которой периоды вычленяются в соответствии с заметными различиями в образе жизни, в ведущей заботе, в задачах и проблемах, и в каждом периоде вычленяются контексты, то есть
гнезда вопросов и ответов, относящиеся к разным, но связанным темам. Периодами определяются разделы автобиографии, темами — ее главы.
Биография во многом преследует ту же цель, но вынуждена следовать иным путем. Автобиограф рассказывает о том, что «я видел, я слышал, я помнил, предвосхищал, воображал, чувствовал, понимал; о чем я судил, что я решал, как поступал...». В биографии высказывания делаются уже от третьего лица. Вместо того, чтобы описывать, чтб он помнит или вспомнил, биограф вынужден проводить разыскание, собирать свидетельства, восстанавливать в воображении каждое последовательное Sitz im Leben, задавать конкретные и определенные вопросы и таким образом выстраивать свой набор периодов, из которых каждый заключает в себе больший или меньший набор соотнесенных контекстов. Между автобиографией и биографией существуют три главных различия: биограф свободен от неловкости, которую может испытывать автобиограф в своей откровенности; биограф может сослаться на позднейшие события, представляющие в новом свете суждения, решения, поступки его персонажа, найти его более или менее глубоким, мудрым, дальновидным, прозорливым, чем можно было бы подумать; наконец, поскольку биограф должен сделать своего персонажа понятным следующему поколению, он должен описывать не просто «жизнь», но «жизнь и время».
Если в биографии «время» выступает как подчиненная категория, проясняющая «жизнь», то в истории эта перспектива перевернута. Внимание сосредоточивается на общем поле, частично иссле-Дуемом в каждой из биографий, которые написаны или могут быть написаны. Но это общее поле не перекрывается биографиями: это социальный и культурный процесс, а не просто сумма индивидуальных слов и дел. Существует развивающееся и / или приходящее в Упадок единство, образованное кооперациями, институциями, личными отношениями, функционированием и / или пробуксовывани-ем благоустроения, совместным осуществлением порождающих и вНутренних ценностей и антиценностей. Мы проживаем наши жизни внутри этого процесса. Обычно каждый из нас довольствуется тем знанием о нем, которого достаточно для ведения наших личных дел 11 выполнения наших общественных обязанностей. Стремиться уви-
2ОЗ
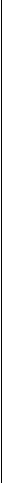


 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
деть действительную работу целого или его значительной части на протяжении длительного периода времени — задача историка.
Как биограф, так и историк продвигается (1) от данных, ставших доступными благодаря разысканию, (2) через воображаемую реконструкцию и накапливание вопросов и ответов (3) к взаимосвязанному набору ограниченных контекстов. Но здесь материальный базис гораздо шире по своей протяженности, гораздо сложнее, гораздо основательнее. Фокус интереса смещается от индивида к группе, от частного к публичному, от течения единичной жизни к ходу дел в сообществе. Спектр релевантных тем громадно расширяется, и многие из них требуют приобретения специальных знаний, чтобы можно было приступить к их историческому исследованию. Наконец, сама история становится специализацией, историки of разуют профессиональный класс, область исторического исследс вания подвергается членениям и субчленениям, результаты иссле дований обнародуются на конгрессах и аккумулируются в журнала и книгах.
3. КРИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
Первый шаг к пониманию критической истории — отчет о докри- ; тической истории. Сообщество для нее — это сообщество, стоящее перед глазами: ее собственное. Носитель такой истории — нарратив, упорядоченное повествование о событиях. Оно рассказывает, кто, когда, где, при каких условиях, по каким мотивам и с какими результатами совершил то или это. Его функция — практическая: групп; может функционировать как группа, только обладая идентичностью, познавая себя и посвящая себя в худшем случае делу выживания, а в лучшем — усовершенствования. Функция докритической истории состоит в том, чтобы содействовать такому познанию и посвящению; поэтому она никогда не сводится к голым фактам. Она художественна, поскольку отбирает, упорядочивает, описывает, пробуждает интерес читателя и поддерживает его, побуждает и убеждает. Далее, она этична, поскольку не только повествует, но и выражает хвалу или порицание. Она объяснительна, поскольку дает отчет о существующих институциях, рассказывая об их происхождении и развитии и сравнивая их с альтернативными институциями, обнаруженными в
2O4
ИСТОРИЯ
других краях. Она апологетична, поскольку подправляет ложные или тенденциозные сведения о прошлом народа и опровергает клеветы со стороны соседних народов. Наконец, она профетична, поскольку взгляд назад, в прошлое, сочетается в ней со взглядом вперед, в будущее; к повествованию добавляются советы человека начитанного, скромного и мудрого.
Так вот, такая докритическая история, даже будучи очищена от своих дефектов, вполне может отвечать реальным потребностям функциональной специализации «коммуникации», но не функциональной специализации «история». Ибо эта специализация, оперируя на четырех уровнях — переживания, понимания, суждения и решения, на трех из них оперирует только в виду суждения, установления фактического положения дел. Весьма важная воспитательная задача — внушать своим согражданам или клирикам надлежащую оценку их собственного наследия и надлежащую преданность его сохранению, развитию и распространению, — не ее задача. Ее задача — установить, по непрестанно цитируемому выражению Ранке, «как было на самом деле»: wie es eigentlich gewesen. Наконец, если этот труд не вершится беспристрастно, в полной обособленности от политических или апологетических целей, он оказывается попыткой служить двум господам и обычно испытывает на себе последствия этой евангельской притчи7.
Далее, эта работа не сводится к обнаружению свидетельств, проверке их достоверности и нанизыванию того, чтобы было найдено достоверным. Не сводится, потому что исторический опыт — одно дело, а историческое знание — совсем другое. Нанизывание достоверных свидетельств означает лишь переиздание исторического опыта; оно не продвигает вперед историческое знание, которое постигает происходящее, что по большей части ускользало от современников. Многие ранние христиане имели фрагментарный опыт того способа, каким формировались элементы синоптических евангелий; но Рудольф Бультман реконструировал этот процесс как Целое, и хотя его доказательства были взяты из синоптических еван-
7 См., например, G.P. Gooch, History and Historians in the Nineteenth Century, London: Longmans, 19131, 19522, chap. 8: On the Prussian School.

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
гелий, они не предполагали веру в истинность евангельских утверждений8.
Наконец, только последовательность открытий позволит историку продвинуться от фрагментарных опытов, которые служат источником его данных, к познанию процесса в целом. Подобно детективу, столкнувшемуся с совокупностью улик, которая поначалу обескураживает его, историк должен обнаружить в этих уликах, перебирая их по одной, то свидетельство, на котором он построит убедительную реконструкцию происшедшего.
Так как свидетельство должно быть обнаружено, следует проводить различение между потенциальным, формальным и актуальным свидетельством. Потенциальное свидетельство — это любые данные, воспринимаемые здесь и теперь. Формальное свидетельство — те же данные, поскольку они используются при формулировании вопроса, значимого для исторического понимания, и в ответе на него. Актуальное свидетельство — это формальное свидетельство, на которое опирается историческое суждение. Другими словами, данные как воспринимаемые — это потенциальное свидетельство, данные как воспринимаемые и понимаемые — это формальное свидетельство, данные как воспринимаемые, понимаемые и выступающие основанием разумного суждения — это актуальное свидетельство.
Запускает этот процесс не что иное, как вопрос, значимый для исторического понимания. В связи с некоторой определенной ситуацией в прошлом человек хочет понять происходившее. Очевидно, что такой вопрос предполагает некое историческое знание, в противном случае человек не знал бы о ситуации, о которой идет речь, и не знал бы, что подразумевается под «происходившим». Стало быть, история вырастает из истории. Критическая история была рывком вперед от докритической истории, докритическая история — рывком от историй и легенд. И наоборот, чем больше истории знает человек, тем больше данных входят в его кругозор,
8 R. Bultmann, Die Geschichte der synoptischen Tradition, Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 19584; первое издание вышло в свет в 1921. О том же: I. de la Potterie (ed.), De Jesus aux Evangiles, Gembloux: Duculot, 1967, где Formgeschichte [история форм] играет промежуточную роль между Traditionsgeschichte [историей традиции] и Redaktionsgeschichte [историей редакций].
2о6
ИСТОРИЯ
тем больше вопросов он может задать, и тем разумнее он сможет задать их.
Вопрос, предлагаемый для исторического понимания, помещается в свет предшествующего знания и в связь с некоторыми определенными данными. Он может вести к инсайту в отношении этих данных, а может и не вести. Если он не ведет к нему, то человек переходит к другому вопросу. Если ведет, инсайт выражается в догадке, догадка представляется в виде образа, а образ ведет к дальнейшему вопросу, связанному с предыдущим. Этот процесс может быть возобновляющимся, а может и не быть. Если он не таков, это означает, что исследователь зашел в тупик и должен сменить подход. Если он возобновляется, и все, чего человек достигает, есть лишь ряд догадок, то он следует ложным путем и опять-таки должен сменить подход. Но если догадки исследователя совпадают с дальнейшими данными или приближаются к ним, то он на верном пути. Данные перестают быть чисто потенциальным свидетельством; они становятся формальным свидетельством; исследователь постепенно открывает, какого рода свидетельством они могут быть.
Далее, если исследователь идет верным путем достаточно долго, происходит смещение в способе постановки вопросов, ибо дальнейшие вопросы во все большей степени возникают из данных, а не из образов, основанных на догадках. Ему все еще приходится задавать вопросы, ему все еще приходится быть настороже; но он уже перешел от предварительных допущений и предположений к самому исследованию. Он уже достаточно прозревает объект вопрошания, чтобы схватить те из допущений и перспектив, которые адекватны этому объекту. И такое схватывание делает его подход к последующим данным конгениальным в гораздо большей степени, чем это подсказывали бы дальнейшие данные, наводящие на дальнейшие вопросы. Чтобы описать эту черту исторического исследования, скажем, что кумулятивный процесс накопления данных, вопрошания, инсайта, Догадки, формального свидетельства, — этот процесс экстатичен. Это не пылкий экстаз набожности, а холодный экстаз растущего прозрения. Он заставляет человека забыть о себе. Он отодвигает в сторону прежние допущения и перспективы, чтобы высветить допущения и перспективы, адекватные объекту исследования.
Этот процесс одновременно избирателен, конструктивен и кри-

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
тичен. Он избирателен в том, что не все данные переходят из статуса потенциального свидетельства в статус свидетельства формального. Он конструктивен в том, что отобранные данные соотносятся друг с другом через взаимосвязанную совокупность вопросов и ответов, или, иначе говоря, через ряд инсайтов, которые дополняют друг друга, корректируют друг друга и потенциально вливаются в некое единое видение целого. Наконец, он критичен в том, что инсайты бывают не только прямыми, но обратными. В прямом инсайте человек схватывает, каким образом вещи стыкуются друг с другом, и шепчет свое «Эврика!» В обратном инсайте ему хочется воскликнуть: как я мог быть таким дураком и считать это самоочевидным! Человек видит, что вещи не стыкуются друг с другом; возможно, в прямом инсайте он уловит, что некий элемент входит не в этот, а в другой контекст. Так обнаруживаются интерполяции или повреждения текста. Так Псевдо-Дионисий выводится за пределы I в. н. э. и перемещается в конец V в., поскольку он цитирует Прокла. Так уважаемый автор подпадает под подозрение: обнаруживается источник его информации, который целиком или частично, без какого-либо независимого подтверждения, используется не как свидетельство того, о чем автор повествует, а косвенным образом опирается на само повествование — на его намерения, читателей, методы, упущения, ошибки9.
Итак, единому процессу развертывающегося понимания я приписал целый ряд различных функций. Этот процесс эвристичен, поскольку высвечивает релевантные данные. Он экстатичен, поскольку выводит вопрошающего из его исходной перспективы к перспективам, адекватным его объекту. Он избирателен, поскольку из всей совокупности данных отбирает релевантные для достижения понимания. Он критичен, поскольку переводит из одного способа употребления или контекста в другой те данные, которые в
9 Отметим, что слово «критический» имеет два совершенно разных значения. В докритической истории оно означает, что историк сначала проверяет достоверность некоторого авторитетного свидетельства, прежде чем поверить ему. В критической истории оно означает, что историк сместил данные из одного поля релевантности в другое. Об этом блестяще и убедительно пишет Дж. Р. Кол-лингвуд. См. две его статьи: «The Historical Imagination» и «Historical Evidence», in: The Idea of History, Oxford: Clarendon, 1946, pp. 231-282.
ИСТОРИЯ
противном случае могли быть сочтены релевантными для вот этой задачи. Он конструктивен, поскольку отобранные данные сплетаются друг с другом в широкую и запутанную сеть взаимосвязанных отношений, кумулятивно выходящую на свет по мере роста нашего понимания.
Отличительная особенность критической истории заключается в том, что этот процесс осуществляется дважды. Сначала историк приходит к пониманию своих источников; затем он использует эти понятые им источники со знанием дела — чтобы понять объект, для которого они релевантны. В обоих случаях понимание развертывается как эвристичное, экстатичное, избирательное, критичное, конструктивное. Но в первом случае историк идентифицирует авторов, относит их труды к определенному месту и времени, изучает их среду, устанавливает их авторские цели и возможных читателей, исследует их источники информации и тот способ, какими они используются. В предыдущей главе, «Интерпретации», мы говорили о понимании автора; дальнейшая цель состоит в том, чтобы понять, что он имел в виду. В специализации «история» мы тоже пытаемся понять автора источников, но здесь дальнейшая цель состоит в том, чтобы понять, на что он был способен и как он это делал. Именно это понимание лежит в основе критического использования источников, в основе тонких различений сильных и слабых сторон автора и соответствующего их применения. Как только это достигнуто, историк может сосредоточить внимание на своей главной цели, а именно, на понимании процесса, о котором идет речь в его источниках. Если раньше понимание развертывалось как эвристичное, экстатичное, избирательное, критичное и конструктивное применительно к установлению того, на что способны авторы, то теперь оно эвристично, эстатично, избирательно, критично и конструктивно применительно к установлению того, что происходило в сообществе.
Нет нужды говорить, что оба развития взаимозависимы. Не только понимание авторов способствует пониманию исторических событий, но и достигнутое понимание событий рождает вопросы, способные привести к пересмотру понимания авторов, а следовательно, к пересмотру того способа, каким мы их используем.
Опять-таки, хотя каждый новый инсайт выявляет некую очевид-
2O9
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
ность, побуждает отказаться от прежних перспектив, отбирает или отбрасывает данные как релевантные или нерелевантные и добавляет нечто к выстраиваемой картине, внимания заслуживает не каждый единичный инсайт, а конечный инсайт в каждом кумулятивном ряду. Именно такие конечные инсайты называются открытиями. В них кумулятивный ряд достигает кульминации, а поскольку кумулятив-ность обладает специфической направленностью и смыслом, открытия касаются либо нового свидетельства, либо новой перспективы, либо иного способа отбора или критического отбрасывания данных, либо еще более сложных структур.
До сих пор мы думали о структурировании как об интеллигибельном паттерне, который схватывается в данных и соотносит данные друг с другом. Но существует и другой взгляд на этот предмет. В самом деле, при понимании то, чтб схватывается в данных, выражается также в понятиях и словах. Таким образом, от интеллигибельного паттерна, схватываемого в данных, мы переходим к интеллигибельному паттерну, выраженному в повествовании. На первый взгляд, повествование — это лишь догадки, которые вопрошающий бормочет сам себе. По мере того, как догадки все меньше остаются просто догадками и все более явно ведут к открытию дальнейших очевидностей, начинают проступать пробные сцепления, взаимосвязанные целостности. По мере того, как дух вопрошания схватывает каждую неудачу в понимании, обращая внимание на еще не понятое, а потому легко упускаемое из вида, одна из взаимосвязанных целостностей выдвигается на роль доминирующей темы, проходящей через другие взаимосвязанные целостности, которые тем самым становятся подчиненными темами. По мере того, как исследование движется вперед, и поле данных, подпадающих под контроль, расширяется, организация будет не только расширяться, в смысле доминирующей темы и подчиненных тем, но также будут возникать все более высокие уровни организации. Так среди доминирующих тем возникнут доминирующие подтемы, чтобы оставить другим доминирующим темам лишь подчиненные подтемы. По мере того, как процесс организации распространится не только на все большие территории, но и на все более высокие уровни организации, судьба доминирующих тем ожидает ббльшую часть доминирующих подтем. Не следует думать, что этот процесс прогрессирующей организации
ИСТОРИЯ
един и единообразен. Некоторые открытия дополняют и корректируют прежние открытия, а коль скоро изменяется понимание, должна измениться и организация. Темы и подтемы мыслятся все более точно и выражаются все более успешно. Радиус их доминирования может расширяться или сокращаться. Моменты, некогда считавшиеся важнейшими, могут отступать на задний план, а другие моменты, наоборот, — выходить из относительной тени и приобретать выраженную значимость.
Точное постижение и успешное выражение тем и подтем немаловажно: ведь они определяют новые вопросы, которые будут заданы, а эти новые вопросы приведут к новым открытиям. И это еще не все. Мало-помалу историческое исследование подходит к завершению; это происходит, когда оно достигает такой совокупности инсайтов, которая сводит все концы с концами. Мы узнаем ее по тому, что поток дальнейших вопросов по определенной теме или подтеме постепенно уменьшается и наконец иссякает. Неточное или безуспешное понимание и выражение опасны тем, что либо поток вопросов иссякнет преждевременно, либо будет по-прежнему течь, когда в действительности уже не останется релевантных вопросов.
Отсюда следует, что кумулятивный процесс понимания в его развитии не только эвристичен, экстатичен, избирателен, критичен и конструктивен, но также подразумевает рефлексию и суждение. Понимание, которое было достигнуто в определенном пункте, может быть дополнено, исправлено, пересмотрено, только если в этом самом пункте возможны дальнейшие открытия. Такие открытия возможны, только если возникают дальнейшие релевантные вопросы. Если же фактически релевантных вопросов больше нет, то фактически определенное суждение было бы истинным. Если — в свете исторического знания — больше нет релевантных вопросов, историк может сказать, что, насколько ему известно, вопрос закрыт.
Стало быть, имеется критерий исторического суждения, а, следовательно, и пункт, в котором формальное свидетельство становится актуальным. Такие суждения формулируются вновь и вновь по ходу исследования, по мере выполнения каждого малого, а затем и каждого крупного фрагмента работы. Но в критической истории, как и в естественных науках, позитивное содержание суждения представляет собой, пожалуй, лишь наилучшее из доступных мнений. Это
IO
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
очевидно на всем протяжении исторического исследования, пока оно длится: в самом деле, последующие открытия могут заставить скорректировать или пересмотреть открытия предыдущие. Но то, что верно применительно к еще ведущимся исследованиям, можно распространить и на те исследования, которые, с точки зрения их интенций и целей, завершены.
В самом деле, во-первых, нельзя исключить той возможности, что будут обнаружены новые источники информации, которые затронут будущее понимание и суждение. Так, археологические раскопки на Ближнем Востоке дополняют ветхозаветные штудии; документы, найденные в пещерах Кумрана, значимы для новозаветных исследований; а неопубликованные тексты из Кенобоскиона [Наг-Хаммади] определяют наши суждения о гностицизме.
Но есть и другой источник пересмотра: это позднейшие события, которые ставят более ранние события в новую перспективу. Исход сражения фиксирует перспективу, в которой рассматриваются последовательные стадии сражения; победа в войне выявляет значение каждого из следующих друг за другом сражений; социальные и культурные последствия победы и поражения служат мерой результативности войны. Таким образом, история, вообще говоря, есть развертывающийся процесс. По мере развития процесса контекст, в котором надлежит понимать события, непрестанно расширяется. По мере расширения контекста сдвигаются перспективы.
Однако ни один из этих источников пересмотра не обесценивает выполненной до конца предшествующей работы. Новые документы дополняют картину; они высвечивают то, что прежде оставалось темным; они смещают перспективу, опровергают лихие или умозрительные построения, а не просто уничтожают всю сеть вопросов и ответов, превратившую исходный набор данных в массивное свидетельство для прежнего описания. История опять-таки являет себя как развертывающийся процесс, и поэтому исторический контекст непрестанно расширяется. Но следствия этого расширения не универсальны и не единообразны, ибо личности и события занимают свое место в истории в силу одного или более контекстов, а эти контексты могут быть узкими и кратковременными или широкими и длительными, включая весь спектр промежуточных вариантов. Лишь в той мере, в какой контекст все еще открыт либо может быть открыт
ИСТОРИЯ
или расширен, позднейшие события проливают новый свет на более ранние лица, события, процессы. Как заметил Карл Хойси*, легче понять Фридриха Вильгельма III, короля Пруссии, чем Шлейерма-хера; и если Нерон всегда будет Нероном, то о Лютере этого пока сказать нельзя10.
Помимо суждений, к которым пришел историк в его исследовании, существуют суждения, высказанные о его работе коллегами и последователями. Такие суждения образуют критическую историю второго порядка. Ибо это не просто «оптовые» выражения доверия или недоверия: эти суждения опираются на понимание того, каким образом была сделана работа. Как сам историк — сначала в отношении своих источников, а затем в отношении предмета исследования — переживает процесс развертывания понимания, который одновременно эвристичен, экстатичен, избирателен, критичен, конструктивен и в итоге приводит к суждениям, так и критики исторической работы проходят через сходные этапы в отношении самой этой работы. Они делают это тем легче и тем компетентнее, чем более историк потрудился не скрывать хода своей работы, но выложить все карты на стол, и чем лучше сами критики знакомы с данным полем исследования или, по крайней мере, со смежными полями.
Результатом такого критического понимания критической истории становится, естественно, возможность умного и разборчивого использования работы критикуемого историка. Выясняется, в каких пунктах его работа хороша; выявляются ее ограниченности и слабости; можно установить, где она, безусловно, нуждается в пересмотре, а где может потребовать пересмотра. Как сам историк умно и разборчиво пользуется своими источниками, так профессиональное сообщество историков разборчиво пользуется работами своих собственных членов.
Ранее в этой главе мы заметили, что историческое вопрошание предполагает историческое знание, и чем больше это знание, чем больше данных входит в кругозор историка, тем больше вопросов он может задать, и тем умнее будут его вопросы. Так наше рассмотрение
* Карл Хойси (1877—1961) — немецкий исследователь истории Церкви. — Прим. пер.
lo Karl Heussi, Die Krisis des Historismus, Tubingen: Mohr, 1932, S. 58.

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
совершает полный круг: мы приходим к отчету об этом предполагаемом историческом знании. Оно представляет собой критическую историю второго порядка. По существу, она состоит в кумулятивных трудах историков, но — актуально — не просто в доверии к этим трудам, а в их критической оценке. Такая критическая оценка порождается критическими рецензиями на книги, критическими высказываниями профессоров перед своими студентами, и подтверждается их разъяснениями и аргументами, свободными обсуждениями в неформальной обстановке и более формальными дискуссиями на конгрессах.
Критическая история второго порядка имеет составной характер. В ее основе — исторические статьи и книги. Ее второй уровень образуют критические тексты, сравнивающие и оценивающие исторические работы: они могут варьироваться от кратких обзоров до обширных исследований, вплоть до истории и историографии по определенному вопросу, вроде книги Герберта Баттерфилда «Георг III и историки»". Наконец, существуют обоснованные критические мнения профессиональных историков об историках: мнения, влияющие на работу историков, их замечания при обсуждении, процедуры написания работ на близкие темы.
Прежде чем завершить этот раздел, будет полезным напомнить, в чем конкретно состоит наша цель и забота. Она непосредственно ограничивается функциональной специализацией «история». Мы исключили все, что принадлежит к функциональной специализации «коммуникации». Я не сомневаюсь в том, что историческое знание подлежит сообщению, и не только профессиональным историкам, но и, в определенной мере, всем членам исторического сообщества. Однако прежде чем удовлетворить эту потребность, историческое знание еще нужно приобрести и поддерживать на современном уровне. Настоящий раздел был посвящен первой задаче: установлению того, какой набор и какая последовательность операций обеспечива-
11 Herbert Butterfield, Georg HI and the Historians, London: Collins, 1957. О разнообразии точек зрения на историю историографии см. Carl Becker, «What is Historiography?», The Amercian Historical Review, AA (1938), 20—28; reprinted in: Phil. L. Snyder (ed.), Detachment and the Writing of History, Essays and Letters of Carl L. Becker, Cornell University Press, 1958.
ИСТОРИЯ
ют ее выполнение. Принято считать, что к ней лучше всего подступаться, не преследуя никаких собственных целей: во всяком случае, вовсе не они были моим главным резоном при различении между функциональными специализациями «история» и «коммуникации». Мой главный резон заключается в том, что эти специализации подразумевают разные задачи, решаемые разными способами, и пока их различие не будет признано и удержано, нельзя будет прийти к точному пониманию каждой из этих задач.
Опять-таки, для теоретиков исторического знания привычно сталкиваться с проблемами исторического релятивизма, отмечать влияние, которое оказывают на исторические труды взгляды историка на исторические возможности, его ценностные суждения, его Weltanschauung [мировоззрение], Fragestellung [способ постановки вопросов] или Standpunkt [исходная позиция]. Я опустил рассмотрение этого момента не потому, что не считаю его крайне важным, а потому, что он уже находится под контролем, и не только технических приемов критической истории, но и технических приемов нашей четвертой специализации — диалектики.
Стало быть, цель этого раздела строго ограничена. Она предполагает, что историку известно, как нужно вести разыскание и как нужно интерпретировать смысл документов. Она оставляет другим специализациям некоторые аспекты проблемы релятивизма, а также важную задачу — выявить степень влияния исторического знания на современную политику и практику. В нашу цель входило лишь сформулировать набор процедур, которые caeteris paribus [при прочих равных условиях] доставляют историческое знание; объяснить, каким образом это знание возникает, в чем оно состоит, и каковы его внутренние ограничения.
Хотя я был вынужден признать, что технические ресурсы критической истории не позволяют решить задачу полного устранения исторического релятивизма, я тем решительнее утверждаю, что они позволяют осуществить и действительно осуществляют его частичное устранение. Я настаивал и настаиваю на том, что критическая история — это не вопрос доверия к надежным свидетельствам, а вопрос открытия того, что до сих пор присутствовало в опыте, но не было надлежащим образом познано. В этом процессе открытия мы выявили не только его евристический, избирательный, крити-

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
ческий, конструктивный аспекты и аспект суждения, но и аспект экстатический, отменяющий ранее принятые перспективы и мнения, чтобы заменить их новыми, возникающими из кумулятивного взаимодействия данных, вопрошания, инсайта, догадок, образов и очевидных свидетельств. Именно так сама критическая история продвигается к объективному познанию прошлого, хотя ей могут препятствовать такие факторы, как ошибочный взгляд на исторические возможности, ошибочные или неточные ценностные суждения, неадекватность мировоззрения, исходной позиции или постановки вопроса.
Коротко говоря, в этой главе я попытался высветить набор процедур, которые разными путями приводят историков к утверждению возможности объективного исторического знания. Карл Бек-кер, например, признавал себя релятивистом в том смысле, что Weltanschauung влияет на работу историка, но в то же время утверждал, что значительная и все возрастающая часть знания объективно достижима12. Эрих Ротакер проводил корреляцию между Wahrheit [истиной] и Weltanschauung, так как они оказывают влияние на историческую мысль; но в то же время он утверждал существование правильности {Richtigkeit) применительно к критическим процедурам и собственным выводам историка13. Карл Хойси тоже считал, что философские взгляды не затрагивают критических процедур, хотя вполне могут оказывать влияние на способ написания истории14. Он также утверждал, что, хотя относительно простая форма, в которую историк организует свои материалы, заключается не в бесконечно сложном ходе событий, а только в сознании историка, тем не менее, разные историки, отправляясь от одной и той же исходной позиции, приходят к одинаковой организации своей работы15. Сходным образом Рудольф Бультман полагал, что критический метод, основанный на определенной Fragestellung, приводит к однозначным результа-
12 Цит. по: Carl Becker, «Review of Maurice Mendelbaum's The Problem of His
torical Knowledge», Philosophic Review, 49 (1940), 363, by C.W. Smith, Carl Becker: On
History and the Climate of Opinion, Cornell University Press, 1956, S. 97.
13 Erich Rothacker, Logik und Systematik der Geisteswissenschaften (Handbuch der
Philosophie), Munchen-Berlin, 1927, Bonn, 1947, S. 144.
14 Karl Heussi, DieKrisisdes Historismus, Tubingen: Mohr, 1932, S. 63.
'5 Ibid., p. 56.
ИСТОРИЯ
там16. Эти авторы по-разному говорят об одной и той же реальности. Полагаю, они имеют в виду, что существуют процедуры, которые, caeteris paribus, приводят к историческому знанию. Наша цель и забота в этой главе заключалась в том, чтобы указать на природу этих процедур.
l6 Rudolf Bultmann, "Das Problem der Hermeneutik", Zeitschrift fur Theologie und Kircje, 47 (1950), 64; см. также Glauben und Verstehen, II, Tubingen: Mohr, 1961, S. 229.
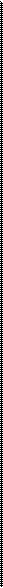 ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
Обычно историки довольствуются тем, что пишут историю, не задаваясь вопросом о природе исторического знания1. И это неудивительно. В самом деле, историческое знание достигается благодаря адаптации повседневных процедур человеческого понимания; и хотя сама адаптация требует научения, лежащие в ее основе процедуры слишком глубоки, спонтанны, неуловимы, чтобы их можно было объективировать и описать без длительного и в высшей степени специального усилия2. Даже такой великий новатор, каким был Леопольд фон Ранке, считал, что его способ работы сложился совершенно самостоятельно, в силу своего рода необходимости, а вовсе не в попытке подражать практике предшественника фон Ранке и первопроходца Бартольда Нибура3.
Однако время от времени историки вынуждены делать нечто большее, чем просто писать историю. Они ее преподают. Они чувствуют себя обязанными защищать свои позиции от угрозы заблуждения. Они оказываются перед необходимостью дать частичный или полный отчет в том, чтб они делают, когда пишут историю. Тогда они волей-неволей обращаются к более или менее адекватной или
1 The Varieties of History: From Voltaire to the Present. Ed., selection, introduction:
Fritz Stern, New York: Meridian Books, 1956, p. 14.
2 О понимании и суждении с позиций здравого смысла см. Insight, pp. 173—
181, 280-299.
3 G.P. Gooch, History and Historians in the Nineteenth Century, London: Longmans,
19522, p. 75.
2i8
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
неадекватной теории познания и легко вовлекаются в то или иное философское течение, с которым не в силах совладать.
Эта диалектика может быть в высшей степени поучительной — если, разумеется, не ограничиваться чисто логической проверкой ясности терминов, связности утверждений и строгости выводов. Ибо историк предлагает не связную теорию познания, а осознание природы своего материала и умение описывать его живо и конкретно, на что способен только практик.
1. ТРИ РУКОВОДСТВА
Руководства по историческому методу вышли из моды, но в последние годы XIX в. они были популярны и влиятельны. Я возьму три из них, представляющие разные тенденции, и сравню их между собой в одном, но, думаю, важном пункте, а именно, в пункте отношения между историческими фактами и их интеллигибельной взаимозависимостью, Zusammenhang.
В течение двадцати пяти лет Иоганн Густав Дройзен (1808-1884) непрестанно перерабатывал свои лекции «Энциклопедия и методология истории». Он также написал «Очерк историки» («Grundrifi der Historik»), вышедший в свет в виде Manuscriptdruck [оттиска рукописи] в 1858 и 1862, а в виде полноценного издания — в 1868, 1875 и 1882 гг. Интерес к наследию Дройзена сохраняется: так, издание, объединяющее лекции в версии 1882 г. и «Grundrifi» со всеми его вариантами, было в четвертый раз отпечатано в 1960 г4.
Дройзен разделяет работу историка на четыре части. Эвристика обнаруживает релевантный археологический материал, памятники, свидетельства. Критика оценивает их достоверность. Интерпретация высвечивает исторические реальности в полноте условий и процесса их возникновения. Наконец, презентация превращает повествование о прошлом в реальную силу, которая в настоящем воздействует на будущее5.
Так вот, это разделение у Дройзена отличается от разделения у его
4 J.G. Droysen, Historik. Vorlesungen iiber die Enzyklopadie und Methodologie der
Geschichte, hrsg. von Rudolf Hiibner, Munchen, I9604.
5 Очеркпозиции Дройзена см. вработе: Р. Hiinermann, DerDurchbruchgeschicht-
lichen Denkensim 19. Jahrhundert, Freiburg-Basel-Wien: Herder, 1967, SS. 111-128.
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
предшественников и современников в одном важном отношении: он ограничивает критику удостоверением надежности источников, они же распространяют ее на установление реальности исторических фактов. Дройзен воспринимал их позицию как проявление чистой инерции. Моделью исторической критики для них служила критика текста, принятая у филологов. Но критика текста — одно дело, а историческая критика — другое. Критика текста удостоверяет объективные факты, а именно, исходное состояние текста. Но исторические факты образуют не текст, а смысл текста: это сражения, советы, восстания. Они представляют собой сложные единства, результаты многообразных действий и взаимодействий индивидов. Они протяженны в пространстве и во времени; их нельзя изолировать и рассмотреть в некоем едином акте восприятия, но следует удерживать вместе, собирая многообразные отдельные события в целостное ин-терпретативное единство6.
Итак, с точки зрения Дройзена, историк вовсе не устанавливает предварительно факты, чтобы затем найти им истолкование. Напротив, факты и взаимосвязи образуют единый массив, бесшовную ткань. В совокупности они конституируют историческую реальность в полноте условий и процесса ее возникновения. Они открываются в ходе интерпретации, ведущейся под лозунгом: forschend verstehen — через разыскание приходить к пониманию. Разыскание ведется по четырем направлениям: во-первых, в направлении хода событий (например, военной кампании); во-вторых, в направлении условий, образующих контекст событий; в-третьих, в направлении характера участников событий; в-четвертых, в направлении идей и целей, которые при этом осуществлялись7. Таким образом, историческая интерпретация движется к исторической реальности, схватывая ряд событий сначала в их внутренних взаимосвязях, затем в их зависимости от ситуации, потом в свете характера, или психологии действующих лиц, и, наконец, как осуществление целей и идей. Только через это четверичное схватывание смысла и значения события оказываются раскрытыми в их собственной реальности.
Позиция Дройзена не стала главенствующей. В монументальном
6 Ibid., SS. 112 ff.
7 Ibid., SS. 118 ff.
22O
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
«Lehrbuch der historischen Methode und der Geschichtsphilosophie» [«Учебнике исторического метода и философии истории»] Эрнста Бернхай-ма можно различить сходное четверичное членение исторического труда; но здесь критика подразделяется на внешнюю и внутреннюю8. Внешняя критика определяет, являются ли единичные источники надежным историческим свидетельством9. Внутренняя критика должна удостоверить фактичность событий, засвидетельствованных несколькими источниками, взятыми вместе10. В результате могло бы сложиться впечатление, что сначала устанавливаются исторические факты, и лишь затем начинается работа по интерпретации, которую Бернхайм называет Auffassung [постижением] и определяет как обнаружение взаимозависимостей {Zusammenhang) между событиями11.
Тем не менее, остается фактом, что, хотя Бернхайм возлагал задачу установления событий на внутреннюю критику, он не считал это установление независимым от способа, каким историк схватывает взаимосвязи. Напротив, он прямо учил о том, что установление событий и схватывание их взаимосвязей зависимы и неотделимы друг от друга. Более того, он добавлял, что без объективного схватывания взаимосвязей нельзя должным образом выверить источники, релевантные для тех или иных разысканий12.
Еще дальше от позиций Дройзена стоит «.Introduction aux etudes historiques» [«Введение в исторические исследования»], написанное Ш. Ланглуа и Ш. Сеньобосом и опубликованное в Париже в 1898 г13. Это руководство разделяется на три части. Книга первая посвящена предварительным штудиям, книга вторая — аналитическим операциям, книга третья — операциям синтетическим. Аналитические операции разделяются на внешнюю и внутреннюю критику. На основе
8 Е. Bernheim, Lehrbuch der historischen Methode, Miinchen, 1905, S. 294.
9 Ibid., S. 300.
10 Ibid., S. 429.
11 Ibid., S. 522.
и Ibid., S.701.
13 Я привожу ссылки по английскому переводу, выполненному G.C. Berry (New York: Henry Holt, 1925). [Русский перевод: 111.-В. Ланглуа, Ш. Сеньобос, Введение в изучение истории, пер. А. Серебряковой; Государственная публичная историческая библиотека России. 2-е изд. / под ред. и со вступительной статьей К). И. Семенова. М., 2004. — Прим. пер.].


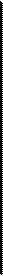
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
внешней критики подготавливаются критические издания текстов, устанавливаются их авторы, классифицируются исторические источники. Внутренняя критика осуществляется по аналогии с общей психологией и восстанавливает последовательность ментальных состояний автора документа. Она определяет: 1) чтб он имел в виду; 2) верил ли тому, о чем говорит; 3) оправдано ли его верование.
Благодаря этому последнему шагу документ, как считалось, получает статус, близкий статусу данных в «объективных» науках. Поэтому он становится эквивалентом наблюдения и должен использоваться тем же способом, каким используются наблюдения у естествоиспытателей14. Но в естественных науках факты считаются надежными, только если они не просто получены в единичном наблюдении, но подтверждены несколькими независимыми наблюдателями. История, с ее несовершенными источниками информации, не только не освобождается от этого принципиального требования, но должна тем строже ему подчиняться. Отсюда следует, что исторические факты, чтобы быть удостоверенными, нуждаются в независимых и взаимно поддерживающих свидетельствах15.
Внутренние следствия этого анализа не были упущены из вида. В самом деле, в нем факты были изъяты из их исходного контекста, изолированы их друг от друга и, можно сказать, разобраны на мельчайшие составные части'6. Соответственно, аналитические операции в книге второй нужно было дополнить синтетическими операциями в книге третьей. Они были описаны под такими рубриками, как классификация, вопрос и ответ, аналогия, группировка, вывод, выработка общей формулы. Но каждый из этих пунктов рисковал подвергнуться множественным искажениям, против которых непрестанно высказывались предостережения. Ловушек и вправду было так много, что позднее сам Ш. Ланглуа уже не писал историю, а довольствовался воспроизведением избранных документов17.
Итак, у Ланглуа и Сеньобоса появляется ясно проведенное различение и разделение между установлением исторических фактов и
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
установлением их взаимосвязей. Можно было бы подумать, что это различение и разделение опирается на понятия естествознания, популярные в позитивистских и эмпиристских кругах в XIX в18. Но в тех же самых кругах находились и те, кто задавал дальнейшие вопросы. Зачем что-то добавлять к фактам? Разве любое добавление, не очевидное для всех и каждого, не является субъективным? Почему не предоставить фактам говорить самим за себя?
2. ДАННЫЕ И ФАКТЫ
В этом пункте будет правильным ввести пояснение: данные есть нечто одно, а факты — другое.
Существуют данные чувств и данные сознания. Общим для тех и других является то, что они даны или могут быть даны. Их можно принимать или не принимать во внимание, исследовать или не исследовать, понимать, постигать, привлекать в качестве очевидного свидетельства в суждении или нет. Если нет, то они просто даны. Но в той мере, в какой они исследуются, они уже не просто даны, но также вступают в сочетание с другими компонентами познавательной деятельности человека.
Исторические факты, напротив, — это познанные события. События, которые познаны, принадлежат историческому прошлому. Познание событий для историка есть его настоящее. Более того, это познание есть человеческое познание: не какая-то изолированная деятельность, но деятельность составная, которая разворачивается на трех различных уровнях. Так, исторический факт будет обладать конкретностью объекта внешнего или внутреннего опыта; определенностью объекта понимания и постижения; неподатливостью того, что схватывается как нечто виртуально безусловное (или близкое к таковому), а значит, как нечто (вероятно) независимое от познающего субъекта19.
14 Langlois and Seignobos, Introduction, p. 67.
15 Ibid., p. 195 f.
16 Ibid., pp. 211, 214.
17 H.I. Marrou, The Meaning of History, Baltimore-Dublin: Helicon, 1966, p. 17.
18 Об этом движении см. Bemheim, Lehrbuch, SS. 648-667; Stern, Varieties,
PP. 16, 20, 120-137, 209-223, 314-328; P. Gardiner, Theories of History, New York:
Free Press, 1959, excerpts from Buckle, Mill, Compte; B. Mazlish, The Riddle of His
tory, New York: Harper & Row, 1966, глава о Конте.
19 О данных см. Insight, pp. 73 f.; о факте см. ibid., pp. 331, 347, 366, 411 ff.

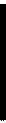
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
По мере того, как исследование движется вперед, инсайты накапливаются, а недосмотры уменьшаются. Этот длящийся процесс не затрагивает данные постольку, поскольку они даны или могут быть даны, но в очень существенной степени затрагивает их постольку, поскольку их разыскивают, сосредоточивают на них внимание, объединяют их тем или иным способом во все более обширные и сложные структуры. С другой стороны, только когда структуры приобретают оформленность, а процесс вопрошания начинает иссякать, — только тогда мало-помалу проступают факты. Ибо факты проступают не до того, как будут поняты данные, а лишь после того, как они будут поняты удовлетворительно и строго.
В критической истории существует и другое затруднение, ибо в ней совершаются два разных, хотя и взаимозависимых, процесса движения от данных к фактам. В первом случае данные представляют собой чувственно воспринимаемые памятники, материалы раскопок, повествования; опираясь на них, историк пытается прослеживать генезис и оценивать достоверность доставляемой ими информации. Факты, к которым ведет этот первый процесс, — это ряд утверждений, полученных из источников и помеченных знаком большей или меньшей надежности. В той степени, в какой они надежны, они доставляют информацию о прошлом. Но информация 5 которую они доставляют, — это, как правило, не историческое знание, а исторический опыт. Он касается фрагментов, отрывков и отрезков, которые привлекают внимание мемуаристов, мастеров эпистолярного жанра, авторов хроник, репортеров и комментаторов. Это не всестороннее видение происходящего в определенное время и в определенном месте: ведь современники, вообще говоря, не располагают средствами, необходимыми для формирования такого всестороннего видения. Отсюда следует, что факты, установленные в процессе критики, суть не исторические факты, а всего лишь данные для разыскания исторических фактов. За процессом критики должен последовать [второй] процесс — интерпретация, при которой историк соединяет вместе собранные им фрагменты информации и критически оценивает их. Только когда этот процесс интерпретации и реконструкции завершен, проступает то, что можно уже с полным правом назвать историческими фактами.
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ 3. ТРИ ИСТОРИКА
В знаменитом докладе, дважды прочитанном перед ученым сообществом в 1926 г., но опубликованном лишь посмертно, Карл Беккер вспоминает, как один из выдающихся и почтенных историков сказал ему: дело историка — «представить все факты и позволить им говорить самим за себя». По словам Беккера, за двадцать лет он научился тому, «что такой подход абсурден: во-первых, потому, что невозможно представить все факты; а во-вторых, потому, что, даже если бы вы смогли представить все факты, эти убожества не сказали бы ничего, вообще ничего»20.
Беккер не довольствовался атакой на то, чтб он считал иллюзией — одной из самых дорогих историкам XIX в.21. Шестнадцатью годами раньше, в статье, опубликованной в октябрьском номере «Atlantic Monthly» за 1910 г., он весьма убедительно описал, что именно должно было бы произойти, чтобы картотека, содержащая результаты исторической критики, могла привести историка к постижению исторического хода событий:
Когда он обращается к своим карточкам, одни аспекты отображенной в них реальности интересуют его более, другие — менее; одни сохраняются, другие забыты; некоторые аспекты способны положить начало новому направлению мысли; одни выглядят причинно взаимосвязанными, другие — связанными логически, третьи вообще не обнаруживают никакой заметной взаимосвязи. Причина этого проста: некоторые факты затрагивают сознание как интересные или важные, обладают некоторого рода осмысленностью, ведут к некоей желанной цели, потому что ассоциируются с идеями, которые уже присутствовали в сознании: они некоторым образом стыкуются с упорядоченным опытом историка. Этот оригинальный синтез — который не следует смешивать с подготовкой книги к публикации, это совсем другой вопрос, — осознается лишь отчасти. Он осуществляется почти автоматически. Сознание будет проводить отбор и различение с самого начала. Здесь важна вся «апперципирующая масса», которая улавливает то или иное новое впечатление и встраивает его в собственное растущее содержание. Это
го Carl Becker, Detachment and the Writings of History, Essays and Lectures edited by Phil Snyder, Ithaca N.Y.: Cornell, 1958, p. 54.
21 Ibid., p. 53.
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
правда, что, когда она включает в себя новые факты, старые идеи и понятия модифицируются, дифференцируются и даже разрушаются; но модифицированные идеи становятся новыми центрами притяжения. И таким образом этот процесс длится, возможно, годами. Окончательный синтез, безусловно, выстраивается из отдельных фактов — причинно обусловленных и выявляющих каждое отдельное изменение; но отдельный факт, отобранный в силу его важности, в любом случае был отобран в силу его важности для некоторой идеи, уже завладевшей данным полем22.
Я привел эту довольно длинную цитату потому, что в ней историк высвечивает род деятельности, следующий за исторической критикой и предшествующий написанию исторической работы. Нельзя сказать, что Беккер был успешным теоретиком познания: из его текстов не извлечь точной и связной теории генезиса исторического знания23. Тем не менее, он не был человеком, послушно следующим расхожим клише; и он был достаточно наблюдателен и внятен, чтобы удачно описать то, что я назвал бы постепенным накоплением ин-сайтов. Каждый из них дополняет, уточняет или корректирует предшествующие инсайты, пока — быть может, годами позже — поток дальнейших вопросов не иссякнет, и собранная историком информация о прошлом историческом опыте не претворится в историческое знание.
Вопросы, волновавшие Карла Беккера в Соединенных Штатах, волновали и Р.Д. Коллингвуда в Англии. Оба подчеркивали конструктивный характер работы историка. Оба выступали против того, что я назвал принципом пустой головы. Но позиция, против которой выступал Беккер, сводится к тому взгляду, что историк должен просто представить все факты и затем предоставить им самим говорить за себя. Коллингвуд атакует ту же позицию под именем «истории ножниц и клея»24. Это наивный взгляд на историю в терминах памяти, свидетельских показаний, достоверности25. Он предполагает, что
22 Ibid., pp. 24 f.
23 Это момент отмечает В.Т. Wilkins, Carl Becker, Cambridge: M.I.T. and Har
vard, 1961, pp. 189-209.
24 R.G. Collingwood, The Idea of History, Oxford, Clarendon, 1946, pp. 257-263,
269 f., 274-282.
25 Ibid., p. 234.
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
историк извлекает из источников утверждения, решает, следует ли считать их истинными или ложными, и вклеивает истинные утверждения в черновую тетрадь, чтобы затем переработать их в повествование, а ложные утверждения отправляет в мусорную корзину26. Это единственный тип истории, ведомый античному миру и Средним векам27. Он идет на убыль, начиная с Вико. Не рискуя говорить о его полном исчезновении, Коллингвуд, однако, утверждает, что любая история, которая пишется сегодня в соответствии с подобными принципами, устарела по меньшей мере на столетие28.
Таким образом, в исторических исследованиях произошла ко-перниканская революция29 — в той мере, в какой история сделалась равно критической и конструктивной30. Этот процесс атрибуируется историческому воображению31, а также логике, в которой вопросы более фундаментальны, чем ответы32. Эти две атрибуции отнюдь не являются несовместимыми. Историк начинает с утверждений, которые находит в своих источниках. Попытка представить в воображении их смысл порождает вопросы, ведущие к дальнейшим утверждениям в источниках. Постепенно историк прочерчивает сетку воображаемой конструкции, связывая воедино фиксированные точки, предоставляемые утверждениями источников33. Но эти так называемые фиксированные точки фиксированы не абсолютно, а относительно34. В своем нынешнем вопрошании историк решил принять их за фиксированные, но фактически их фиксированность — всего лишь плод предыдущего исторического вопрошания. Даже если утверждения, из которых исходит историк, фигурируют у Фукидида, все же именно историческое знание позволяет историку пойти далее простых знаков на бумаге: к узнаванию греческого алфавита, к значениям слов в аттическом диалекте, к аутентичности пассажей, к суждению, что
26 Ibid., p. 259.
27 Ibid., p. 258.
28 Ibid., p. 260.
29 Ibid., pp. 236, 240.
30 Ibid., p. 240.
31 Ibid., pp. 241 ff.
32 Ibid., pp. 269-274.
33 Ibid., p. 242.
34 Ibid., p. 243.
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
в этих случаях Фукидид знал, о чем говорит, и пытался поведать истину35.
Отсюда следует, что, если рассматривать историю не на примере того или иного труда, а в целом, она представляет собой автономную дисциплину. Она зависит от данных, от материалов, уцелевших от прошлого и доступных в настоящем. Но история — это не вопрос доверия к авторитетам и не вопрос вывода из авторитетных источников. Каким образом и в какой мере будут использованы источники, решают критические процедуры36. Конструктивные процедуры приводят к результатам, которые, быть может, были неведомы авторам источников. Поэтому «историк не только не основывает свои суждения на авторитетах, отличных от него самого, и не согласует свою мысль с их утверждениями, но сам выступает в качестве авторитета для самого себя, а его мысль автономна, независима и обладает неким критерием, которому должны соответствовать его так называемые авторитеты: критерием, на основании которого они и подлежат критической оценке»37.
Такую коперниканскую революцию Коллингвуд признает свершившейся в истории Нового времени. Эту точку зрения нельзя усвоить, исходя из наивно-реалистских или эмпиристских предпосылок. К сожалению, у Коллингвуда она представлена в идеалистическом контексте. Но, послужив средством введения удовлетворительной теории объективности и суждения, идеализм может быть устранен без ущерба для сути учения Коллингвуда об историческом воображении, исторической очевидности, логике вопросов и ответов.
Темы, которые рассматривались в Соединенных Штатах и в Англии, рассматривались и во Франции. В 1938 г. Реймон Арон представил очерки исторической мысли Дильтея, Риккерта, Зиммеля и Макса Вебера38, а в другом томе предложил свое собственное развитие идеи немецкого Verstehen [понимания], которое по-французски
35 Ibid., p. 244.
36 Ibid., p. 238.
37 Ibid., р. 236; см. р. 249; см. также Marrou, Meaning of History, pp. 307—310 (ци-
тир. по русскому переводу: Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. —
М.: «Наука», 1980).
3 R. Агоп, La philosophie critique de I'histoire, Paris: Vrin, 1950.
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
именовалось comprehension39. Но меня занимают сейчас не теоретики истории, а профессиональные историки, и поэтому я обращаюсь к Анри-Ирене Марру, который в 1953 г. был приглашен занять кафедру кардинала Мерсье (Chaire Cardinal Mercier) в Лувене и использовал эту возможность, чтобы обсудить природу исторического знания.
На следующий год вышла в свет работа А.-И. Марру «Об историческом знании» [«De (a conaissance historique»]i0. Она посвящена не теоретическим вопросам, а скорее предлагает систематический обзор, разумный и взвешенный синопсис тех выводов, к которым пришли историки относительно природы стоящей перед ними задачи41. По мнению автора, природа этой задачи была установлена столь же строго, что и теория эксперимента в дни Джона Стюарта Милля и Клода Бернара42. Таким образом, А.-И. Марру рассмотрел все общие вопросы исторического исследования, и сделал это с таким пониманием теоретических позиций и с такой чуткостью к бесконечной сложности исторической реальности, какие были присущи Питеру Гейлу43.
Из этого изобилия нас в данный момент интересует только отношение между фактом и теорией, анализом и синтезом, критикой и конструктивностью. А.-И. Марру рассматривает оба аспекта в двух последовательных главах. Он отдает себе отчет в том, что его воззрения на критику заставили бы его старых учителей-позитивистов перевернуться в гробу. Там, где они требовали непримиримости критического духа, он призывал к вчувствованию и пониманию44. Негативный критический подход, предполагавший озабоченность честностью, компетентностью и аккуратностью авторов, был хорошо приспособлен к нуждам профессиональной работы в области
39 R. Агоп, Introduction a la philosophie de I'histoire, Paris: Gallimard, 1948.
40 Цит. по английскому переводу: The Meaning of History, Baltimore and Dublin:
Helicon, 1966.
41 Marrou, Meaning of History, p. 25.
42 Позднее Марру был вынужден признать, что это согласие менее совершен
но, нежели ему казалось. См. приложение к Meaning of History, pp. 301—316.
43 . Сложность — постоянная тема в книге Питера Гейла: Pieter Geyl, Debates
with Historians, New York: Meridian Books, 1965. [Питер Гейл (1887-1966) — гол
ландский историк. — Прим. пер.]
44 H.-I. Marrou, Meaning of History, pp. 103 ff.
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
 политической и церковной истории Западной Европы в эпоху Средневековья, с ее изобилием вторичных хроник, подложных хартий и декреталий и датируемых задним числом житий святых45. Но задача историка не ограничивается устранением ошибок и подлогов. Документы можно использовать самими разными способами, и собственная задача историка в том и состоит, чтобы правильно понять свои документы, точно уловить, чтб они прямо или косвенно раскрывают, и, таким образом, использовать их со знанием дела46.
политической и церковной истории Западной Европы в эпоху Средневековья, с ее изобилием вторичных хроник, подложных хартий и декреталий и датируемых задним числом житий святых45. Но задача историка не ограничивается устранением ошибок и подлогов. Документы можно использовать самими разными способами, и собственная задача историка в том и состоит, чтобы правильно понять свои документы, точно уловить, чтб они прямо или косвенно раскрывают, и, таким образом, использовать их со знанием дела46.
Призывая к переходу от голой критики документов к их пониманию, А.-И. Марру подчеркивает также непрерывность и взаимозависимость между пониманием релевантных документов и пониманием хода событий. Историк начинает с того, что определяет тему, собирает досье из релевантных документов и фиксирует степень достоверности каждого из них. Но это всего лишь абстрактная схема. Продвижение в познании осуществляется по спирали. По мере того, как познание событий углубляется, характер документов предстает в новом свете. Исходный вопрос переформулируется; документы, казавшиеся нерелевантными, обретают значимость; на свет выходят новые факты. Так историк постепенно осваивает область своего исследования, обретая доверие к собственному пониманию смысла, цели и достоинства своих документов и постигая ход событий, прежде скрываемый, а ныне являемый документами47.
4. VERSTEHEN
Я уже упоминал дройзеновское понятие исторического исследования как forschend verstehen [исследуя, понимать], и то, как Рей-мон Арон ввел немецкую историческую рефлексию во французскую научную среду. Теперь мы должны обратиться к этой рефлексии, которая была эмпирической, не будучи эмпиристской. Она была эмпирической, потому что была тесно связана с работой немецкой исторической школы, а хартию этой школы составлял протест против гегелевского априорного выстраивания смысла истории. И она
45 Ibid., pp. 112 f.
46 Ibid., pp. 113 f. Cp. Collingwood, Idea of History, pp. 247, 259; Becker, Detach
ment, pp. 46 f.
47 H.-I. Marrou, Meaning of History, pp. 131 f.
не была эмпиристской, потому что вполне отдавала себе отчет в том, что историческое познание не сводится к вопросу всматривания: напротив, оно заключает в себе некий таинственный, интуитивный процесс, в котором историк приходит к пониманию.
Эта нужда в понимании явила себя двумя способами. Во-первых, существует герменевтический круг. Например, можно схватывать смысл предложения через понимание слов, но надлежащее понимание слов возможно только в свете предложения как целого. Сходным образом предложения относятся к параграфам, параграфы — к главам, главы — к книгам, книги — к ситуации и намерениям автора. Так вот, этой кумулятивной сетью взаимозависимостей не овладеть посредством какого-либо набора концептуальных процедур. Здесь нужен самокорректирующий процесс научения, в котором допо-нятийные инсайты накапливаются, чтобы дополнять, уточнять, исправлять друг друга.
Во-вторых, нужда в понимании вновь явила себя в иррелевант-ности универсального, или общего. Чем креативнее художник, чем оригинальнее мыслитель, чем величественнее гений, тем менее возможно подвести его свершение под универсальные принципы или общие правила. Если здесь вообще уместно говорить о правилах, то он сам становится источником новых правил, и хотя другие будут им следовать, они будут следовать им не точно так же, как это делал учитель. Даже не очень умные люди обладают своей оригинальностью, тогда как рабское подражание — дело не разума, а машины. Но хотя эта высокая степень индивидуальности, являющая себя в художнике, мыслителе, писателе, и не достижима для общих правил и универсальных принципов, она вполне достижима для понимания. Ибо в первую очередь понимается то, что дано чувству или сознанию, то есть то, что представлено в образах, словах, символах, знаках. Данное или представленное таким образом есть индивидуальное. Схваченное пониманием есть интеллигибельность индивидуального. Если не считать случаев утраты человеком надлежащего контроля над собственным употреблением языка, обобщения здесь являются дальнейшим, а в деле интерпретации, как правило, излишним шагом. Существует только одна «Божественная комедия», только один — шекспировский — «Гамлет», только один — гётевский — двухчастный «Фауст».
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ


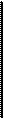
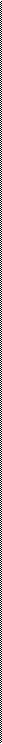 Пределы понимания, радиус его действия постепенно расширялись. К грамматической интерпретации текстов Фридрих Шлейер-махер (1768—1834) добавил психологическую интерпретацию, нацеленную на понимание личностей, и особенно на угадывание базового момента в творческом вдохновении писателя48. Август Бёк (1785-1867), ученик Ф. Вольфа и Ф. Шлейермахера, расширил пределы понимания до всего спектра философских наук. В его «Энциклопедии и методологии филологических наук» [«Enzyklopadie und Methodologie derphilologischen Wissenschaften»] идея филологии была осмыслена как интерпретирующая реконструкция построений человеческого духа49. То, что Бёк сделал для философии, Дройзену предстояло сделать для истории. Он сместил понятие понимания из контекста эстетики и психологии в более широкий контекст истории, (1) указав, что объектом понимания служит выражение, и (2) отметив, что не только индивиды, но и такие группы, как семьи, народы, государства, религии, выражают себя50.
Пределы понимания, радиус его действия постепенно расширялись. К грамматической интерпретации текстов Фридрих Шлейер-махер (1768—1834) добавил психологическую интерпретацию, нацеленную на понимание личностей, и особенно на угадывание базового момента в творческом вдохновении писателя48. Август Бёк (1785-1867), ученик Ф. Вольфа и Ф. Шлейермахера, расширил пределы понимания до всего спектра философских наук. В его «Энциклопедии и методологии филологических наук» [«Enzyklopadie und Methodologie derphilologischen Wissenschaften»] идея филологии была осмыслена как интерпретирующая реконструкция построений человеческого духа49. То, что Бёк сделал для философии, Дройзену предстояло сделать для истории. Он сместил понятие понимания из контекста эстетики и психологии в более широкий контекст истории, (1) указав, что объектом понимания служит выражение, и (2) отметив, что не только индивиды, но и такие группы, как семьи, народы, государства, религии, выражают себя50.
С именем Вильгельма Дильтея (1833—1911) связано дальнейшее расширение горизонта. Дильтей обнаружил, что немецкая историческая школа, противопоставлявшая исторический факт идеалистическим построениям a priori, в своих действительных процедурах была, тем не менее, гораздо ближе к идеалистическим, чем к эмпиристским идеям и нормам". С завидной проницательностью он указал на то, что успех исторической школы, как и более ранний успех естествознания, представляет собой новую данность для теории познания, и предложил строить на фундаменте этой новой данности. Подобно Канту, задававшемуся вопросом о том, каким образом возможны всеобщие начала a priori, Дильтей задал себе вопрос о возможности исторического знания и, в более широком смысле, о возможности наук о человеке, понятых как Geistwissenschaften [науки о духе]52.
Базовый шаг Дильтея можно представить как транспозицию гегелевской мысли — от идеалистического Geist [Духа] в человеческую
48 H.G. Gadamer, WahrheitundMethode, SS. 172-185; R.E. Palmer, Hermeneutics,
Evanston: Northwestern, 1969, pp. 84—97.
49 Hunermann, Durchbruch, S. 64; SS. 63-69 описывают мысль Бёка.
50 Ibid., SS. 106 ff.; Gadamer, Wahrheit, SS. 199-205.
51 Gadamer, Wahrheit, S. 205.
52 Ibid., S. 52; Palmer, Hermeneutics, pp. 100 ff.
ieben [жизнь]. Объективный дух Гегеля возвращается, но теперь он представляет собой элемент объективации, осуществляемой в конкретной человеческой жизни. Жизнь выражает себя; в выражении присутствует выражаемое. Таким образом, данные исследований человека не являются чем-то, что уже дано; сами по себе, до всякой интерпретации, они суть выражения, манифестации, объективации человеческой жизни. Затем, в процессе их понимания интерпретатором, предметом понимания становится и жизнь, которая в них выражена, манифестирована, объективирована53. Наконец, как интерпретация выражает и сообщает понимание интерпретатора, так объективации жизни представляют собой интерпретацию, которую жизнь дает самой себе: «Das Leben selbst legtsich aus» [«жизнь сама интерпретирует себя»]54.
Итак, в конкретной физической, химической, витальной реальности человеческой жизни тоже присутствует смысл. Он одновременно внутренний и внешний: внутренний — как выражающий, внешний — как выраженный. Он являет нужду и удовлетворение. Отвечает ценностям. Интендирует цели. Подчиняет средства целям. Конституирует социальные системы и наделяет их культурным значением. Преобразует окружающую природу.
Многие выражения индивидуальной жизни связаны между собой интеллигибельной сетью. Достижение этой интеллигибельной взаимосвязанности — вопрос не просто объединения всех выражений, осуществляемых на протяжении жизни. Скорее здесь имеет место развивающееся целое, которое присутствует в своих частях, артикулируя при каждом новом стечении обстоятельств те ценности, которые ему дороги, и те цели, которые оно преследует, и в результате обретая свою собственную индивидуальность и отличительные признаки. Как человеческое сознание не ограничено мгновением, но опирается на кумулятивную память и действует в соответствии со шкалой предпочтений, ориентированной на иерархию целей, — точно так же его выражения (не только все вместе, но и каждое в от-
53 Gadamer, Wahrheit, SS. 211, 214.
54 Ibid., S. 213; Palmer, pp. 103-114.
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
дельности) обладают способностью выявлять направление жизни и ее импульс55.
Присутствуя в жизни индивида, интеллигибельность присутствует также в общих смыслах, общих ценностях, общих целях, общих и взаимодополняющих видах деятельности групп. Могущие быть общими или взаимодополняющими, эти виды деятельности могут также различаться, противостоять друг другу, вступать друг с другом в конфликт. А значит, в принципе историческое понимание возможно и достижимо. Ведь если мы способны понять наши собственные жизни и жизни других людей поодиночке, то можем также понять их в их взаимосвязях и взаимозависимостях56.
Более того, как историк способен рассказать об интеллигибельном ходе событий, так ученый в области наук о человеке способен проанализировать повторяющиеся или развивающиеся структуры и процессы индивидуальной или групповой жизни. История и науки о человеке не только не противостоят друг другу, но зависят друг от друга. Ученый-гуманитарий должен будет увидеть свои данные в их надлежащем историческом контексте; историк же может вполне овладеть своим материалом, только если он овладеет также релевантными науками о человеке57.
Думаю, можно сказать, что Дильтей сделал многое для решения своей специфической проблемы. Он энергично провел различение между науками о природе и гуманитарными исследованиями. Он четко мыслил возможность исторического знания, не совпадающего ни с априорными конструкциями идеализма, ни с процедурами естествознания. Однако он не решил самую фундаментальную проблему — продвинуться за пределы как эмпиристских, так и идеалистических предпосылок. Его Lebensphilosophie [философия жизни] имеет эмпиристский крен, а его история и наука о человеке, основанная на понимании, Verstehen, не может быть усвоена эмпиристом58.
55 Gadamer, Wahrheit, SS. 212 f.
56 Wilhelm Dilthey, Pattern and Meaning in History, edited and introduced by
H.P. Rickman, New York: Harper & Row, 1962; London: Allen & Unwin, 1961. Chap
5,6.
57 Ibid., p. 123.
58 Gadamer, Wahrheit, SS. 218-228.
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
Далее можно коротко упомянуть два шага вперед в сравнении с позицией Дильтея. Во-первых, Эдмунд Гуссерль (1859-1938), осуществив доскональный анализ интенциональности, сделал очевидным, что человеческое мышление и суждение — не просто психологические события, но что они всегда и внутренним образом интендируют, подразумевают, имеют целью объекты, отличные от них самих59. Во-вторых, там, где Дильтей видел выражение и проявление жизни, Мартин Хайдеггер (1889- ) усматривает понимание как источник всех человеческих проектов. Таким образом, Verstehen есть Dasein — в той мере, в какой Dasein есть способность человека к бытию60. Отсюда следует универсальность герменевтической структуры: как интерпретация происходит от понимания выражения, так само выражение происходит от понимания того, чтб значит быть человеком.
Теперь нужно добавить несколько комментариев. Во-первых, наше употребление терминов «инсайт», «понимание», более конкретно и одновременно более широко, чем коннотат и денотат термина Verstehen. Инсайт случается в любом виде человеческого познания: в математике, естествознании, здравом смысле, философии, науке о человеке, истории, теологии. Он случается 1) в ответ на вопрошание и (2) по отношению к чувственной презентации или репрезентации, включая слова и символы любого рода. Он состоит в схватывании интеллигибельного единства или отношения некоторых данных, образов или символов. Он служит активным основанием, из которого исходят конципирование, определение, гипотеза, теория, система. Это исхождение, которое не просто интеллигибельно, но интеллектуально, служит человеческим источником томистской и августини-анской модели тринитарной теории61. Наконец, простое и отчетливое доказательство допонятийного характера инсайта предоставляет современная переформулировка эвклидовой геометрии62. «Начала»
59 Ibid., S. 230 f.
60 Gadamer, Wahrheit, S. 245.
61 Таков тезис моей книги: Verbum: Word and Idea in Aquinas, London: Darton,
Longman & Todd, and Notre Dame: University Press, 1967.
6г См., например, H.G. Forder, The Foundations of Euclidean Geometry, Cambridge: Cambridge University Press, 1927.
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
Эвклида зависят от инсайтов, которые неузнанно присутствуют в определениях, аксиомах и постулатах, которые легко возникают и служат основанием его выводов, но которые не могут быть выражены строго эвклидовым языком63.
Во-вторых, опыт и понимание, взятые вместе, служат источниками не знания, а только мысли. Чтобы продвинуться от мышления к познанию, необходимо добавить рефлективное схватывание виртуально необусловленного и его рациональное следствие — суждение. Этот третий уровень когнитивной деятельности осознается недостаточно теми авторами, которых мы упоминали; в результате не удается ясно и последовательно осуществить разрыв как с эмпиризмом, так и идеализмом.
В-третьих, помимо умного схватывания когнитивного факта, разрыв с эмпиризмом и идеализмом предполагает устранение когнитивного мифа. Существуют понятия знания и реальности, которые сформировались в детстве, которые выражены в терминах зрения и зримого, которые в течение столетий служили непоколебимым основанием материализма, эмпиризма, позитивизма, сенсуализма, феноменализма, бихевиоризма, прагматизма, и которые в то же время конституируют такие идеи понимания и реальности, которые идеалистам представляются абсурдными.
5. ПЕРСПЕКТИВИЗМ
В 1932 г. Карл Хойси опубликовал небольшую книгу под заглавием «Кризис историзма» («Die Krisis des Historismus»). Ее первые двадцать одна страница посвящены разбору различных значений термина Historismus. Среди множества кандидатур Хойси отобрал в качестве значения для Historismus, переживающего кризис, то видение истории, которое было принято у историков около 1900 г. Это видение
3 Например, Эвклид решает задачу построения равнобедренного треугольника с помощью двух пересекающихся окружностей; но нет эвклидова доказательства для того, что окружности должны пересекаться. Или: Эвклид доказывает теорему о том, что внешний угол треугольника больше, чем противолежащий внутренний угол, строя внутри внешнего угла угол, равный внутреннему противолежащему углу; но нет эквлидова доказательства для того, что этот построенный угол должен лежать внутри внешнего угла. Однако это «должен» может быть схвачено инсайтом, не имеющим формулировки на языке Эвклида.
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
включает в себя четыре главных элемента: (1) определенное, но наивное понимание природы объективности; (2) взаимосвязь всех исторических объектов; (3) универсальный процесс развития; (4) ограничение интересов историка миром опыта64.
Из этих четырех элементов виновником кризиса стал первый65. Около 1900 г. историки, подчеркивая опасность крена в субъективизм, исходили из того, что объект истории прочно установлен и однозначно структурирован. Мнения людей о прошлом могут меняться, но само прошлое остается тем, чем оно было. Хойси же, напротив, считал, что структуры существуют только в сознании людей, что результатом исследований, ведущихся с одинаковых позиций, становятся сходные структуры, и что историческая реальность не только не структурирована однозначно, но представляет собой не-угасающий стимул ко все новым историческим интерпретациям66.
Хотя в этом утверждении присутствуют идеалистические импликации, Хойси не желал бы толковать его столь жестко. Он тотчас добавляет, что в человеческой жизни много констант, и что однозначно определенные структуры не так уж редки. Что проблематично, так это введение таких констант и структур в более обширные целостности. Чем реже и уже контексты, к которым принадлежит личность, группа, движение, тем меньше вероятность того, что последующее развитие повлечет за собой пересмотр более ранней истории67. С другой стороны, там, где затрагиваются разные мировоззрения и ценности, можно ожидать согласия по отдельным фактам и отдельным комплексам фактов, но разногласия по более крупным вопросам и более широким взаимосвязям68.
Необходимо, однако, внести поправку более фундаментального характера. Базовый пункт Хойси заключается в том, что историческая реальность слишком сложна, чтобы ее когда-либо можно было описать исчерпывающим образом. Никто не смог бы рассказать всего, что произошло в битве при Лейпциге 16-19 октября 1813 г. Историк
64 Karl Heussi, Die Krisis des Humanismus, Tubingen, 1932, S. 20.
| Ibid., S. 56. 67 Ibid., SS. 57 f. 68 Ibid.,S. 58. |
65 Ibid., SS. 37, 103.
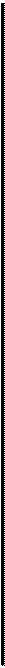 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
неизбежно отбирает то, что считает важным, и опускает то, что ему кажется незначительным. Такой отбор совершается до некоторой степени спонтанно, в силу некоей таинственной способности, которая нащупывает ожидаемое, группирует и выстраивает; которая обладает тактом, необходимым для оценки и уточнения; которая действует так, как если бы в уме историка существовал некий правящий и контролирующий закон перспективы, и отсюда, как результат исходной позиции историка, его окружения, его предпосылок, его образования, с необходимостью возникали бы именно те структуры и акценты, которые возникли. Наконец, этот результат нельзя описать как просто ре- | организацию старого материала: он представляет собой нечто новое. Он далеко не соответствует неистощимой сложности исторической реальности, но, будучи результатом отбора того, что с определенной точки зрения представляется значительным или важным, он действительно нацелен то, чтобы неким неполным и приблизительным способом осмыслить и изобразить историческую реальность69.
Именно этот неполный и приблизительный характер исторического повествования объясняет, почему история переписывается для каждого нового поколения. Исторический опыт переходит в историческое знание, только если историк задает вопросы. Вопросы можно задавать, только вводя языковые категории. Эти категории влекут за собой шлейф своих предпосылок и импликаций, окрашены дополнительными тонами забот, интересов, вкусов, чувствований, внушений и памятований. Историк в своей работе неизбежно испытывает влияние своего языка, образования, среды, а они с ходом времени неизбежно меняются70, рождая спрос и предложение на переписанную историю. Так, превосходные исторические труды, созданные в последние десятилетия XIX в., потеряли всякую привлекательность в тридцатых годах XX в., причем даже в глазах тех, кто полностью
69 Ibid., S. 47 f. Это место — превосходное описание процесса накопления
инсайтов, хотя сам Хойси придерживается мнения (pp. cit., S. 60), что Verstehen
относится только к более крупным этапам построения, а не к базовому консти-
тутированию исторического знания. Об отборе в истории см. Marrou, Meaning in
History, p. 200; Charlotte W. Smith, Carl Becker: On History and the Climate of Opinion,
Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1956, pp. 125-130.
70 Heussi, Krisis, SS. 52-56.
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
разделяет религиозные, богословские, политические и социальные воззрения старших авторов71.
Причина, по которой историк не в силах выскользнуть из своего времени и места, состоит в том, что развитие исторического понимания не допускает систематической объективации. Математики подчиняются строгой формализации, дабы быть уверенными в том, что не допускают неузнанных инсайтов. Естествоиспытатели систематически определяются свои термины, точно формулируют гипотезы, строго разрабатывают предпосылки и импликации гипотез и осуществляют развернутые программы верификации через наблюдение и эксперимент. Философы могут прибегнуть к трансцендентальному методу. Но историк пробивается сквозь путаницу исторической реальности, опираясь на тот же тип и способ понимания, что и мы, прочие люди, в нашей повседневной жизни. Исходным пунктом служит не набор неких постулатов или общепринятая теория, а все то, что историк уже знает и что принимает за достоверное. Чем умнее и культурнее историк, чем шире его опыт, чем более он открыт ко всем человеческим ценностям, чем лучше и строже его образование, тем выше его способность к открытию прошлого72. Если исследование продвигается успешно, то инсайты историка настолько многочисленны, сопрягаются столь спонтанно, дополняют, уточняют или корректируют друг друга столь живо и непосредственно, что историк может объективировать — не всякий поворот и разворот в генезисе своего открытия, но лишь общие линии картины, к которой он пришел на данный момент73.
Говоря, что историк не в силах выскользнуть из условий своего формирования и среды, я не вовсе не имею в виду, что он не в силах преодолеть индивидуальных, групповых или общих предвзятостей74 или не может пережить интеллектуального, морального или религиозного обращения. Опять-таки, я никоим образом не отзываю сказанного ранее об «экстатическом» характере развития исторического инсайта, о способности историка покидать точку зрения своего места и времени, чтобы понять и оценить ментальность и ценности другого
71 Ibid., S. 51.
72 Marrou, Meaning of History, p. 247.
73 Ibid., pp. 292 f.; cp. Smith, pp. 128, 130.
74 О предвзятости см. Insight, pp. 218—242.

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
места и времени. Наконец, я не хочу сказать, что историки с разными условиями формирования и среды не могут понять друг друга и таким образом перейти от расхождения к сближению своих взглядов на прошлое75.
То, что я хочу выразить, называется перспективизмом. Если релятивизм утратил надежду прийти к истине, то перспективизм акцентирует сложность предмета, о котором пишет историк, а также специфическое отличие исторического знания от знания математического, естественнонаучного и философского. Он не замыкает историков в условиях их формирования и среды, не ограничивает их собственными предвзятостями, не отказывает им в доступе к развитию и открытости. Но он действительно указывает на то, что историкам с разными условиями формирования и среды придется избавляться от своих предвзятостей, переживать обращения, пробиваться к пониманию совсем других ментальностей, свойственных другим местам и временам, и даже более того — к пониманию друг друга, каждого на его собственный, особый манер. Историки могут исследовать одну и ту же область, но задавать разные вопросы. Где одинаковы вопросы, там могут различаться подспудные, определяющие контексты допущений и импликаций. Одни историки могут считать очевидным то, что другие тщатся доказать. Открытия могут быть равноценными, но подход к ним определяться разными комплексами предварительных вопросов, выраженных в разных терминах, а значит, ведущих к разным следствиям в виде дальнейших вопросов. Даже там, где результаты во многом совпадают, отчет о них может быть написан для разных читателей, и каждый историк должен будет уделить особое внимание тому, что может быть легко упущено или недооценено его читателями.
Таков перспективизм. В широком смысле этот термин можно отнести к любому случаю, когда разные историки по-разному рассматривают один и тот же предмет. Но его собственный смысл весьма специфичен. Он относится не к различиям, идущим от человеческой склонности заблуждаться, от ошибочных суждений о возможности, вероятности, факте или ценности. Он относится не к различиям, идущим отличной неадекватности, глупости, упущений, неспособности
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
или недобросовестности. Он относится не к истории как движущемуся процессу, не к тому постепенному завоеванию, которое открывает все новые пути в превращению потенциального свидетельства в формальное, а возможно, и актуальное свидетельство76.
В собственном и специфическом смысле перспективизм является результатом трех факторов. Во-первых, историк конечен, его информация неполна, его понимание не охватывает все доступные ему данные, его суждения не всегда надежны. Если бы его информация была полна, понимание всеохватно, а каждое суждение надежно, тогда в них не было бы места ни отбору, ни перспективизму. Тогда историческая реальность могла бы познаваться в ее строгости и в ее однозначных структурах.
Во-вторых, историк производит отбор. Главный элемент отбора — основанное на здравом смысле спонтанное развертывание понимания, которое может быть объективировано в его результатах, но не в его действительном протекании. В свою очередь, этот процесс обусловлен всем предшествующим развитием историка и его навыками, а относительно этого развития не может быть ни полной информации, ни полного объяснения. Коротко говоря, процесс отбора не подлежит объективированному контролю ни сам по себе, ни в своих начальных условиях.
В-третьих, нет ничего неожиданного в том, что процессы отбора и их начальные условия варьируются. В самом деле, историки — существа исторические, погруженные в движущийся процесс, в котором ситуации меняются, смыслы смещаются, а разные индивиды реагируют каждый по-своему.
Коротко говоря, сам исторический процесс, а внутри него — личностное развитие историка порождают ряд разных точек зрения. Разные точки зрения порождают разные процессы отбора. Разные процессы отбора порождают разные истории, которые (1) не противоречат друг другу, (2) не дают полной информации и полного объяснения, (3) но представляют собой неполные и приблизительные отображения бесконечно сложной реальности.
Означает ли это, что история — не наука, а искусство? Коллингвуд Указывает на три отличия исторического повествования от литера-
75 Marrou, Meaning of History, p. 235.
24O
Collingwood, Idea of History, p. 247; Marrou, p. 291.
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
турного вымысла. Во-первых, историческое повествование рассматривает события, локализованные в пространстве и датированные во времени; в романе же места и даты могут быть фиктивными и очень часто действительно таковы. Во-вторых, все исторические повествования должны быть совместимы друг с другом и в тенденции соединяться в единый взгляд. В-третьих, историческое повествование на всяком своем шаге подкрепляется свидетельством, тогда как роман либо вовсе не ссылается на свидетельство, либо, если ссылается, эта ссылка, как правило, составляет часть вымысла77.
С другой стороны, история отличается от естествознания тем, что ее предмет отчасти конституирован смыслом и ценностью, чего нельзя сказать об объектах естественных наук. Она также отличается от наук о природе и человеке, взятых вместе, ибо ее результаты представляют собой описания и повествования, относящиеся к от- , дельным лицам, действиям, вещам, тогда как результаты названных выше наук притязают на универсальную значимость. Наконец, хотя и можно сказать, что история — это наука в том смысле, что она руководствуется определенным методом, что этот метод приводит к одним и тем же ответам всякий раз, когда задаются одинаковые вопросы, и что результаты исторических исследований имеют кумулятивный характер, все же приходится признать, что эти свойства метода реализуются в истории по-другому, нежели в естественных и гуманитарных науках.
Любое открытие представляет собой накопление инсайтов. Но в науках это накопление выливается в некую строго определенную систему, тогда как в истории оно выражается в описании и повествовании, относящимся к индивидуальному. Научная система может быть проверена бесконечным множеством способов, но описание и повествование, которые можно поставить под подозрение разными способами, по-настоящему проверяются только повторением исходного исследования. Прогресс в науке приводит к построению лучшей системы, но прогресс в исторических штудиях означает более полное и глубокое понимание более частных явлений. Наконец, ученый-естествоиспытатель может стремиться к более полному объяснению всех феноменов, потому что его объяснения суть законы и
77 Collingwood, Idea of History, p. 246.
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
структуры, под которые подпадает бесчисленное множество отдельных случаев; но историку, стремящемуся к полному объяснению всей истории, потребовалось бы больше информации, чем доступно, а затем потребовались бы бесчисленные объяснения.
Теперь вернемся на мгновение к тому видению истории, которое было общепринятым в начале XX столетия. Из всего сказанного явствует, что его ошибочность заключалась не в том, в чем усматривал ее Карл Хойси. Прошлое фиксировано, и его интеллигибельные структуры однозначны; но прошлое, которое таким образом фиксировано и однозначно, есть бесконечно сложное прошлое, которое историки познают лишь неполным и приблизительным образом. Именно неполное и приблизительное знание прошлого рождает пер-спективизм.
Наконец, утверждать перспективизм означает вновь отбросить ту точку зрения, что историк должен лишь рассказать все факты и предоставить им говорить самим за себя. Это означает вновь осудить историческую концепцию «ножниц и клея», вновь сожалеть вместе с А.-И. Марру об опустошении, произведенном позитивистскими теориями «научной» истории78. Но это также добавляет и новый момент: история говорит не только о прошлом, но и о настоящем. Историки устаревают для того, чтобы быть открытыми заново. Открытие заново находит их — если вообще находит — устаревшими более, чем когда-либо; но значение открытия заново заключается не в прошлом, о котором писал историк, а в собственном самораскрытии историка. Отныне его повествование ценится за то, что оно воплощает в себе собственную человечность автора, служит свидетельством из первых рук о самом историке, его окружении, его времени79.
6. ГОРИЗОНТ
Сэр Льюис Нэмир описал чувство истории как «интуитивное понимание того, как не происходили события»80. Он имел в виду, разумеется, тот случай, когда такое интуитивное понимание является плодом исторического исследования; но мы теперь обращаемся к
78 Marrou, Meaning of History, pp. 10 f., 23, 54, 138,161 f., 231.
79 Ibid., p. 296.
Cm. Stern, Varieties, p. 375.
^43

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
горизонту, а это направляет наше внимание к предпониманию, которое историк выводит не из исторического исследования, а из других источников.
На этом вопросе Карл Беккер остановился в докладе, прочитанном в Корнельском университете в 1937 г. и в Принстоне в 1938 г. Тема доклада — правило Э. Бернхайма, согласно которому факт может быть установлен показаниями по меньшей мере двух независимых и не заблуждающихся свидетелей. Рассматривая каждый термин в этом правиле, Беккер сосредоточивается на вопросе о том, не считают ли историки свидетеля заблуждающимся не в силу его взволнованности, эмоциональной вовлеченности или слабой памяти, но исключительно в силу того, что сам историк имеет собственный взгляд на то, что возможно, а что невозможно. Ответ Беккера утвердителен. Когда историк убежден, что событие невозможно, он всегда будет твердить, что свидетели заблуждаются, будь их два или две сотни. Другими словами, у историков есть свои предубеждения — если не относительно того, что должно было произойти, то, по крайней мере, относительно того, что произойти не могло. Эти предубеждения не выводятся из изучения истории, а рождаются из тех мнений, той атмосферы, в которой историк живет и откуда он незаметно для себя заимствует некоторые твердые убеждения относительно природы человека и мира. После того, как эти убеждения укоренились, историку легче поверить в недостоверность сколь угодно большого числа свидетельств, чем допустить, что невозможное действительно
Й1
произошло .
Открытое признание того факта, что у историков имеются идеи-предубеждения, и что эти идеи оказывают влияние на историю, которую пишут историки, вполне согласуется не только с тем, что бьио сказано выше о взглядах Беккера, но и с тем, что сказали мы сами о горизонте и смысле. Каждый из нас живет в мире, опосредованном смыслом, в мире, выстроенном на протяжении многих лет общей суммой нашей сознательной интенциональной деятельности. Этот мир определяется не только конструктивными деталями, но и процедурами базового выбора. Когда такой выбор сделан и положен в основание постройки, его следует придерживаться — или же от-
81 Smith, Carl Becker, pp. 89-90.
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
ступиться от него, снести постройку и строить заново. Такую радикальную процедуру начать нелегко, осуществлять тяжело, доводить до завершения — долго. Она сравнима с радикальной хирургической операцией, а большинство из нас смотрит на скальпель с робостью и орудует им неловко.
Итак, историк занимается тем, что расширяет свой опосредованный смыслом мир, обогащает его человеческим, прожитым, частным. Его исторические вопросы в значительной мере относятся к деталям, но в них могут затрагиваться и вопросы принципиальные, определяющие базовый выбор. Возможны ли чудеса? Если историк строит свой мир, исходя из того, что чудеса невозможны, как ему быть со свидетельствами, подтверждающими факты совершения чудес? Очевидно, он должен либо отступиться и перестроить свой мир по новым правилам, либо посчитать этих свидетелей некомпетентными, нечестными или заблуждающимися. Беккер был совершенно прав, когда говорил, что последнее легче всего. Он был совершенно прав, когда говорил, что число свидетелей не имеет значения. Действительно имеет значение лишь одно: много их или мало, свидетели чудес могут существовать в мире этого историка лишь в том случае, если они объявляются некомпетентными, нечестными или, по крайней мере, заблуждающимися.
Более четверти века назад в очерке «Отстраненность и написание истории» Беккер выразил полное осознание того, что, о какой бы отстраненности ни заявляли историки, они не отстранены от доминирующих идей своего собственного века82. Они отлично знают, что никакой объем свидетельств не установит о прошлом того, чего не обнаруживается в настоящем83. Аргумент Юма в действительности вовсе не доказывает, что чудес никогда не было. На самом деле он доказывает, что историк не может внятно разбираться в прошлом, если прошлое осталось для него невнятным84. Чудеса исключаются потому, что они противоречат тем законам природы, которые в поколении этого историка считаются установленными; но если ученые-
&г Becker, Detachment and the Writing of History, p. 25. 83 Ibid., p. 12.
Ibid., p. 13.
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ естественники найдут для них место в опыте, то найдутся также исто-
ос
рики, которые восстановят их в истории .
Что справедливо для вопросов о фактах, справедливо и для вопросов об интерпретации. Религия в XX в. сохраняется, но больше не объясняет средневекового аскетизма. Монастыри ассоциируются не столько со спасением души, сколько с приютом для странников и осушением болот. Св. Симеон Столпник не есть нечто физически невозможное: наряду с одноглазыми чудищами и странствующими рыцарями он может вписаться в мир ребенка; но его мотивы лежат за пределами взрослого опыта и, скорее всего, будут объявлены патологическими86.
Тезис Беккера о том, что историки работают в свете заранее принятых идей, подразумевает отказ от просвещенческого и романтического идеала беспредпосылочной истории87. Конечно, этот идеал имеет то преимущество, что изначально исключает все заблуждения, которые историк унаследовал от родителей и учителей, а также всё, что было порождено его собственной невнимательностью, недальновидностью, недалекостью. Но остается фактом, что, если математики, естествоиспытатели и философы опираются на предпосылки, которые они могут прямо признать, то историк работает в свете своего целостного личностного развития, а это развитие не допускает полного и прямого формулирования и признания88. Сказать, что историк должен работать без предпосылок, равнозначно тому, чтобы утверждать принцип пустой головы, требовать, чтобы историк не получал образования, изымался из процессов, именуемых по-разному — социализацией или аккультурацией89, — дабы освободиться от историчности. Ибо предпосылки историка — это не только его личные предпосылки, но проживаемые в нем результаты развития, которые человеческое общество и культура медленно накапливали в течение столетий90.
85 Ibid., р. 13 f.
86 Ibid., p. 22 f.
87 Ср. Gadamer, Wahrheit, SS. 256 ff.
88 Cm. Insight, p. 175.
89 Cm. P. Berger, T. Luckmann, The Social Construction of Reality, Garden City,
N.Y.: Doubleday, 1966.
9° Gadamer, Wahrheit, S. 261.
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
Ньюмен заметил по поводу методического сомнения Декарта, что было бы лучше во все верить, чем во всем сомневаться. Ибо универсальное сомнение не оставляет человеку основы для продвижения вперед, тогда как универсальное верование может заключать в себе и некоторую истину, которая со временем и постепенно вытеснит заблуждения. Сходным образом, думаю, мы должны довольствоваться тем, чтобы позволить историкам быть образованными, социализированными, аккультурированными, историческими существами, даже если это вовлекает их в некоторые заблуждения. Мы должны позволить им писать их истории в свете все того, чтб они знают или думают, что знают, и в свете всего, чтб они незаметно для себя принимают как само собой разумеющееся. Поступать иначе они не могут, а плюралистичное общество позволяет им делать то, чтб они могут. Только не нужно заявлять, что они пишут беспредпосылочную историю, ибо этого не может никто. Мы должны признать, что допущение истории, написанной в свете заранее принятых идей, может иметь результатом разные понимания истории, разные методы исторического исследования, непримиримые точки зрения и несовместимые исторические повествования91. Наконец, мы должны искать методы, которые помогут историкам с самого начала избежать непоследовательных допущений и процедур, и мы должны развивать методы более высокого уровня, которые послужили бы средством сглаживания различий после того, как несовместимые истории будут написаны.
Но в данной главе мы можем лишь признать существование этих потребностей. Ответить на них — дело не функциональной специализации «история», а дальнейших специализаций — диалектики и Фундирования. Ибо любое заметное изменение горизонта совершается не на основании этого же самого горизонта, а через усмотрение совсем иной и, на первый взгляд, непостижимой альтернативы, за которым следует обращение.
7. ЭВРИСТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ
Имеются ли у историка философские предпочтения? Прибегает ли он к аналогиям, использует ли идеальные типы, следует ли опре-
91 Напротив, перспективизм (в нашем понимании этого термина) подразумевает разные, но не несовместимые истории.
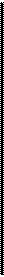
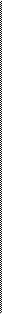
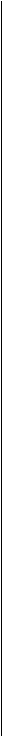 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
деленной теории истории? Должен ли он объяснять, исследовать причины, определять законы? Стремится ли он к некоторым социальным и культурным целям, подвержен ли кренам или беспристрастен? Свободна ли история от ценностного подхода или связана с ценностями? Что присуще историкам — знание или верование?
Таковы возникающие вопросы. Они относятся не только к тому, как историк представляет себе историю, но и к практике исторического исследования и написания истории. Соответственно, разные ответы будут производить изменения в той или иной эвристической структуре92, то есть в том или ином элементе исторического метода.
Во-первых, историку вовсе нет нужды иметь дело с философией в том общем, но слишком широком смысле, который подразумевает содержание всех книг и курсов, претендующих называться философскими. Нет таких резонов, по которым историку нужно было бы пробираться через этот лабиринт.
Однако существует вполне реальная связь между историком и философией, если понимать «философию» в предельно узком смысле, а именно, как набор реальных условий возможности исторического вопрошания. Эти реальные условия суть человеческий род, останки и следы прошлого, сообщество историков с его традициями и инструментами, выполняемые историками сознательные интен-циональные операции, особенно в том, что касается исторического исследования. Следует заметить, что релевантными являются именно условия возможности, а не гораздо более широкий и вполне определенный набор самих возможностей, обусловливающий в каждом конкретном случае историческое исследование.
Коротко говоря, история относится к философии, как исторический метод относится к трансцендентальному методу или, в свою очередь, как богословский метод относится к трансцендентальному методу. Историк может знать или не знать об этом отношении. Если он о нем знает, тем лучше. Если не знает, он, тем не менее, может быть превосходным историком, подобно тому, как г-н Журден мог говорить на превосходном французском, не ведая, что говорит прозой. Но, будучи превосходным историком, он вряд ли сможет рас-
92 Об эвристических структурах см. Insight, Index s.v. Heuristic. Заметим, что «эвристический» имеет тот же корень, что «эврика».
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
суждать о собственных процедурах в историческом исследовании, не угодив в те ловушки, примеры которых мы привели в этой главе.
Во-вторых, очевидно, что историк, обращаясь от настоящего к прошлому, вынужден прибегать к своего рода аналогии. Проблема в том, что этим термином обозначаются самые разные процедуры, от предельно надежных до обманчивых. Соответственно, необходимо проводить различение.
Вообще говоря, настоящее и прошлое называются аналогичными, когда они отчасти похожи, а отчасти не похожи. Далее, вообще говоря, прошлое считается похожим на настоящее, за исключением тех случаев, когда имеется очевидное свидетельство его непохожести. Наконец, в той мере, в какой историк опирается на свидетельство непохожести, он рассказывает историю; но в той мере, в какой он утверждает, что должна быть похожесть или не может быть непохожести, он либо выводит это из тех мнений, в атмосфере которых живет, либо представляет некую философскую позицию.
Далее, не нужно считать, что настоящее известно полностью и целиком. Напротив, мы доказывали на всем протяжении этой работы, что панорамного видения исторического периода следует ожидать не от современников, а от историков. Более того, хотя историк вынужден выстраивать свои аналогии, опираясь прежде всего на знание настоящего, он может таким образом изучить историю и затем выстраивать дальнейшую историю по аналогии с познанным прошлым.
Далее, природа неизменна, тогда как социальные установления и культурные интерпретации подвержены изменениям. Имеются доступные свидетельства того, что исторический метод высветит еще больше различий. Порой мы слышим, что прошлое должно согласовываться с опытом настоящего, но по этому поводу Коллингвуд высказывается весьма саркастически. Древние греки и римляне контролировали численность населения, бросая на произвол судьбы новорожденных младенцев, и этот факт не становится сомнительным оттого, что лежит за пределами повседневного опыта авторов «Кембриджской истории Древнего мира»93.
Далее, хотя возможность чудес и их совершение — темы не методолога, а теолога, могу заметить, что единообразие природы мыслилось в разные времена по-разному. В XIX в. считалось, что законы
93 Collingwood, Idea of History, p. 240.

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
природы выражают необходимость, и мнение Лапласа о том, что из некоторой данной стадии процесса теоретически возможно вывести весь ход событий, воспринималось всерьез. Теперь же законы классического типа считаются не необходимостями, а верифицированными возможностями; они обобщаются на основе того принципа, что сходное понимается сходным образом, и служат основанием для предсказания или дедукции не сами по себе, а лишь будучи встроены в некие повторяющиеся схемы. Эти схемы функционируют конкретным, не абсолютным образом, но только при равенстве прочих условий; а остаются ли прочие условия равными, это вопрос статистической вероятности94. Очевидно, что позиции науки в отношении чудес пошатнулись.
Наконец, хотя каждому историку приходится работать, исходя из аналогии между тем, что ему известно о настоящем, и тем, что он узнал о прошлом, диалектическое противостояние между противоречивыми историями все же нуждается в общепринятом основании. Основанием, которые предложили бы мы, служит трансцендентальный метод, распространенный на методы теологии и истории посредством конструктов, выведенных из самого трансцендентального метода. Другими словами, нечто вроде того, что мы разрабатываем в этих главах. Люди, занимающие иные философские позиции, предложили бы, несомненно, альтернативные решения. Но эти альтернативные решения лишь послужили бы дальнейшему прояснению диалектики расходящихся линий разыскания, интерпретации, истории.
В-третьих, используют ли историки идеальные типы? Сразу замечу, что понятие идеального типа и его употребление обычно ассоциируется с именем немецкого социолога Макса Вебера, но в строго историческом контексте идеальные типы обсуждал, помимо прочих авторов, А-И. Марру.
Идеальный тип — это не описание реальности или гипотезы относительно реальности. Это теоретический конструкт, в котором возможные события интеллигибельно связаны между собой и образуют внутренне последовательную систему. Она полезна одновременно с эвристической и с объяснительной точек зрения, поскольку подсказывает и помогает сформулировать гипотезы, а когда конкретная си-
94 О таком понимании науки см. Insight, chap. 1-4.
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
туация приближается к теоретическому конструкту, может направлять анализ ситуации и способствовать ее ясному пониманию95.
А.-И. Марру приводит в качестве примера идеального типа книгу Фюстеля де Куланжа «La cite antique»*. Полис понимается в ней как конфедерация крупных патриархальных семей, объединенных во фратрии, а затем в племена; она скреплена культом предков или героев и обладает общим центром, вокруг которого сосредоточивается ее практическая деятельность. Но такая структура имеет основанием не отбор того, что является общим для всех отдельных античных полисов или большинства из них, а сосредоточение на самых показательных случаях, а именно, тех, которые наиболее прозрачны и обладают наибольшей объяснительной силой. Использование таких идеальных типов двойственно. В той мере, в какой историческая ситуация отвечает условиям идеального типа, она получает от него объяснение. В той мере, в какой она не отвечает условиям идеального типа, она высвечивает конкретные отличия, которые в противном случае не были бы замечены, и побуждает задавать вопросы, которые в противном случае, возможно, не были бы заданы96.
А.-И. Марру одобряет применение идеальных типов в историческом исследовании, но высказывает два предостережения. Во-первых, это всего лишь теоретические конструкты: нужно удерживаться от соблазна восторженности, ошибочно принимающей их за описание реальности. Даже когда они в самом деле схватывают в основных чертах историческую реальность, не следует легко довольствоваться ими, затушевывать их несообразности, сводить историю к тому, что, по существу, представляет собой абстрактную схему. Во-вторых, не так легко разработать адекватный идеальный тип: чем богаче и насыщеннее конструкт, тем сложнее его применить; чем он схематичнее и неопределеннее, тем от него меньше пользы для истории97.
Наконец, я бы предложил рассматривать в качестве источника идеальных типов «Изучение истории» Арнольда Тойнби. Сам Тойнби
95 Max Weber, The Methodology of Social Sciences, New York: Free Press, 1949,
PP. 89 ff.
* Фюстель де Куланж Н.Д. Гражданская община древнего мира. Пер. с франц. Под ред. Д.Н. Кудрявского. СПб., 1906. — Прим. пер.
96 Marrou, Meaning of History, pp. 167 ff.
97 Ibid., pp. 170 ff.
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
соглашался с тем, что его труд вовсе не так эмпиричен, каким он его задумал. Столь решительный критик, как Питер Гейл98, в то же время считал этот труд чрезвычайно стимулирующим и признавал, что столь отважные и творческие умы, как Тойнби, призваны выполнять существенно важную функцию". Эта функция состоит, полагаю, в том, чтобы доставлять материалы, из которых могут быть выведены тщательно сформулированные идеальные типы.
В-четвертых, следует ли историк определенной теории истории? Под теорией истории я понимаю не приложение к истории некоторой теории, установленной научным, философским или богословским методами. У таких теорий есть свой способ легитимации; о них надлежит судить по их собственным заслугам. Они расширяют знание историка и придают большую точность его суждениям, не создавая исторического знания, но способствуя его развитию. Но я понимаю под теорией истории такую теорию, которая идет дальше ее научного, философского или богословского основания и высказывает утверждения о действительном ходе человеческих дел. Такого рода теории формулировал, например, Брюс Мазлиш при обсуждении великих умозрительных концепций, от Вико до Фрейда100. Их следует критиковать в свете их научных, философских или богословских оснований. В той мере, в какой они способны устоять перед такой критикой, они полезны как идеальные типы крупной формы101 и могут употребляться с учетом предостережений, уже высказанных относительно использования идеальных типов. Но они никогда не схватывают вполне всей сложности исторической реальности, а значит, имеют тенденцию резко высвечивать одни аспекты и взаимосвязи и оставлять в тени другие, столь же или даже более важные. Как говорит А.-И. Марру, «самая изобретательная гипотеза... подчеркивает красным карандашом некоторые из линий, затерянных на диаграмме, где тысячи кривых пересекают друг друга во всевозможных
98 См. его критические оценки в работе: Pieter Geyl, Debates with Historians
(London 1955).
99 P. Gardiner, Theories of History, p. 319.
юо См. Bruce Mazlish, The Riddle of History, New York: Harper & Row, 1966. 101 См. В. Mazlish, op. cit., p. 447.
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
направлениях»102. Общие гипотезы хотя и полезны, но легко превращаются в «большие машины антипонимания»103.
В-пятых, дает ли историк объяснения? Если исходить из различия в немецком языке erklaren [объяснять] и verstehen [понимать], то естествоиспытатели объясняют, а историки только понимают. Однако такое различение несколько искусственно. Те и другие понимают; те и другие сообщают о схваченной ими интеллигибельности. Различие заключается в характере схваченной интеллигибельности и в способе, каким она развертывается. Естественнонаучная интеллиги-бельность претендует быть внутренне связной системой или структурой, приложимой к любому специфическому набору или ряду случаев. Она выражается техническим языком, постоянно тестируется через сопоставление каждого ее следствия с данными и либо приводится в соответствие с ними, либо преодолевается, когда перестает успешно проходить тестирование. Напротив, историческая интел-лигибельность подобна интеллигибельности здравого смысла. Она представляет собой содержание обыденного накопления инсайтов, которые сами по себе неполны. Они никогда не могут быть приложены к какой бы то ни было ситуации без паузы, в которой совершается прикидка, насколько они релевантны; и, если в этом есть нужда, к ним добавляются несколько новых инсайтов, извлеченных из наличной ситуации. Такое понимание в соответствии со здравым смыслом подобно инструменту многоцелевого назначения, у которого количество целей огромно, а способ употребления зависит от данной задачи. Но здравый смысл рассуждает и говорит, намечает Цели и действует, имея в виду не общее, а частное и конкретное. Его общие формулировки — это не принципы, релевантные для любого возможного случая, а пословицы, подсказывающие, чтб будет полезным держать в уме, и, как правило, идущие в паре с противоположным советом: «Семь раз отмерь, а один отрежь!» — «Кто не рискует, тот не пьет шампанское!»104.
Историческое объяснение — это изощренная и расширенная версия понимания с точки зрения здравого смысла. Его цель — интеллектуальная реконструкция прошлого, но не в его рутине, а в каждом
Marrou, Meaning of History, p. 200.
| 103 104 |
Ibid., p. 201.
Cm. Insight, pp. 173-181. ■,.; :■.„•

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
из его отступлений от прежней рутины, в переплетении последствий каждого такого отступления, в развертывании процесса, который теоретически хотя и мог бы повториться, но, по всей вероятности, никогда не будет повторен.
В-шестых, должен ли историк исследовать причины и определять законы? Историк не определяет законов; определение законов—дело ученого-естественника или гуманитария. Историк также не исследует причин, если «причину» понимать в техническом смысле, какой она приобрела по мере развития наук. Но если понимать «причину» в обиходном смысле, как «потому что», тогда историк в самом деле исследует причины: ведь обиходный язык и есть язык здравого смысла, а историческое объяснение — это выражение именно того типа понимания, который присущ здравому смыслу. Наконец, обсуждаемые обычно проблемы исторического понимания возникают, видимо, в силу того, что игнорируются различия между научным способом человеческого постижения и тем способом, который присущ здравому смыслу105.
В-седьмых, стремится ли историк к неким социальным и культурным целям, подвержен ли он кренам или беспристрастен?
Историк вполне может быть приверженцем социальных и культурных целей, но в той мере, в какой он практикует функциональную специализацию «история», его приверженность имеет не ближайший, а отдаленный характер. Непосредственная цель историка — выяснить, что происходило в прошлом. Если он выполняет свою работу как должно, он разыщет материалы, которые могут быть использованы для достижения социальных и культурных целей. Но он не будет выполнять свою работу как должно, если, решая свои задачи, будет находиться под воздействием не только имманентных требований самих задач, но и внеположных им мотивов и целей.
Соответственно, мы проводим различение, некоторым образом параллельное различению Макса Вебера между социальной наукой и социальной политикой106. Социальная наука — это эмпирическая дисциплина, организующая данные о групповом поведении. Ей за-
105 Возрастание инсайтов в математике и естествознании рассматривается
в книге Insight, chap. 1—5; возрастание инсайтов в области здравого смысла —
chap. 6-7.
106 Max Weber, Methodology of the Social Sciences, pp. 52 ff.
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
нимаются прежде всего ради нее самой. Только когда она достигает собственной конечной цели, она может с пользой применяться в построении эффективной политики, направленной на достижение социальных целей. Сходным образом наши две фазы теологии удерживают в разделённом состоянии, с одной стороны, наши встречи с религиозным прошлым, а с другой стороны, наши действия в настоящем ради будущего.
Далее, все люди подвержены кренам. В самом деле, крен — это блокировка или искажение интеллектуального развития, а такие блокировки или искажения возникают четырьмя основными способами. Есть крен бессознательной мотивации, выявленный глубинной психологией. Есть крен индивидуального эгоизма, а также более мощные и ослепляющие крены группового эгоизма. Наконец, есть общий крен здравого смысла, при котором интеллект сосредоточивается на частном и конкретном, но при этом обычно считает себя всезнающим. Обо всем этом я подробно говорил в другом месте и могу здесь не повторяться107.
Так вот, историк должен отстраниться от всех кренов. В действительности он нуждается в таком отстранении больше, нежели ученый: ведь работа ученого поддается адекватной объективации и общественному контролю, тогда как открытия историка аккумулируются в способе развертывания здравого смысла, и единственной адекватной и позитивной формой контроля здесь будет лишь наличие другого историка, прослеживающего те же свидетельства.
Как именно мыслится достижение такой отстраненности, зависит от теории познания и морального склада историка. Наш рецепт — постоянное и все более точное приложение трансцендентальных предписаний: будь внимательным, будь умным, будь разумным, будь ответственным. Эмпиристы же мыслят объективность как вопрос видения всего того, что есть и доступно видению, и не-видения того, чего нет. Соответственно, они требуют от историка чистой рецептивности, которая принимала бы впечатления феноменов, но исключала бы любую субъективную активность. Именно против такого взгляда на вещи выступает К. Беккер в очерке «Отстраненность и написание истории», а затем в работе «Что такое исторические
107 Insight, pp. 191-206, pp. 218-244.

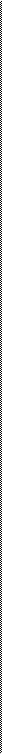 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
факты?»108. Позднее, когда Беккер имел возможность наблюдать no-ij зитивизм в действии, причем в его худших формах, он решительно выступил против него и настаивал на том, что главной ценностью является достижение истины109. Но, как я уже заметил, К. Беккер так и не разработал полной теории.
В-восьмых, свободна ли история от ценностей? Как функциональная специализация, история свободна от ценностей в уже обрисованном смысле: она не заботится непосредственно о достижении социальных и культурных целей. История принадлежит к первой фазе теологии, устремленной к встрече с прошлым: чем более адекватной будет эта встреча, тем более плодотворной она может оказаться; но невозможно добиться успеха в своей специальности, если пытаться заниматься ею и одновременно чем-то совсем другим. К тому же социальные и культурные цели — это воплощенные ценности: они подвержены искажениям и кренам, а потому забота о них может не только исказить, но и извратить историческое исследование.
Кроме того, история свободна от ценностей и в другом смысле: она представляет собой функциональную специализацию, которая стремится установить фактическое положение дел, апеллируя к эмпирической данности. Но ценностные суждения не устанавливают положения дел и не образуют эмпирической данности. Стало быть, и в этом смысле история опять-таки свободна от ценностей.
Наконец, история не свободна от ценностей в том смысле, что историк якобы воздерживается от ценностных суждений. В самом деле, хотя функциональные специализации сосредоточиваются на целях, характеризующих один из четырех уровней сознательной ин-тенциональной деятельности, они, тем не менее, осуществляют операции на всех четырех уровнях. Историк устанавливает фактическое положение дел, не игнорируя данные, не пребывая в непонимании, не опуская ценностные суждения, но выполняя все это ради установления фактического положения дел110.
На самом деле ценностные суждения для историка суть не что иное, как средства, благодаря которым его работа становится от-
108 Becker, Detachment, pp. 3-28; pp. 41-64.
109 Smith, Carl Becker, p. 117.
"° См. эссе Майнеке о Стерне, Varieties, pp. 267-288.
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
бором вещей, достойных познания. Именно поэтому, по выражению Майнеке, история — это «содержание, мудрость и вехи нашей жизни»111. И это влияние ценностных суждений отнюдь не означает вторжения субъективности. Ценностные суждения бывают истинными и ложными. Первые объективны в том смысле, что они суть результаты морального самотрансцендирования. Вторые субъективны в том смысле, что они представляют неудачу в осуществлении морального самотрансцендирования. Ложные ценностные суждения — это вторжение субъективности, но истинные ценностные суждения — достижение моральной объективности: той объективности, которая не только не противостоит объективности истинных суждений о фактах, но предполагает и дополняет их, добавляя к чисто познавательному самотрансцендированию самотрансцендиро-вание моральное.
Но если историк и формулирует ценностные суждения, все же не в этом заключается его специальность. Задача формулирования суждений о ценностях и контрценностях, которые предлагает нам прошлое, возложена на идущие следом специализации — диалектику и фундирование.
Наконец, в-девятых: имеют ли историки верования? Они не имеют верований в том смысле, что критическая история — это не компиляция свидетельств, рассматриваемых как достойные веры. Но историки имеют верования в том смысле, что они не могут экспериментировать с прошлым, как естествоиспытатели экспериментируют с природными объектами. Они имеют верования в том смысле, что не могут держать перед глазами реальности, о которых говорят. Они имеют верования в том смысле, что зависят от критически оцениваемой работы друг друга и участвуют в динамичном сотрудничестве ради прогресса знания.
8. НАУКА И УЧЕНОСТЬ
Я хочу предложить конвенцию. Закрепим термин «наука» [science] за тем знанием, которое содержится в принципах и законах и подлежит либо универсальной верификации, либо пересмотру. Термин «Ученость» [scholarship] пусть обозначает то знание, которое на осно-
Ibid., p. 272.
ве здравого смысла постигает присущие здравому смыслу мышление, речь, действие, имевшие место в отдаленных местах и / или в отдаленные времена. Филологи, лингвисты, экзегеты, историки пусть в общем и целом именуются не учеными, а эрудитами, знатоками [scholars]. Нужно понимать, однако, что человек может быть одновременно ученым и знатоком. Он может прилагать современную науку к пониманию древней истории, а может обращаться к историческому знанию ради обогащения современной научной теории.
ДИАЛЕКТИКА
Диалектика, четвертая из наших специализаций, имеет дело с конфликтами. Конфликты могут быть открытыми или скрытыми. Они могут корениться в религиозных источниках, религиозных традициях, высказываниях авторитетов, сочинениях теологов. Их предметом могут быть противоположно ориентированные разыскания, противоположные интерпретации, противоположные истории, стили оценки, горизонты, доктрины, системы и политики.
Не всякая противоположность диалектична. Одни различия устраняются с обнаружением новых данных; другие, которые мы называем различиями перспективы, просто свидетельствуют о сложности исторической реальности. Но за ними стоят фундаментальные конфликты, вырастающие из явной и подразумеваемой теории познания, этической позиции, религиозных воззрений. Эти конфликты глубоко затрагивают ментальность индивида и преодолеваются только через интеллектуальное, моральное, религиозное обращение. Функции диалектики — высветить такие конфликты и предоставить технические средства, которые позволят объективировать субъективные различия и способствуют обращению.
1. ГОРИЗОНТЫ
Слово «горизонт» буквально означает окружность, линию, на которой зрительно соприкасаются земля и небо. Эта линия ограничивает поле нашего зрения. Когда мы движемся относительно нее, горизонт отступает спереди и замыкается сзади. Так что для разных точек зрения имеются разные горизонты. Более того, для каждой но-


 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
вой точки зрения и нового горизонта совокупность видимых объектов распределяется по-разному. Объекты, которые нельзя увидеть —. во всяком случае, в данный момент, — лежат за пределами горизонта. Внутри горизонта лежат объекты, которые в данный момент видимы.
Наше поле зрения, а также видимая цель нашего познания и сфера наших интересов взаимосвязаны. Подобно тому, как поле зрения варьируется в зависимости от точки зрения, так видимая цель познания и сфера наших интересов варьируются в зависимости от эпохи, в которую мы живем, от нашего социального происхождения и окружения, образования и личностного развития. Отсюда происходит метафорический или, пожалуй, аналогический смысл слова «горизонт». В этом смысле лежащее за пределами нашего горизонта есть просто то, что лежит вне сферы нашего познания и наших интересов: то, чего мы не знаем и о чем не заботимся. Но то, что лежит внутри нашего горизонта, в той или иной мере — большей или меньшей — является предметом интереса и познания.
Различия в горизонте могут быть взаимодополнительными, генетическими или диалектическими. Рабочие, мастера, контролеры, техники, инженеры, менеджеры, врачи, адвокаты, преподаватели имеют разные интересы. В некотором смысле они живут в разных мирах. Каждый из них прекрасно знает свой собственный мир, но каждый знает и о других мирах, и каждый признает необходимость других миров. Таким образом, их горизонты в своей множественности до какой-то степени включают друг друга, более того, дополняют друг друга. Порознь они не самодостаточны, а вместе представляют мотивации и знания, необходимые для функционирования совместного мира. Такие горизонты взаимодополнительны.
Далее, горизонты могут различаться генетически, соотносясь друг с другом как последовательные стадии некоторого процесса развития. Каждая последующая стадия предполагает предыдущие, отчасти включая их в себя, а отчасти трансформируя их. Именно по-тому, что стадии делятся на предыдущие и последующие, нет двух одновременных стадий. Они представляют собою части не единого совместного мира, а единой биографии или единой истории.
Далее, горизонты могут противостоять друг другу диалектически. То, что интеллигибельно в одном горизонте, в другом оказывается
ДИАЛЕКТИКА
неинтеллигибельным. Что для одного истинно, для другого ложно. Что для одного хорошо, для другого плохо. Каждый может осознавать существование другого и, стало быть, некоторым образом включать его в себя. Но такое включение означает также отрицание и отвержение, ибо наличие другого горизонта объясняется — по крайней мере, отчасти — всеядностью мышления, приверженностью мифам, неведением или заблуждением, слепотой или иллюзией, отсталостью или незрелостью, неверностью, злой волей, отречением от Божьей благодати. Подобное отвержение другого может быть страстным, и тогда призыв к открытости и терпимости способен привести человека в ярость. Но отвержение может быть также твердым и холодным, как лед, без намека на страсть или хоть на какое-нибудь чувство, за исключением, быть может, легкой улыбки. Астрология и геноцид равно переходят границы допустимого, но первая вызывает насмешку, второй же — проклятия.
Наконец, горизонты представляют собой структурированные результирующие прошлых достижений, а также условия и в то же время ограничения дальнейшего развития. Они структурированы, ибо любое знание — не просто добавление к прежнему знанию, а, скорее, органическое вырастание из него. Таким образом, все наши намерения, утверждения, деяния помещены в контекст. К этим контекстам мы обращаемся, когда прикидываем резоны для наших целей, когда проясняем, расширяем, уточняем наши утверждения или когда объясняем наши поступки. В эти контексты должен вписываться каждый новый элемент знания и каждый новый фактор в наших позициях. Что не будет вписано, то не будет замечено, а если и будет замечено, то покажется иррелевантным или неважным. Следовательно, горизонты определяют диапазон наших интересов и знаний, служат плодотворным источником дальнейшего познания и заботы. Но они также представляют собой пределы, которыми ограничивается наша возможность усвоить более того, чего мы уже достигли.
2. ОБРАЩЕНИЯ И ЧЛЕНЕНИЯ
Жозеф де Финанс провел различение между горизонтальным и вертикальным осуществлением свободы. Горизонтальное осуществление — это решение или выбор, которые совершаются в некоем Установленном горизонте. Вертикальное осуществление — это набор
2б1
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
суждений и решений, посредством которых мы переходим из одного горизонта в другой. Так вот, может существовать последовательность таких вертикальных осуществлений свободы, и в каждом случае новый горизонт, даже будучи заметно более глубоким, широким и богатым, тем не менее, согласуется со старым и развивается из его потенциальных возможностей. Но случается и так, что перемещение в новый горизонт влечет за собой разворот в противоположную сторону, что оно берет начало в старом горизонте через отречение от его характерных черт, что оно начинает новую последовательность, которая выявляет еще ббльшую глубину, широту и богатство. Такой разворот и новое начало и есть то, что подразумевается под обращением.
Обращение может быть интеллектуальным, моральным или религиозным. Хотя каждое из трех связано с остальными двумя, все же каждое представляет особый тип события и должно быть рассмотрено само по себе, прежде чем соотноситься с остальными.
Интеллектуальное обращение — это радикальное прояснение, а, следовательно, и устранение несообразно упорного и тупикового мифа о реальности, объективности и человеческом познании. Миф состоит в том, что познание подобно зрению, объективность — видению присутствующего и не-видению отсутствующего, а реальное есть то, что выставлено на обозрение. Но этот миф упускает из вида различие между миром непосредственности, то есть младенческим миром, и миром, опосредованным смыслом. Мир непосредственности — это сумма видимого, слышимого, осязаемого, ощущаемого на вкус и запах, чувствуемого. Он вполне согласуется с мифическим видением реальности, объективности, познания. Но это лишь малый фрагмент мира, опосредованного смыслом. Ибо мир, опосредованный смыслом, есть мир, познаваемый не только в чувственном опыте индивида, но и во внешним и внутреннем опыте культурного сообщества, а также в непрестанно проверяемых и перепроверяемых суждениях сообщества. Соответственно, познание — это не просто зрение: это переживание, понимание, суждение и верование. Критерии объективности — не простые критерии наглядного видения, но составные критерии переживания, понимания, суждения и верования. Познаваемая реальность — не просто предмет видения: она дается в опыте, организуется и эстраполируется в понимании, полагается в суждении и веровании.
гвг
ДИАЛЕКТИКА
Последствия мифа разнообразны. Наивный реалист познает мир, опосредованный смыслом, но думает, что познает его, просто на него глядя. Эмпирист сужает объективное познание до чувственного опыта: для него понимание и постижение, суждение и верование — всего лишь субъективные виды деятельности. Идеалист настаивает на том, что человеческое познание всегда включает в себя как разумение, так и чувство; но он сохраняет эмпиристское понимание реальности и поэтому думает о мире, опосредованном смыслом, не как о реальном, но как об идеальном. Только критический реалист способен признать факты, связанные с человеческим познанием, и сказать, что мир, опосредованный смыслом, есть реальный мир, — причем способен лишь в той мере, в какой сумеет показать, что процесс переживания, понимания и суждения есть процесс самотрансцендирования.
Мы сейчас обсуждаем не чисто технический философский момент. Эмпиризм, идеализм и реализм именуют три совершенно разных горизонта, у которых нет общих идентичных объектов. Идеалист никогда не имеет в виду того, что имеет в виду эмпирист, а реалист никогда не имеет в виду того, что имеют в виду эти двое. Эмпирист может доказывать, что квантовая теория ничего не говорит о физической реальности, потому что имеет дело только с отношениями между феноменами. Идеалист согласился бы с этим, добавив, что, конечно, это верно применительно ко всем наукам, а в действительности — к человеческому познанию в целом. Критический реалист возразил бы обоим: верифицированная гипотеза обладает вероятной истинностью, а то, что вероятно истинно, отсылает к тому, что вероятно истинно в реальности. Возьмем другой пример: что такое исторические факты? Для эмпириста они суть то, что некогда имело место и что можно было увидеть. Для идеалиста они — ментальные конструкции, тщательно выстроенные на основе данных, засвидетельствованных в документах. Для критического реалиста исторические факты — это события в мире, опосредованном истинными актами смысла. Возьмем третий пример: что такое миф? Существуют психологический, антропологический, исторический и философский ответы на этот вопрос. Но существуют также редукционистские ответы: миф есть повествование о сущностях, которых не найти в эм-пиристском, идеалистском, историцистском, экзистенциалистском горизонтах.

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
Довольно примеров. Их можно умножать до бесконечности, так как философские вопросы универсальны по своей направленности, и некоторая форма наивного реализма может выглядеть абсолютно очевидной в глазах очень многих. Как только эти люди начинают говорить о познании, объективности, реальности, так тотчас выходит на свет допущение, согласно которому любое познание должно быть чем-то вроде зрения. Чтобы освободиться от этой ошибки и прийти к самотрансцендированию, которое необходимо в человеческом процессе выхода к познанию, часто приходится ломать глубоко укорененные навыки мышления и речи. Только так можно стать хозяином самого себя — точно осознав, чтб мы делаем, когда познаём. Это и есть обращение, новое начало, новый старт. Он открывает путь к дальнейшим прояснениям и продвижениям.
Моральное обращение изменяет критерий решения и выбора, заменяя удовлетворение ценностями. Пока мы остаемся детьми или несовершеннолетними, нас убеждают, упрашивают, заставляют, принуждают поступать правильно. По мере того, как наше знание человеческой реальности возрастает, наше соответствие человеческим ценностям упрочивается и оттачивается, наши наставники все в большей мере предоставляют нас самим себе, чтобы наша свобода могла реализовать свое нарастающее стремление к подлинности. Так мы подходим к тому экзистенциальному моменту, когда обнаруживаем, что наши решения затрагивают нас самих не менее, чем они затрагивают выбираемые или отвергаемые объекты, и что решать, чтб сделать из самого себя, каждому из нас придется самому. И тогда наступает время для осуществления вертикальной свободы; тогда моральное обращение заключается в том, чтобы выбрать истинное благо, более того, выбрать ценность вопреки удовлетворению, если ценность и удовлетворение вступают в конфликт. Конечно, такое обращение еще очень далеко от нравственного совершенства: одно дело — решить, другое — выполнить. Человек еще должен обнаружить и искоренить в себе индивидуальные и групповые крены, а также крены общего характера1. Он должен непрестанно прогрессировать в познании человеческой реальности и потенциальности, как они даны в существующей ситуации. Он должен непрестанно
1 См. Insight, pp. 218-242.
ДИАЛЕКТИКА
удерживать в ней различёнными элементы прогресса и упадка. Он должен непрестанно всматриваться в свои интенциональные ответы на ценности и подспудные шкалы предпочтений. Он должен прислушиваться к критике и протестам. Он должен пребывать в готовности учиться у других. Ибо моральное знание — действительное достояние только нравственно добротных людей, и пока человек не заслужит этого звания, он должен продвигаться вперед и учиться.
Религиозное обращение — это захваченность предельной заботой. Это пребывание в любви не от мира сего, полное и постоянное самозабвение, без всяких условий, оговорок или исключений. Такое самозабвение — не акт, а динамичное состояние, начало последующих актов, им предшествующее. В ретроспекции оно открывается как глубинный поток экзистенциального сознания, как безоговорочное принятие призвания к святости, как, возможно, возрастающая простота и пассивность молитвы. В разных религиозных традициях религиозное обращение интерпретируется по-разному. Для христиан это — любовь Божья, льющаяся в наши сердца через дарованного нам Святого Духа; это дар благодати. Со времен Августина проводилось различение между благодатью действующей и содействующей. Действующая благодать — это замена каменного сердца плотяным: замена, которая совершается по ту сторону горизонта каменного сердца. Содействующая благодать — это плотяное сердце, которое становится поистине таковым в добрых делах, совершаемых посредством человеческой свободы. Действующая благодать есть реальное обращение, содействующая благодать — действенность обращения: постепенное продвижение к полному и всецелому преображению всей жизни и чувствования человека, его мыслей, слов, деяний или недеяний2.
Как интеллектуальное и моральное, так и религиозное обращение представляет собой модальность самотрансцендирования. Интеллектуальное обращение есть обращение к истине, достигаемой в познавательном самотрансцендировании. Моральное обращение
г О действующей и содействующей благодати у св. Фомы см. В. Lonergan, Theological Studies 2 (1941), 289-324; 3 (1942), 69-88; 375-402; 533-578. В форме книги см. В. Lonergan, Grace and Freedom, London: Darton, Longman & Todd, and New York: Herder and Herder, 1971.




 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
есть обращение к ценностям, которые постигаются, утверждаются и осуществляются в моральном самотрансцендировании. Религиозное обращение есть всецелое пребывание-в-любви, которое служит действенным основанием всякого самотрансцендирования, будь то в разыскании истины, в осуществлении человеческих ценностей или в занятой человеком позиции по отношению к миру, к его основе и цели.
Коль скоро интеллектуальное, моральное и религиозное обращение равно имеют дело с самотрансцендированием, то в случае, когда все три вида обращения совершаются в одном сознании, их взаимные отношения можно помыслить в терминах расслоения. Я употребляю это слово не в гегелевском смысле, а в том смысле, какой придал ему Карл Ранер3, имея в виду, что расслаивающее выходит за пределы расслаиваемого, что оно вносит нечто новое и отличное, ставит все на новую основу, но не мешая расслаиваемому и не разрушая его, а, напротив, нуждаясь в нем, включая его, сохраняя все его собственные черты и свойства и приводя их к полному осуществлению внутри более богатого контекста.
Так, моральное обращение идет дальше ценности по имени «истина» — к ценностям как таковым. Оно ведет субъекта от познавательного самотрансцендирования к моральному. Оно помещает его на новый, экзистенциальный уровень сознания и утверждает его как порождающую ценность. Но это никоим образом не мешает его приверженности истине и не ослабляет ее. Он по-прежнему нуждается в истине, ибо должен понимать реальность и реальную потенциальность, чтобы осмысленно отвечать на ценность. Истина, в которой он нуждается, по-прежнему есть истина, достигаемая в согласии с требованиями рационального сознания. Но теперь устремленность к ней становится тем решительнее, что субъект вооружен против кренов, и тем осмысленнее и значимее, что поиски истины ведутся и играют существенную роль в гораздо более богатом контексте устремленности к ценностям как таковым.
Сходным образом религиозное обращение идет дальше морального. Вопрошание об умопостижении, о рефлексии, об обдумывании выдает эротический характер человеческого духа, его способность и
3 К. Rahner, Horerdes Wortes, Munchen: Kodel, 1963, S. 40.
ДИАЛЕКТИКА
желание самотрансцендировать. Но эта способность осуществляется, это желание переходит в наслаждение, когда религиозное обращение преобразует экзистенциального субъекта в субъекта любящего, в субъекта, который наполнен, охвачен, одержим, присвоен всеохватной любовью не от мира сего. Когда возникает новое основание для всех его ценностей и всех его благих поступков. Плоды интеллектуального или морального обращения никоим образом не отрицаются и не умаляются: напротив, всякое человеческое устремление к истинному и благому включается в космический контекст и цель и усовершается в них. Но, кроме того, человек приобретает силу любви, которая позволяет ему принимать страдание, сопряженное с нейтрализацией последствий упадка.
Однако не следует думать, что религиозное обращение означает всего лишь новое и более действенное основание для устремленности к интеллектуальным и моральным целям. Религиозная любовь не знает условий, оговорок, исключений; она осуществляется всем сердцем, и всею душою, и всем разумением, и всей крепостью. Эта безграничность хотя и отвечает безграничному характеру человеческого вопрошания, но не принадлежит к этому миру. Святость изобилует истиной и моральной благостью, но обладает своим собственным, особым измерением: она есть полнота не от мира сего, радость, умиротворенность, блаженство. В христианском опыте все это — плоды пребывания в любви к таинственному и непостижимому Богу. Сходным образом греховность отличается от морального зла: она есть лишенность всецелой любви, радикальное измерение безлюбия. Это измерение может маскироваться последовательной поверхностностью, избеганием предельных вопросов, погружением во все то, чтб предлагает нам мир, бросая вызов нашей беспомощности, расслабляя наше тело и рассеивая наш разум. Но избегание не может быть постоянным, и тогда отсутствие полноты дает о себе знать в беспокойстве, в безрадостности погони за развлечениями, в отсутствии умиротворенности и в недовольстве — депрессивном недовольстве самим собой или маниакальном, враждебном и даже насильственном недовольстве человечеством.
Хотя религиозное обращение выше морального, а моральное выше интеллектуального, отсюда не следует, что интеллектуальное обращение совершается первым, а затем следуют обращение мораль-
2б7


 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
ное и религиозное. Напротив, с точки зрения причинности вернее было бы сказать, что первым идет дар любви Божьей, затем взор этой любви открывает ценности в их сиянии, тогда как сила этой любви приводит ценности к осуществлению. Таково моральное обращение. Наконец, среди ценностей, различаемых взором любви, присутствует и ценность верования в истины, которым учит религиозная традиция; эта традиция и вера несут в себе семена интеллектуального обращения. Ибо слово, изреченное и услышанное, исходит от всех четырех уровней и пронизывает все четыре уровня интенциональ-ного сознания. Его содержание — это содержание не только опыта, но также понимания, суждения и решения. В основе когнитивного мифа лежит зрительная аналогия, но верность слову затрагивает всего человека.
Кроме обращений, случаются и провалы. То, что так медленно и тщательно выстраивалось индивидом, обществом, культурой, может рухнуть. Познавательное самотрансцендирование — не просто идея, которую легко ухватить, и не доступные данные, которые легко проверить. В ценностях есть нечто таинственно-захватывающее, но способны ли они перевесить плотское наслаждение, богатство, власть? У религии, несомненно, есть свое время, но не прошло ли это время? Не свелась ли религия к иллюзорному утешению для слабых душ, к опиуму, который богатые раздают для успокоения бедных, к мифической проекции на небеса собственного достоинства человека?
Изначально не все, но некоторая религия объявляется иллюзорной; не все, но некоторое моральное предписание отбрасывается как бездейственное и бесполезное; не все истины, но некоторый тип метафизики отвергается как пустая болтовня. Отрицания могут быть истинными, и тогда они представляют собой попытку остановить упадок. Но они могут быть и ложными, и тогда они знаменуют начало упадка. В последнем случае часть культурного наследия разрушается. Привычный компонент культурного опыта перестает существовать, отступает в забытое прошлое, где, возможно, историкам предстоит его вновь открыть и восстановить. Более того, устранение подлинной части культуры означает, что прежнее целое оказывается изувеченным, что баланс нарушен, что оставшаяся часть может деформироваться в попытках компенсировать утрату. Позднее все это — устранение, увечье, деформация — будет, разумеется, вызывать
268
ДИАЛЕКТИКА
восхищение как неудержимое движение прогресса, тогда как явные болезни, которые несут с собой эти вещи, будут считаться исцелимыми не возвратом к заблудшему прошлому, а дальнейшим устранением, увечьем, деформацией. Однажды начавшись, процесс распада прикрывается самообманом и поддерживается постоянством. Но это не означает, что он непременно протекает единообразно и в едином русле. Разные нации, разные общественные классы, разные возрастные группы могут выбирать разные части наследия прошлого для устранения, наносить разные увечья, провоцировать разные деформации. Таким образом, нарастающий распад сопровождается нарастанием расчлененности, непонимания, подозрения, недоверия, враждебности, ненависти, насилия. Социальное тело рвут на части в разных направлениях, а его культурная душа утрачивает способность к разумным убеждениям и ответственным обязательствам.
Дело в том, что убеждения и обязательства опираются на суждения о фактах и суждения о ценностях. В свою очередь, эти суждения в значительной мере опираются на верования. В самом деле, мало тех людей, которые, испытывая давление со всех сторон, не были бы вскоре вынуждены искать прибежища в том, во что они верили. Но такое прибежище может быть действенным, только если верующие выступают единым фронтом, только если интеллектуальные, моральные и религиозные скептики составляют немногочисленное и пока еще не слишком влиятельное меньшинство. Но их число может увеличиваться, их влияние — расти, их голоса — брать верх на книжном рынке, в образовательной системе, в средствах массовой информации. Тогда вера начинает работать не за, а против интеллектуального, морального и религиозного самотрансцендирования. То, что было путем восхождения и пользовалось всеобщим уважением, рушится, становится отличительной чертой отставшего от времени меньшинства.
3. ДИАЛЕКТИКА: ЗАДАЧА
Задача, с которой имеет дело диалектика, двойственна, ибо наши Функциональные специальности «история» и «интерпретация», а также специальное разыскание недостаточны в двух отношениях.
Фридрих Майнеке заметил, что любая историческая работа имеет Дело как с разысканием причинных взаимосвязей, так и с ценностя-
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
ми, но что большинство историков, как правило, занимается главным образом либо причинными взаимосвязями, либо ценностями. Более того, Майнеке утверждает, что история, поскольку она занимается ценностями, «дает нам содержание, мудрость и вехи нашей жизни»4. Карл Беккер пошел дальше. Он писал: «Ценность истории... не научная, а моральная: освобождая разум, углубляя способность вчувствования, укрепляя волю, она позволяет нам контролировать не общество, но самих себя — вещь гораздо более важная. Она подготавливает нас к тому, чтобы жить более гуманно в настоящем и не столько предсказывать, сколько встречать будущее»5. Но функциональная специальность «история», как мы ее мыслим, занималась процессами, которые фактически шли вперед. Она сконцентрировалась на завершающем отрезке третьего уровня интенционального сознания: на происходящем. Она ничего не может сказать об истории как занятой в первую очередь ценностями, и не может именно пото-му, что история, как занятая в первую очередь ценностями, принадлежит к специализации не третьего, а четвертого уровня интенционального сознания.
Сходным образом наше описание интерпретации связывалось с пониманием предмета, слов, автора и самих себя, с высказыванием суждения о точности чьего-либо понимания, с определением способа выражения понятого. Но, помимо этой интеллектуальной герменевтики, имеется также герменевтика оценивающая. Помимо потенциальных, формальных и полных актов смысла имеются также конститутивные и производящие смысловые акты. Так вот, схватывание ценностей и контрценностей есть дело не понимания, но интенционального ответа. Ответ тем полнее, тем адекватнее, чем лучше сам человек, чем выше его восприимчивость, чем тоньше его чувства. Таким образом, оценивающая интерпретация принадлежит к специальности, связанной не с завершением второго уровня интенционального сознания, а с завершением четвертого уровня.
Такова, следовательно, первая задача диалектики. Диалектика должна добавить к интерпретации понимающей интерпретацию
4 F. Stern, The Varieties of History, New York: Meridian, 1956, p. 272.
5 Charlotte Smith, Carl Becker: On History and the Climate of Opinion, Ithaca, N.Y.:
Cornell, 1956, p. 117.
ДИАЛЕКТИКА
более высокого уровня — оценивающую. Она должна добавить к истории, схватывающей ход событий, историю, которая оценивает достижения, различает добро и зло. Она должна руководить специальным разысканием, необходимым для такой интерпретации и для такой истории.
Есть и вторая задача. В самом деле, наше описание критической истории обещает однозначные результаты лишь при условии, что историки исходили из одних и тех же позиций. Но исходных позиций много, и многие из них разнородны. Есть оттенки, которые идут от индивидуальности историка и приводят к перспективизму. Есть неадекватность, которая открывается при обнаружении новых данных и достижении более адекватного понимания. Есть, наконец, крупные различия, вызванные тем фактом, что историки с противоположными горизонтами пытаются сделать для себя интеллигибельной одну и ту же последовательность событий.
Именно с такими крупными различиями имеет дело диалектика. Это не просто различия перспективы, ибо перспективизм есть результат индивидуальности историка, а эти крупные различия возникают между противоположными и даже враждебными друг другу классами историков. Обычно их не устранить обнаружением новых данных, так как новые данные, скорее всего, будут в той же мере допускать противоположные интерпретации, что и данные, доступные в настоящий момент. Причина крупных различий коренится в крупном различии горизонта, и соразмерное им средство их преодоления есть не что иное, как обращение.
Интерпретация, наряду с историей, не обещает однозначных результатов. Интерпретатор может понять вещь, слова, автора и самого себя. Но если он переживет обращение, то будет иметь другое «я», подлежащее пониманию; а новое самопонимание способно изменить его понимание вещи, слов и автора.
Наконец, специальное разыскание ведется в виду конкретных экзегетических или исторических задач. Горизонты, определяющие осуществление задач, определяют также и разыскание. Мы легко находим то, что вписывается в наш горизонт, но с большим трудом замечаем то, чего никогда не понимали или не мыслили. Специальное Разыскание не в меньшей степени, чем интерпретация или история, способно выявлять различия горизонта.


 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
Коротко говоря, первая фаза теологии неполна, если ограничивается разысканием, интерпретацией и историей. Ибо эти функциональные специализации, как мы их помыслили, приближают встречу с прошлым, но не осуществляют ее. Они делают данные доступными, они проясняют их смысл и повествуют о происшедшем. Но встреча есть нечто большее: встречаться с людьми, оценивать представляемые ими ценности, критиковать их недостатки, позволить их словам и поступкам стать вызовом для моей собственной жизни. Более того, такая встреча — не произвольный довесок к интерпретации и к истории. Интерпретация зависит от нашего самопонимания; история, которую пишет историк, зависит от его горизонта; а встреча — это единственный способ, каким самопонимание и горизонт могут быть подвергнуты испытанию.
4. ДИАЛЕКТИКА: ПРОБЛЕМА
Присутствие или отсутствие интеллектуального, морального, религиозного обращения порождает диалектически противоположные горизонты. Если взаимодополнительные или генетические различия можно согласовать, то диалектические различия подразумевают взаимное отвержение. Каждый считает отвержение точки зрения, которая противоположна его собственной, единственно умной, разумной и ответственной позицией, а по достижении достаточной степени изощренности пытается найти подходящую философию или метод, которые поддержали бы то, что он считает адекватным взглядом на умное, разумное, ответственное.
В результате возникает неразбериха. Могут отсутствовать все три типа обращения; может присутствовать лишь один тип, или любые два, или все три. Даже если абстрагироваться от различий в степени глубины обращения, мы получаем восемь радикально различных типов. Более того, любое исследование ведется внутри некоего горизонта. Это остается истинным, даже если исследователь не знает о том, что работает внутри горизонта, или даже если он предполагает, что не делает никаких допущений. Признаются они эксплицитно или нет, диалектически противоположные горизонты ведут к противоположным ценностным суждениям, противоположным отчетам об исторических движениях, противоположным интерпретациям
ДИАЛЕКТИКА
авторов и различиям в отборе релевантных данных в специальном разыскании.
Естествознание в значительной мере избегает этой ловушки. Оно ограничивается вопросами, которые могут быть решены отсылкой к наблюдению и к эксперименту. Оно заимствует свои теоретические модели из математики. Он нацелено на эмпирическое познание, где ценностные суждения не играют конститутивной роли. Но и эти преимущества не дают полной неприкосновенности. Описание научного метода относится к теории познания, как менее общее к более общему, так что не существует прочного барьера, который разделял бы науку, научный метод и общую теорию познания. Так, механический детерминизм некогда был частью науки, сегодня же он представляет собой устаревшее философское мнение. Но его место заняло учение Нильса Бора о дополнительности, которое включает в себя философские воззрения на человеческое познание и на реальность; а любой отход от позиции Бора предполагает еще бблыиую дозу философии6. С другой стороны, хотя физика, химия, биология не формулируют ценностных суждений, переход от либеральных режимов к тоталитарным заставил ученых задуматься над ценностью науки и над их правами как ученых, тогда как военное и прочее использование научных открытий предупреждает их об их обязанностях.
В науках о человеке проблемы намного острее. Редукционисты распространяют методы естествознания на изучение человека. Соответственно, полученные ими результаты истинны лишь в той мере, в какой человек подобен роботу или крысе, и хотя такое подобие существует, сосредоточенность только на нем порождает грубо увечный и извращенный взгляд на вещи7. Общая теория систем отвергает редукционизм во всех его формах, но отдает себе отчет в его нерешенных проблемах. В самом деле, системная инженерия подразумевает прогрессирующую механизацию, которая в тенденции сводит роль человека в системе к роли робота, тогда как система в целом может быть использована как в конструктивных, так и в деструктивных
6 Р.А. Helan, Quantum Mechanics and Objectivity, The Hague: Nijhoff, 1965,
chap. 3.
7 F.W. Matson, The Broken Image, Garden City, N.Y.: Doubleday, 1966, chap. 2.
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
целях8. Гибсон Винтер в работе «Элементы социальной этики»9 сопоставил расходящиеся стили в социологии, связанные с именами Толкотта Парсонса и Чарльза Райта Миллса. Отметив, что различие в подходе ведет к различию в суждениях о существующем обществе, он I задает вопрос, является ли это противостояние научным или чисто идеологическим: вопрос, который, очевидно, переводит дискуссию из области истории современной социологической мысли в область философии и этики. Проф. Винтер разработал общий метод описания социальной реальности, различил физикалистский, функцио- I налистский, волюнтаристский и интенционалистский стили в социологии, а также указал для каждого из них сферу релевантности и эффективности. Там, где Макс Вебер проводил различение между социальной наукой и социальной политикой, проф. Винтер проводит различение между философски фундированными и иерархизи-рованными стилями в социальной науке и, с другой стороны, социальной политикой, основанной не только на социальной науке, но и на ценностных суждениях этики.
Итак, в естественных и гуманитарных науках имеются вопросы, которых не решить эмпирическими методами. В естественных науках легче обойти эти вопросы или уклониться от них, чем в науках гуманитарных. Но теология может быть методологичной только при условии, что встречает эти вопросы лицом к лицу. А встретить их лицом к лицу — дело нашей четвертой функциональной специализации: диалектики.
5. ДИАЛЕКТИКА: СТРУКТУРА
Структура диалектики включает в себя два уровня. Верхний уровень отводится операторам, нижний — сбору материала для оперирования.
Операторами выступают два предписания: развивай позиции, опровергай контрпозиции. Позиции — это утверждения, совместимые с интеллектуальным, моральным и религиозным обращением; они развиваются через интегрирование свежих данных и новых от-
8 L.V. Bertalanfry, General System Theory, New York: Braziller, 1968, pp. 10, 52.
9 Gibson Winter, Elements for a Social Ethic, New York: Macmillan, 1966, pb.
1968.
ДИАЛЕКТИКА
крытий. Контрпозиции — это утверждения, несовместимые с интеллектуальным, моральным или религиозным обращением; они опровергаются через устранение несовместимых элементов.
Прежде чем материалы станут объектом оперирования, их нужно собрать, скомплектовать, сравнить, редуцировать, классифицировать, отобрать. Собирание включает в себя результаты разыскания, предложенные интерпретации, написанные истории, а также события, утверждения, движения, к которым они относятся. Комплектация присоединяет оценочную интерпретацию и оценочную историю; она подхватывает тысячу и одно «удачное замечание», равно как и их противоположности. Это история скорее в стиле Буркхарда, нежели Ранке10. Сравнение анализирует собранный материал в поисках сближений и противостояний. Редукция находит те же сближения и те же противостояния явленными во множестве разнообразных форм; от этого множества проявлений она переходит к их общему корню. Классификация устанавливает, какой из этих источников сближения или противостояния есть следствие диалектически противоположных горизонтов, а какой имеет другие основания. Наконец, отбор вычленяет случаи сближений и противостояний, имеющие опорой диалектически противоположные горизонты, и отбрасывает прочие сближения и противостояния.
Так вот, эта работа по сбору материала, комплектации, сравнению, редукции, классификации и отбору может выполняться разными исследователями, а они могут работать в разных горизонтах. Результаты, соответственно, не будут единообразными. Но источник отсутствия единообразия будет выявлен, если каждый исследователь последовательно проведет различение между позициями, которые совместимы с интеллектуальным, моральным и религиозным обращением, и, с другой стороны, контрпозициями, которые несовместимы либо с интеллектуальным, либо с моральным, либо с религиозным обращением. Дальнейшая объективация горизонта будет достигнута, если каждый исследователь, оперируя материалами, будет указывать точку зрения, которая станет результатом развития того, чтб он сам
10 О Буркхарде см. Е. Cassirer, The Problem of Knowledge, Philosophy, Science and History since Hegel, New Haven: Yale, 1950, chap. 6; G.P. Gooch, History and Historians in the Nineteenth Century, London: Longmans, 19522, pp. 529-533.
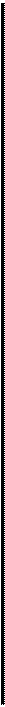 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
считает позициями, и отвержения того, что он считает контрпозициями. Окончательная объективация горизонта достигается тогда, когда результаты предшествующего процесса сами рассматриваются в качестве материалов, когда они собираются, комплектуются, сравниваются, редуцируются, классифицируются и отбираются; когда различаются позиции и контрпозиции; когда позиции развиваются, а контрпозиции опровергаются.
6. ДИАЛЕКТИКА КАК МЕТОД
Мы обрисовали структуру диалектики и теперь должны спросить, удовлетворяет ли она определению метода. Вполне ясно, что она представляет собой паттерн последовательных и возобновляющихся операций. Но еще следует установить, будут ли ее результаты прогрессирующими и кумулятивными. Соответственно, рассмотрим, что произойдет, во-первых, если диалектику будет практиковать человек, переживший интеллектуальное, моральное и религиозное обращение, и, во-вторых, если ее будет практиковать человек, такого обращения еще не переживший.
В первом случае исследователь будет знать из собственного опыта, что такое интеллектуальное, моральное и религиозное обращение. Ему не будет сложно отличить позиции от контрпозиций. Развивая позиции и опровергая контрпозиции, он будет представлять идеализированную версию прошлого, нечто лучшее, нежели то, чем была реальность. Более того, все такие исследователи будут склонны соглашаться друг с другом, а также будут отчасти находить поддержку у других исследователей, переживших обращение в одной или двух, но не во всех трех областях.
Во втором случае исследователь может обладать лишь тем, что Ньюмен назвал бы понятийным схватыванием обращения, а потому мог бы жаловаться на то, что диалектика — весьма туманная процедура. Но он, по крайней мере, опознал бы радиально противоположные утверждения. Однако в той области или в тех областях, где он не пережил бы обращения, он мог бы ошибочно принять контрпозиции за позиции, а позиции за контрпозиции. Развивая то, что он считал бы позициями, и опровергая то, что он считал бы контропозиция-ми, он в действительности мог бы развивать контропозиции и опровергать позиции. Если в первом случае практика диалектики ведет к
276
ДИАЛЕКТИКА
идеализированной версии прошлого, то во втором случае она ведет к прямо противоположному, представляя прошлое худшим, нежели оно было в реальности. Наконец, есть семь разных способов, какими это может осуществляться. Ибо ко второму случаю относятся (1) исследователи, вовсе не имеющие опыта обращения; (2) те, кто обладает опытом только интеллектуального, или только морального, или только религиозного обращения; (3) те, у кого отсутствует только один из этих опытов.
Теперь сделаем это сопоставление чуть более конкретным. Наша четвертая специализация выходит за пределы сферы обычной эмпирической науки. Она имеет дело с людьми. Она признает ценности, которые представляют эти люди. Она протестует против их недальновидности. Она всматривается в их интеллектуальные, моральные и религиозные предпосылки. Она выделяет значимые фигуры, сравнивает их базовые воззрения, проводит различение между процессами развития и отклонения. По мере расширения исследования высвечиваются истоки и поворотные пункты, моменты расцвета и упадка в религиозной философии, этике, духовности. Наконец, поскольку невозможно представить все точки зрения, существует теоретическая возможность практиковать четвертую специализацию совсем другими восемью способами.
Однако такое расхождение не огранивается будущими исследованиями. Позиции и контропозиции — не просто противостоящие друг другу абстракции. Их следует понимать конкретно, как противостоящие моменты в движущемся процессе. Их следует схватывать в их собственном диалектическом характере. Человеческая подлинность не есть некое чистое качество, некая мирная свобода от любых упущений, непониманий, ошибок, грехов. Скорее она состоит в удалении от неподлинности, а такое удаление никогда не бывает окончательным. Оно всегда хрупко, всегда должно достигаться заново, всегда в значительной мере зависит от обнаружения все новых Упущений, признания все новых непониманий, исправлении все новых ошибок, раскаянии во все новых и более глубоко скрытых грехах. Коротко говоря, развитие человека в большой степени осуществляется через разрешение конфликтов, а внутри области интенциональ-ного сознания базовые конфликты определяются противостоянием позиций и контрпозиций.
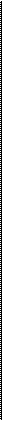
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
Итак, лишь продвигаясь к познавательному и моральному само-трансцендированию, в котором теолог преодолевает свои собственные конфликты, он может надеяться разглядеть двусмысленность за действиями других людей и меру, в какой они разрешают свои проблемы. Только разглядев это, он может надеяться оценить все то, чтб было умного, истинного и хорошего в прошлом, в том числе в жизни и мыслях его противников. Только разглядев это, он сможет прийти к признанию всего того, чтб было искаженного, непонятного, ошибочного, дурного даже в тех, с кем он солидарен. Далее, однако, его действие становится возвратным. Как собственное самотрансценди-рование позволяет нам хорошо узнать других и правильно судить о них, так, наоборот, через познание и оценку других мы приходим к познанию самих себя, к наполнению и уточнению нашего понимания ценностей.
Итак, в той мере, в какой исследователи собирают, комплектуют, сравнивают, редуцируют, классифицируют и отбирают, они выводят на свет диалектические оппозиции, которые существовали в прошлом. В той мере, в какой они объявляют одну точку зрения позицией, а противоположную ей — контрпозицией, а затем развивают позиции и опровергают контрпозиции, они доставляют друг другу свидетельства для суждения о своем личном продвижении в само-трансцендировании. Они раскрывают свою самость, которая осуществляла разыскание, предлагала интерпретации, изучала историю, высказывала ценностные суждения.
Такая объективация субъективности — своего рода решающий эксперимент. Не будучи автоматически действенной, она дает людям широко мыслящим, серьезным, искренним повод задать себе некоторые основополагающие вопросы — прежде всего о других, но, возможно, и о самих себе. Она сделает обращение предметом размышления и тем самым приблизит его. Результаты не будут внезапными и потрясающими: ведь обращение, как правило, — это медленный процесс созревания, обнаружения для себя и в себе того, чтб означает быть умным, быть разумным, быть ответственным; чтб означает любить. Диалектика способствует достижению этой цели тем, что указывает на предельные различия, предлагая в пример других людей, радикально отличных от нас самих, и давая повод к рефлексии,
ДИАЛЕКТИКА
всматриванию в себя, что может привести к новому пониманию себя и своего предназначения.
7. ДИАЛЕКТИКА МЕТОДА: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Мы уже отметили, что присутствие или отсутствие интеллектуального, морального или религиозного обращения порождает не только противоположные горизонты, но также — на некоторой продвинутой стадии — противоположные философии, теологии, методы, призванные обосновать и защитить различные горизонты.
Так вот, иметь дело с этими конфликтами — задача не методологов, а теологов, занимающихся четвертой функциональной специализацией. Более того, стратегия теолога должна заключаться не в том, чтобы отстаивать свою собственную позицию, и не в том, чтобы опровергать контрпозиции, а в том, чтобы обнажить расхождение и выявить его корни. Так он сумеет привлечь тех, кто ценит полноту человеческой подлинности, и убедить тех, кто этой подлинности достиг. В самом деле, базовая идея метода, который мы пытаемся развивать, опирается на открытие того, что человеческая подлинность существует, и на демонстрацию того, как можно взывать к ней. Этот метод не безошибочен, ибо люди легко впадают в неподлинность; но это мощный метод, ибо глубочайшая потребность человека и его наиболее ценимое достижение есть именно подлинность.
Таким образом, методолог не может полностью игнорировать конфликт философий или методов. Это особенно верно в том случае, когда широко распространены точки зрения, подразумевающие ошибочность и даже ложность его собственных процедур. Соответственно, я коротко прокомментирую некоторые споры, во-первых, вокруг лингвистического анализа, а во-вторых, вокруг некоторых выводов, вытекающих из идеалистических предпосылок.
В примечательном докладе, представленном на двадцать третьем ежегодном съезде Католического богословского общества Америки, профессор Эдвард МакКиннон заявил:
С момента публикации «Философских исследований» Витгенштейна все более упрочивается консенсус относительно того, что значимость языка по своей сущности имеет публичный, и лишь производным образом частный характер. Если бы это было не так, язык не мог бы служить носителем ин-


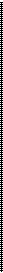 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
терсубъективной коммуникации. Значение термина, соответственно, объясняется главным образом через прояснение его употребления или связанного с ним семейства употреблений. Это требует как анализа способа, каким термин функционирует в языке, то есть изучения синтаксиса, так и анализа экстралингвистических контекстов, в которых употребление термина является сообразным, то есть изучение вопросов семантики и прагматики.
Следствием этой позиции... является то, что значение слова нельзя объяснить вне референции или редукции к частным ментальным актам. Стандартная схоластическая доктрина гласит, что слова имеют значение, потому что выражают понятия. Значения первично заключены в понятиях, в частных ментальных актах или состояниях, а затем, производным образом, — в языке, который выражает это понятие. В рамках такого взгляда на язык трансценденция не представляет слишком серьезной лингвистической проблемы. Такое слово, как «Бог», может означать трансцендентное сущее, если именно это имеет в виду тот, кто употребляет это слово. Но сколь бы удобным ни было такое простое решение, оно, к несчастью, не работает11.
Я считаю, это — ясное и многообещающее основание для обсуждения. Поясню свою собственную позицию, добавив несколько замечаний.
Во-первых, я не думаю, что ментальные акты совершаются без опоры на выражение. Выражение может быть неязыковым, может быть неадекватным, может не быть предъявлено вниманию других. Но оно имеет место. В самом деле, Эрнст Кассирер приводит данные о том, что исследователи афазии, агнозии и апраксии, как правило, обнаруживают взаимосвязанность этих нарушений речи, познания и деятельности12.
Во-вторых, я не сомневаюсь в том, что обиходная значимость обиходного языка по своему существу имеет публичный, и лишь производным образом частный характер. Ибо язык является обиходным, когда находится в общем употреблении. Он находится в общем употреблении не потому, что некий индивид в одиночку решил, чтб должен означать язык, а потому, что все индивиды релевантной группы
Edward MacKinnon, «Linguistic Analysis and the Transcendence of God», Proceedings of the Catholic Theological Society of America, 23 (1968), 30.
2 E. Cassirer, The Philosophy of Symbolic Forms, New Haven: Yale, 1957, vol. Ill, p. 220.
ДИАЛЕКТИКА
понимают, чтб он означает. Сходным образом дети и иностранцы научаются языку через выполнение выраженных ментальных актов. Но они научаются языку, научаясь тому, как он употребляется в обиходе, так что их частное знание обиходного употребления языка является производным от общего употребления, по своей сути публичного.
В-третьих, то, что верно применительно к обиходной значимости обиходного языка, неверно применительно к исходной значимости любого языка — обиходного, литературного или технического. Ибо всякий язык развивается, и в любой момент времени любой язык представляет собой отложения результатов развития, достигнутых и не успевших устареть. А развитие представляет собой открытие новых употреблений для существующих слов, изобретение новых слов и распространение этих открытий и изобретений. Все три момента связаны с выраженными ментальными актами. Открытие нового употребления есть ментальный акт, выраженный в новом употреблении. Изобретение нового слова есть ментальный акт, выраженный в новом слове. Сообщение открытий и изобретений технически осуществимо либо через введение дефиниций, либо спонтанно, когда А произносит новое звукосочетание, В отвечает, А понимает из ответа В, насколько успешно ему удалось сообщить значение, и в той мере, в какой ему это не удалось, он нащупывает и подвергает испытанию новые открытия и изобретения. В ходе этих попыток и неудач употребление оформляется, и если оно распространится достаточно широко, то утвердится как новое обиходное словоупотребление. Стало быть, в отличие от обиходной значимости, еще не установившаяся значимость рождается в выраженных ментальных актах, сообщается и совершенствуется через выраженные ментальные акты и достигает степени обиходности, когда совершенная коммуникация распространяется среди достаточно большого числа индивидов.
В-четвертых, за этим смешением обиходной значимости и значимости исходной скрывается, видимо, иное смешение. Ибо тому утверждению, что все философские проблемы — это проблемы языка, можно придать два совершенно разных смысла. Если считать язык выражением ментальных актов, то придется сделать вывод, что философские проблемы имеют своим источником не только лингвистическое выражение, но и ментальные акты, и может случиться так, что ментальным актам будет уделено гораздо больше внимания,
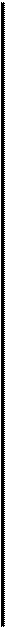
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
чем лингвистическому выражению. А можно считать, что ментальные акты — это скрытые сущности; если же они реально существуют, то философы никогда не выберутся из путаницы до тех пор, пока будут уделять им хоть какое-то внимание или, по крайней мере, пока будут полагать их в основание своего метода. Стало быть, с редукционистской точки зрения или с точки зрения более или менее сильной методологической позиции некто может решить ограничить философский дискурс (или хотя бы базовый философский дискурс) употреблением обиходного языка — быть может, просвещенного метаязыками синтаксиса, семантики и прагматики.
Но если принять такой подход, уже нельзя будет объяснять значимость языка ссылками на порождающие его ментальные акты. Это было бы простым решением. Это было бы правильным решением. Но это неприемлемое решение, потому что оно полагает ментальные акты в основание значимости языка, то есть делает именно то, что воспрещается философским или методологическим решением. Более того, внутри такого горизонта нетрудно упустить из вида различие между значимостью языка, ставшего обиходным, и порождающей значимостью, которой язык обладает, когда только становится обиходным. Именно из-за такого упущения возможно утверждать, что значимость языка имеет сущностно публичный, и лишь производным образом частный характер.
8. ДИАЛЕКТИКА МЕТОДА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Из генетически различных горизонтов главные были уже указаны в разделах «Области смысла» и «Стадии смысла» в главе третьей, названной «Смысл». В полностью дифференцированном сознании присутствуют четыре области смысла. В нем есть область здравого смысла, выражаемого на повседневном, или обиходном, языке. Есть область теории, язык которой техничен, характеризуется простой объективностью референции и, следовательно, соотносится с субъектом и его операциями только как с объектами. Есть область инте-риорности, язык которой хотя и говорит о субъекте и его операциях как об объектах, но, тем не менее, опирается на самоприсвоение, а оно в личном опыте верифицирует оператора, операции и процессы, к которым отсылают базовые термины и отношения употребляемого языка. Наконец, есть область трансценденции, где субъект вступает
ДИАЛЕКТИКА
в отношение к божеству через язык молитвы и молитвенного молчания.
Полностью дифференцированное сознание есть плод чрезвычайно длительного развития. В примитивном недифференцированном сознании вторая и третья области не существуют, тогда как первая и четвертая взаимно проникают друг в друга. Язык первично отсылает к пространственному, видовому, внешнему, человеческому, и лишь благодаря специальной технике распространяется на временнбе, родовое, внутреннее, божественное. Наступление цивилизации означает возрастающую дифференциацию ролей, подлежащих исполнению, и задач, подлежащих выполнению; все более разработанную организацию и регуляцию, призванные обеспечить это исполнение и выполнение; все большую плотность населения и все большее изобилие. С каждым из этих изменений расширяются коммуникативная, когнитивная, перформативная и конститутивная функции языка, в то время как литература, в качестве добавочной благодати, раскрывает и дифференцирует эти изменения, чтобы прославлять человеческие достижения, сокрушаться о человеческом зле, побуждать человека к высоким стремлениям и развлекать его на досуге.
Все это может происходить, несмотря на то, что мышление, речь и действие остаются внутри мира здравого смысла, мира людей и вещей в их соотнесенности с нами, внутри мира обиходного языка. Но если практическая склонность человека должна освободиться от магии и повернуться к развитию науки, если его критическая склонность должна освободиться от мифа и повернуться к развитию философии, если его религиозная забота должна преодолеть аберрации и принять очищение, то всем трем целям послужит дифференциация сознания, признание мира теории. В таком мире вещи мыслятся и познаются не в их отношениях к нашему сенсорному аппарату или к нашим потребностям и желаниям, а в отношениях, которые конституируются единообразными взаимодействиями вещей друг с другом. Чтобы говорить о вещах, помысленных таким образом, требуется развитие специального технического языка, абсолютно отличного от языка здравого смысла. Несомненно, придется начинать изнутри мира постижения и речи, присущих здравому смыслу; несомненно, придется часто обращаться к этому миру. Но несомненно и то, что

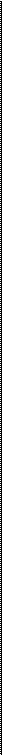 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
эти отступления и возвраты лишь упрочат постепенное выстраивание совсем другого модуса постижения и выражения.
Эту дифференциацию сознания иллюстрирует контраст феноменального и ноуменального миров у Платона, различие и корреляция того, что является первым для нас, и того, что является первым само по себе, у Аристотеля; гимны и систематическая теология Фомы Ак-винского, первичные и вторичные качества у Галилея, «два стола» Эддингтона.
В этой дифференциации, которой известны только две области, техническая наука, техническая философия и техническая теология совместно отнесены к области теории. Все три преимущественно оперируют понятиями и суждениями, терминами и отношениями в некотором приближении к логическому идеалу ясности, связности и строгости. Наконец, все три преимущественно имеют дело с объектами. И хотя они могут обратиться к субъекту и его операциям, все же систематическое рассмотрение, как у Аристотеля и у Аквината, сосредоточивается в них на субъекте и на его операциях лишь постольку, поскольку они взяты объективированно и метафизически помыслены в терминах материи и формы, потенции, хабитуса и акта, производящей и целевой причин.
Однако по мере развития науки философия вынуждена покинуть мир теории и обосноваться в мире интериорности. С одной стороны, наука отказывается от любых притязаний на необходимую истину, довольствуясь верифицируемыми возможностями, предлагающими все большее приближение к истине. Но, с другой стороны, успех науки подпитывает тоталитарные амбиции, и наука видит свою цель в том, что дать полное объяснение любым явлениям.
В этой ситуации перед философией встают проблемы истины и релятивизма, значения реальности, оснований теории и здравого смысла и отношений между ними, оснований специфических наук о человеке. Философия столкнулась лицом к лицу с тем фактом, что любое человеческое знание базируется на экспериментальных данных, а поскольку создается впечатление, что чувственными данными завладели науки (хотя бы по праву захвата), философия вынуждена искать себе обоснование в данных сознания.
Как мир теории совершенно отличен от мира здравого смысла, хотя выстроен исключительно через многообразное использование
ДИАЛЕКТИКА
обыденных знаний и обиходного языка, так мир интериорности совершенно отличен от миров теории и здравого смысла, хотя выстроен исключительно через многообразное использование математического, естественнонаучного и обыденного знания, а также языка — обиходного и технического. Как мир здравого смысла и его язык служат лесами для вхождения в мир теории, так мир теории и здравого смысла, а также их языки, совместно служат лесами для вхождения в мир интериорности. Но если переход от здравого смысла к теории вводит нас в область сущностей, относительно которых у нас нет непосредственного опыта, то переход от здравого смысла и теории к интериорности ведет нас от сознания себя к познанию себя. Здравый смысл и теория послужили посредниками между нами и тем, что непосредственно дано в сознании. Благодаря им мы перешли от просто данных операций, процессов и единств к базовой системе терминов и отношений, которые различают, связывают и именуют операции, процессы и единства, позволяя нам ясно и точно говорить о них и давать им объяснение.
Эта речь, однако, будет ясной, отчетливой и объясняющей лишь для тех, кто прошел обучение. Иметь здравый смысл и изъясняться обиходным языком недостаточно. Человек должен быть хорошо знаком с теорией и техническим языком. Он должен учиться математике и открыть для себя, что происходит, когда ей учатся, а также что произошло, когда она возникла. От размышлений над математикой он должен перейти к размышлению над естествознанием, различить его процедуры, отношения между последовательными этапами, характер мира, который раскрывается этими методами, — при всем этом обращая внимание не только на научные объекты, но и, по мере своих сил, на сознательные операции, посредством которых интен-дируются объекты. От точности математического понимания и математической мысли, от прогрессирующего, кумулятивного развития естествознания человек должен обратиться к процедурам здравого смысла, уловить его отличие от математики и естествознания, различить его собственные процедуры, сферу их релевантности, угрожающую им перманентную опасность погрузиться в нездоровую бессмыслицу. Выразим это с предельной краткостью: нужно не только читать «Инсайт», но и открывать самого себя в самом себе.
Теперь вернемся к отношениям между языком и ментальными





 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
актами. Прежде всего, язык, описывающий ментальные акты, еще должен быть создан. Как мы уже отмечали, Гомер представляет своего героя не думающим, а разговаривающим: с богом или богиней, со своей лошадью или рекой, со своим сердцем или нравом. Книга Бруно Снелла «Открытие разума» повествует о том, как греки постепенно развивали свое понимание человека и со временем столкнулись с пробелами когнитивной теории. У Аристотеля присутствует систематическое описание души, ее способностей, навыков, операций, а также их объектов. В некоторых аспектах это описание поразительно точно, однако неполно и от начала и до конца основано на метафизических предпосылках. Оно существует не в мире здравого смысла или интериорности, а в мире теории, и ему предстояло быть дополненным более полной теорией Фомы Аквинского.
Но как только сознание дифференцировалось, а систематическое мышление и речь о ментальных актах были разработаны, возможности обиходного языка резко расширились. Проницательные размышления Августина о познании и сознании, «Правила для руководства ума» Декарта, «Мысли» Паскаля, «Грамматика согласия» Ньюмена, — все они остаются внутри мира здравого смысла, обыденного мышления и речи, но весьма способствуют нашему пониманию самих себя. Более того, они открывают возможность прийти к познанию сознающего субъекта и его сознательных операций, не предполагая предшествующей им метафизической структуры. Эта возможность реализуется именно тогда, когда изучение математических, естественнонаучных операций и операций здравого смысла приносит свой плод — переживание, понимание и утверждение нормативных паттернов, согласно которым совершаются взаимосвязанные и повторяющиеся операции, позволяющие нам продвигаться в познании. По достижении такого описания познания мы можем перейти от гносеологического вопроса (что мы делаем, когда познаём?) к эпистемологическому (почему мы осуществляем познание?), а от них обоих — к метафизическому вопросу (что мы познаём, когда познаём?).
Итак, ментальные акты переживаются в опыте внутри мира интериорности и, как систематически мыслимое, являются в нем логически первым. От них можно перейти к эпистемологии и метафизике, а от всех трех можно перейти, как мы попытались показать в главе
ДИАЛЕКТИКА
третьей, к систематическому отчету о смысле, взятом в его развертывании, его элементах, функциях, областях и стадиях.
Но это первенство всего лишь относительно. Помимо первенства, достигаемого с утверждением новой области смысла, имеется первенство того, что необходимо, дабы процесс утверждения мог начаться. Грекам было необходимо художественно, риторически, аргументативно развить язык, прежде чем они смогли утвердить метафизическое описание разума. Достижения греков были необходимы для расширения возможностей обыденного познания и языка, прежде чем Августин, Декарт, Паскаль, Ньюмен смогли внести, в соответствии со здравым смыслом, свой вклад в наше самопознание. История математики, естествознания и философии, а также личная вовлеченность в размышления над всеми тремя сферами необходима для того, чтобы здравый смысл и теория смогли выстроить леса для вхождения в мир интериорности.
Следовательно, трактовка ментальных актов как логически первого требует соблюдения множества условий. Если некто настаивает на том, чтобы остаться в мире здравого смысла и обиходного языка, или на том, чтобы не выходить за пределы миров здравого смысла и теории, то его решения воспрещают возможность войти в мир интериорности. Но такие решения индивида или группы не будут обязывающими для остального человечества.
9. ДИАЛЕКТИКА МЕТОДА: ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Априорное отвержение такого подхода может идти как от лингвистического анализа, так и — не в меньшей степени — от идеалистических тенденций. Быть может, яснее всего это выражено в текстах Карла Ясперса, который мог бы возразить, что наше самоприсвоение в действительности представляет собой Existenzerhellung — прояснение собственной реальности субъекта, но не объективное познание.
Разумеется, верно, что самоприсвоение осуществляется через взвешивание сознания, а в нем субъект предстает не как объект, а именно как субъект. Я бы возразил, однако, что такое взвешивание сознания ведет к объективации субъекта, к умному и разумному утверждению субъекта, а стало быть, к переходу от субъекта как субъекта к субъекту как объекту. Этот переход служит источником объективного знания субъекта точно так же, как служит источником

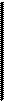
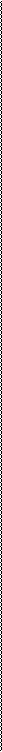 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
объективного знания любой оправданный переход от чувственных данных через вопрошание и понимание, размышление и суждение. Но такова моя точка зрения, отнюдь не точка зрения идеалистиче- ской традиции, унаследованной Ясперсом.
Осмысление этой традиции в ее бесконечной сложности лежит за пределами нашей нынешней заботы. Но следует внести некоторые базовые пояснения, хотя бы в терминах уже высказанных утверждений. Итак, имеются два совершенно разных значения термина «объект». Есть объект в мире, опосредованном смыслом; именно он подразумевается в вопрошании, именно он благодаря ответу становится понятым, утверждаемым, решенным. С этим типом объектов мы связаны нашими вопросами непосредственно, а операциями, релевантными для ответов, — лишь опосредованно, потому что ответы относятся к объектам лишь постольку, поскольку являются ответами на вопросы.
Но есть и еще одно, совсем иное значение термина «объект». В самом деле, кроме мира, опосредованного смыслом, существует также мир непосредственности. Этот мир не имеет ничего общего с вопросами и ответами: мир, в котором мы жили прежде, чем начали говорить и пока учились говорить; мир, в который мы пытаемся удалиться, когда хотим забыть о мире, опосредованном смыслом; мир, где мы расслабляемся, играем, отдыхаем. В этом мире объект не именуется и не описывается. Но в мире, опосредованном смыслом, можно восстановить и заново утвердить объекты из мира непосредственности: эти объекты — уже, вне, здесь, теперь, реальное. Это уже: оно дано прежде всякого вопроса о нем. Это вне: оно есть объект экстра-вертного сознания. Это здесь: как орган чувства, так и чувствуемые объекты пространственны. Это теперь, ибо время ощущения протекает одновременно со временем ощущаемого. Это реальное, ибо оно связано с жизнью и поступками человека и, следовательно, должно быть столь же реальным, что и они.
Как есть два значения слова «объект», так есть два значения слова «объективность». В мире непосредственности необходимое и достаточное условие объективности — это успешно функционирующее живое существо. Но в мире, опосредованном смыслом, объективность включает в себя три компонента. Есть опытная объективность, конституированная данностью чувственных данных и данных со-
ДИАЛЕКТИКА
знания. Есть нормативная объективность, конституированная требованиями ума и разумности. Есть абсолютная объективность, которая проистекает из сочетания результатов опытной и нормативной объективности, так что через опытную объективность выполняются условия, а через нормативную объективность условия связываются с тем, чтб ими обусловлено. Следовательно, такое сочетание соединяет обусловленное с его выполненными условиями. В познании это — факт, а в реальности — контингентное сущее или событие.
Мы различили два мира, два значения слова «объект», два совершенно разных критерия «объективности». Но там, где такие различения не проведены, возникает множество типичных смешений. Наивный реалист знает мир, опосредованный смыслом, но воображает, что знает его потому, что смотрит на происходящее извне его, здесь и теперь. Наивный идеалист (Беркли) заключает, что esse estpercipi [быть — значит быть воспринимаемым]. Но esse — это реальность, утверждаемая в мире, опосредованном смыслом, тогда как percipi — это данность объекта в мире непосредственности. Строгий эмпирист (Юм) устраняет из мира, опосредованного смыслом, все, что не дано в мире непосредственности. Критический идеалист (Кант) понимает, что коперниканская революция запаздывает; но вместо того, чтобы провести необходимые различения, он лишь находит новый, еще более сложный способ всё запутать. Он сочетает операции понимания и разумения не с чувственными данными, а с чувственными интуициями феноменов, где феномены представляют собой явления — если не ничто, то самих вещей, которые, пребывая непознаваемыми, становятся доступными для разговора о них благодаря аппарату предельных понятий. Абсолютный идеалист (Гегель) блестяще исследует целые области смысла; он выставляет напоказ убожество наивных реалистов, но терпит неудачу в продвижении к критическому реализму, давая Кьеркегору повод сожалеть о том, что логическое статично, а движение не может быть введено в логику, и что система Гегеля дает место не экзистенции (определяющей себя свободе), а лишь идее экзистенции.
Кьеркегор выражает тенденцию: там, где он говорил о вере, Ницше говорил о власти, Дильтей — о конкретной человеческой жизни, Гуссерль — о конституировании нашего интендирования, Бергсон — о своем elan vital [жизненном порыве], Блондель — о действии,


 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
американские прагматисты — о результатах, европейские экзистен-ционалисты — о подлинной субъективности. Если математики постепенно открывали, что их аксиомы не являются самоочевидными истинами, если физики постепенно открывали, что их законы не являются неуклонными необходимостями, но представляют собой верифицируемые возможности, то философы перестали считать себя гласом чистого разума и начали представлять нечто гораздо более конкретное и человечное. А если они все еще делали упор на объективную очевидность и необходимость, как поступал Гуссерль, то ; они также выполняли редукцию и выводили реальность за скобки, сосредоточиваясь на сущности и пренебрегая контингентностью.
Результатом стало не столько прояснение, сколько смещение в значении терминов «объективный» и «субъективный». Есть области, в которых исследователи в общем и целом согласны между собой: такие, как математика и естествознание; в этих областях объективное знание достижимо. И есть другие области, такие, как философия, этика, религия, где согласие в общем и целом отсутствует; эти разногласия объясняются субъективностью философов, этиков, людей религии. Но всегда ли субъективность есть заблуждение, ошибка, зло, — это уже другой вопрос. Позитивисты, бихевиористы, натуралисты склонны были бы ответить, что да. Однако другие настаивали бы на различении между подлинной и неподлинной субъективностью. Результат подлинной субъективности не будет ни заблуждением, ни ошибкой, ни злом. Это просто нечто совсем иное, чем объективное знание, достижимое в математике и науке.
В том контексте, который был описан первым, можно согласиться с мнением Ясперса: прояснение субъективности, пусть даже подлинной, не есть объективное знание. Но этот контекст жизнеспособен лишь до тех пор, пока живут двусмысленности, лежащие в основании наивного реализма, наивного идеализма, эмпиризма, критического и абсолютного идеализма. Как только эти двусмысленности устраняются, как только осуществляется адекватное самоприсвоение, как только проводится различение между объектом и объективностью в мире непосредственности и, с другой стороны, объектом и объективностью в мире, опосредованном смыслом и мотивированном ценностью, так возникает совершенно другой контекст. Ибо отныне ясно, что в мире, опосредованном смыслом и мотивированном цен-
ДИАЛЕКТИКА
ностью, объективность есть не что иное, как следствие подлинной субъективности, подлинного внимания, подлинной интеллектуальности, разумности, ответственности. Математика, естествознание, философия, этика, теология различаются во многих отношениях, но им всем присуща та общая черта, что их объективность есть плод внимательности, ума, разумности и ответственности.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Мы вычленили четыре области смысла: здравый смысл, теорию, интериорность и трансценденцию. Мы имели возможность вычленить также дифференциации сознания: разрешение здравого смысла в здравый смысл и теорию, а затем разрешение здравого смысла и теории в здравый смысл, теорию и интериорность. Но наши замечания о трансценденции как о дифференцированной области оставались фрагментарными.
То, о чем я говорил как о даре любви Божьей, спонтанно раскрывается в любви, радости, умиротворенности, терпении, доброте, благости, верности, благородстве и самовидении. В недифференцированном сознании этот дар выражается в его отнесении к трансцендентному через священные объекты, места, времена и действия, а также через священнодействия шамана, пророка, законодателя, апостола, священника, проповедника, монаха, учителя. По мере дифференциации сознания на две области — здравого смысла и теории, возникают специальные теоретические вопросы относительно божества, устроения вселенной, назначения человечества, и множество вопросов о каждом индивиде. Когда эти три области — здравого смысла, теории и интериорности — дифференцированы, самоприсвоение субъекта приводит к объективации не только переживания, понимания, суждения и решения, но и религиозного опыта.
От этих объективации дара любви Божьей в области здравого смысла, теории, интериорности совершенно отлично проявление дара как такового, как дифференцированной области. Именно это проявление культивируется в молитвенной жизни, в самоотречении. Когда оно совершается, то влечет за собой два следствия: во-первых, удаление субъекта из области здравого смысла, теории, нетрансцендентной интериорности в «облако незнания»; во-вторых, последующую интенсификацию, очищение, прояснение объектива-
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
ций, относящихся к трансцендентному, будь то в области здравого смысла, теории или не-трансцендентной интериорности.
Следует заметить, что если для мирянина XII в. наиболее привычной дифференциацией сознания было различение и взаимное отношение теории и здравого смысла, то в истории человечества, как на Востоке, так и на христианском Западе, преобладающей диф-френциацией сознании было противопоставление и взаимное обогащение областей здравого смысла и трансценденции.
II
ФУНДИРОВАНИЕ
В главе пятой, посвященной функциональным специализациям, теология была представлена как рефлексия о религии. Было сказано, что ее развитие осуществляется в две фазы. В первой, опосредующей, фазе теологическая рефлексия устанавливает, каковы были идеалы, верования, поступки представителей исследуемой религии. Но во второй, опосредованной, фазе теологическая рефлексия становится гораздо более личностной. Она уже не довольствуется повествованием о том, что предлагали, во что верили, что делали другие. Она должна сказать, какие учения были истинными, почему они совместимы друг с другом и с выводами науки, философии, истории; каким образом они могут адекватно сообщаться членам любого класса в любой культуре.
Базис этой гораздо более личностной позиции есть то, чем занимается пятая функциональная специализация — фундирование. Соответственно, мы доискиваемся фундамента не теологии в целом, а трех ее последних специализаций — доктрин, систематики и коммуникаций. Мы доискиваемся не всецелого фундамента этих специализаций — ибо они, очевидно, зависят от разыскания, интерпретации, истории и диалектики, — а только того дополнительного фундамента, который требуется, чтобы перевести их из модуса косвенной речи, куда их помещают чужие убеждения и мнения, в модус прямой речи, утверждающей действительное положение дел.
1. ФУНДИРУЮЩАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Фундирующая реальность, поскольку она отлична от своего выражения, — это обращение: религиозное, моральное, интеллекту-


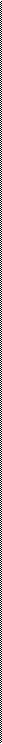
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
альное. Обычно интеллектуальное обращение есть плод обращения религиозного и морального; моральное обращение — плод религиозного обращения; религиозное обращение — плод божественного дара благодати.
Такое обращение действенно не только в функциональной специализации «фундирование», но и в фазе опосредующей теологии: в разыскании, в интерпретации, в истории, в диалектике. Однако в этой более ранней фазе обращение не является предварительным условием: осуществлять разыскание, интерпретировать, писать историю и выстраивать противоположные позиции может кто угодно. Когда же обращение имеет место и действует, его воздействие может быть подспудным: оно может сказываться в интерпретации, в занятиях историей, в диалектических сопоставлениях; но оно не образует в этих специализациях явного, утвержденного, универсально признанного критерия их собственной процедуры. Наконец, когда диалектика выявляет полиморфизм человеческого сознания — глубокие и непримиримые оппозиции в религиозных, моральных и интеллектуальных вопросах, — она не идет далее этого: она не занимает той или иной позиции. Позицию занимает личность, и занятая ею позиция будет зависеть от того, прошла эта личность через обращение или нет.
Таким образом, в своей реальной основе фундирование осуществляется на четвертом уровне человеческого сознания — на уровне обдумывания, оценки, решения. Это — решение относительно того, за кого и за что, против кого и против чего я выступаю. Это — решение, принимаемое в свете многообразных возможностей, выявленных диалектикой. Это — вполне сознательное решение относительно моего горизонта, моей перспективы, моего мировоззрения. В нем осознанно выбирается та система отсчета, в которой доктрины принимают смысл, систематика осуществляет согласование, коммуникации обретают эффективность.
Такое обдуманное решение далеко не произвольно. Произвольность есть не что иное, как неподлинность, тогда как обращение совершается от неподлинности в подлинность. Оно означает полную самоотдачу требованиям человеческого духа: будь внимательным, будь умным, будь разумным, будь ответственным, пребудь в любви.
ФУНДИРОВАНИЕ
В решении также не следует видеть акт свободной воли. Говорить об акте воли означает подразумевать метафизический контекст психологии способностей. Но четвертый уровень человеческого сознания, уровень, на котором сознание становится совестью, подразумевает контекст интенционального анализа. Ответственное и свободное решение есть дело не метафизической воли, а совести, причем, коль скоро речь идет об обращении, дело чистой совести.
Далее, обдуманное решение относительно собственного горизонта есть высокое достижение. Большей частью люди просто дрейфуют в сторону некоего современного горизонта. Они не обращают внимания на множественность горизонтов, не осуществляют своей вертикальной свободы, переходя от унаследованного горизонта к другому, который посчитали бы лучшим.
Наконец, хотя обращение в высшей степени личностно, оно не имеет исключительно частного характера. Когда индивиды привносят свои элементы в горизонт, эти элементы аккумулируются только внутри социальной группы, и заметные изменения происходят только в рамках вековых традиций. Чтобы узнать, является ли обращение религиозным, моральным и интеллектуальным, чтобы провести различение между подлинным и неподлинным обращением, чтобы различить их плоды — по плодам их узнаете их, — нужна высшая серьезность и зрелая мудрость, которую социальной группе не так легко обрести и соблюсти.
Отсюда следует, что обращение требует большего, нежели смены горизонта. Оно может подразумевать переход в иную социальную группу или, если группа остается прежней, иной характер принадлежности к группе. Со своей стороны, группа будет нести свидетельство о своем основателе или основателях, от которых она принимает и сохраняет свою высшую серьезность и зрелую мудрость. Наконец, свидетельство, которое она несет, будет действенным в той мере, в какой группа будет предана не своим собственным интересам, а благоденствию человечества. Но как образуется группа? Кто этот основатель, о котором она несет свидетельство? Каково ее служение человечеству? С этими вопросами имеет дело уже не пятая функциональная специализация — «фундирование», а шестая — «доктрины».
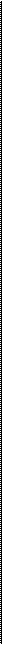

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ 2. ДОСТАТОЧНОСТЬ ФУНДИРУЮЩЕЙ РЕАЛЬНОСТИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ 2. ДОСТАТОЧНОСТЬ ФУНДИРУЮЩЕЙ РЕАЛЬНОСТИ
Фундирование может мыслиться двумя совершенно разными способами. Простой способ заключается в том, чтобы помыслить фундамент как набор предпосылок, логически первых пропозиций. Сложный способ заключается в том, чтобы помыслить фундамент как то, что является первым в любом упорядоченном наборе. Если упорядоченный набор состоит из пропозиций, тогда первым будут логически первые пропозиции. Если упорядоченный набор представляет собой длящуюся, развивающуюся реальность, тогда первым будет имманентный и действенный набор норм, которым определяется каждый шаг вперед в этом процессе.
Если предпочесть простой способ мыслить фундирование, то единственным достаточным фундаментом будет нечто вроде следующего: я должен верить в то и принимать то, во что верят и что принимают Библия или истинная Церковь. Допустим, что х — это Библия или истинная Церковь, или то и другое одновременно. Следовательно, я должен верить в то и принимать то, во что верит и что принимает х. Но х принимает и верит в а, Ь, с, d... Следовательно, я должен принимать и верить в а, Ь, с, d...
Если же, напротив, предпочесть мыслить фундирование как длящийся, развивающийся процесс, то я должен буду перейти от статичного, основанного на дедукции стиля мышления, не допускающего выводов, которые не содержались бы имплицитно в посылках, к методическому стилю, нацеленному на умаление тьмы и прибавление света, на то, чтобы непрестанно идти от открытия к открытию. Тогда главным становится вопрос контроля над процессом: должно быть гарантировано, что позиции принимаются, а контрпозиции отбрасываются. Но это можно гарантировать лишь при условии, что исследователи достигли интеллектуального обращения и отказались от тысячи ложных философий; что они достигли морального обращения и свободны от индивидуальных, групповых и универсальных кренов1; что они достигли религиозного обращения, так что фактически каждый из них любит Господа, Бога своего, всем сердцем, и всею душою, и всем разумением, и всей крепостью.
Так что, полагаю, здесь нет нужды выдвигать доводы против воз-
1 О кренах см. Insight, pp. 218-242.
ФУНДИРОВАНИЕ
рождения теологии Денцингера или теологии логических выводов. Они предлагают элементы, необходимые для теологии, но сами по себе явно недостаточные. С другой стороны, представляется необходимым настаивать на том, что тройное обращение не является фундирующим в смысле посылок, из которых следовали бы все желаемые выводы. Тройное обращение — не набор пропозиций, высказываемых теологом, а фундаментальная и моментальная перемена в человеческой реальности теолога. Оно действует не через простой процесс выведения заключений из посылок, а через изменение реальности (собственной реальности теолога), которое интерпретатор должен понять, если он хочет понимать других; через изменение горизонта, внутри которого историк пытается сделать прошлое интеллигибельным; через изменение базовых суждении о фактах и ценностях, которые оказываются не позициями, а контрпозициями.
Ни тот, кто пережил обращение, ни тот, кто его не пережил, не должны быть отрешены от разыскания, интерпретации, истории или диалектики. Ни тот, кто пережил обращение, ни тот, кто его не пережил, не обязаны следовать разным методам в этих функциональных специализациях. Но наша интерпретация других зависит от нашего понимания самих себя; между тем собственная самость, которую предстоит понять пережившему обращение, радикально отлична от самости, которую предстоит понять обращения не пережившему. Далее, история, которую мы пишем, зависит от горизонта, в котором мы пытаемся понять прошлое. Но обращенный и необращенный имеют радикально различные горизонты; стало быть, они напишут совершенно разные истории. Эти разные истории, разные интерпретации, а также лежащие в их основе разные стили разыскания окажутся в центре внимания диалектики. Они будут редуцированы к их корням, но сама эта редукция выявит лишь тот факт, что У обращенного — один набор корней, а у необращенного — некоторое количество других наборов. Обращение есть вопрос перехода от одного набора корней к другому. Этот процесс не совершается публично и в одночасье. Поводом к нему может послужить научное вопрошание, но начинается он лишь тогда, когда человек обнаруживает свою неподлинность и отворачивается от нее; когда он обнаруживает, что полнота человеческой подлинности достижима, и взыскует ее всем своим существом. Это очень близко христианскому

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
благовестию, с его возгласом: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие» [Мф 4, 17].
3. ПЛЮРАЛИЗМ В ВЫРАЖЕНИИ
Обращение проявляет себя в поступках и словах, но это проявление может варьироваться в зависимости от присутствия или отсутствия дифференцированного сознания. Отсюда следует плюрализм в выражении одной и той же фундаментальной позиции, а по мере развития теологии — множественность теологии, выражающих одну и ту же веру. Такой плюрализм, или множественность, фундаментально значим как для понимания развития религиозных традиций, так и для понимания тупиков, в которые это развитие может завести.
Итак, мы вновь обращаемся к четырем областям смысла: к области здравого смысла, теории, интериорности и трансценденции. К этим четырем пунктам можно добавить область гуманитарной учености и область искусства. Каждая из областей дифференцируется от других, когда вырабатывает собственный язык, собственный характерный способ постижения, и обзаводится собственной культурной, социальной и профессиональной группой людей, говорящих на этом языке и постигающих этим способом.
Если мы исходим из той предпосылки, что любой нормальный взрослый человек осуществляет свою деятельность в области здравого смысла, то недифференцированное сознание будет действовать только в этой области, тогда как дифференцированное сознание во всех случаях будет действовать как в области здравого смысла, так и в одной или более других областей. Рассматривая только математически возможные комбинации, мы получаем список из тридцати одного разного типа дифференцированного сознания. Из них пять случаев составляет сознание, дифференцированное по одной из областей; в этих случаях операции будут производиться в области здравого смысла и в одной из пяти других — трансценденции, искусства, теории, учености или интериорности. Десять случаев составляет сознание, дифференцированное по двум областям; здесь к области здравого смысла добавляются комбинации: искусства и религии, религии и теории, религии и учености, религии и интериорности; искусства и теории, искусства и учености, искусства и интериорности; теории и учености, теории и интериорности, учености и интериор-
ФУНДИРОВАНИЕ
ности. Есть также десять случаев сознания, дифференцированного по трем областям, пять случаев — по четырем областям, и один случай — по пяти.
Недифференцированное сознание развивается по модели здравого смысла. Оно аккумулирует инсайты, позволяя человеку говорить и действовать таким способом, чтобы это соответствовало любой из ситуаций, обычно возникающих в окружающей человека среде, а с другой стороны, позволило бы ему взвешивать положение дел и создавать себе представление о нем в непривычной ситуации.
Здравый смысл как стиль развития ума является общим для всего человечества. Но со стороны содержания, как определенное понимание человека и его мира, общий здравый смысл — общий не для человечества, а для членов каждой сельской общины, так что чужаки здесь выглядят странными, и чем дальше расположена их родина, тем более странными они выглядят в своих речах и поступках.
Здравый смысл и обиходный язык, в их бесконечном разнообразии, не отгорожены от областей религии, искусства, теории, учености, интериорности. Но в них постижение этих областей рудиментарно, а выражение смутно. Эти дефекты исправляются по мере того, как сознание достигает все более полной дифференциации; но это подразумевает, что каждая новая дифференциация влечет за собой некое преобразование прежних расхожих воззрений на те вещи, в которых здравый смысл не компетентен. Дифференцированное сознание не только осваивает большее количество областей, но и понимает людей, живущих в этих областях. Напротив, менее дифференцированное сознание не способно вместить более дифференцированное сознание в свой горизонт и в своей ущербности склонно относиться к нему с той всепроникающей и пренебрежительной враждебностью, которую Макс Шелер назвал ресентиментом.
Религиозно дифференцированное сознание становится доступным через эстетику и достигается через мистику. В мистике имеются Два совершенно разных модуса постижения, модуса пребывания в отношении, модуса сознательного существования, а именно: тот модус действования в мире, опосредованном смыслом, который присущ здравому смыслу; и мистический модус удаления от мира, опосредованного смыслом, в молчаливое и всепоглощающее самозабвение в ответ на дар любви Божьей. Хотя это, я думаю, и есть главное, тем
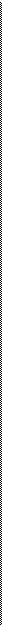
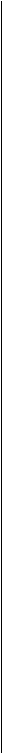 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
не менее, мистическое восхождение многообразно. Во «Внутреннем замке» Терезы Авильской много покоев; помимо христианской мистики, существует также мистика иудаизма, ислама, Индии, Дальнего Востока. Мирча Элиаде даже написал книгу о шаманстве с подзаголовком: «Архаические техники экстаза».
Плод художественно дифференцированного сознания — специалист в области красоты. Он мгновенно опознаёт прекрасные объекты и в полной мере отзывается на них. Его высочайшее достижение — творчество: он творит доминирующие формы, разрабатывает их скрытие возможности, задумывает и осуществляет их воплощение.
Сознание, дифференцированное в области теории, развивается в двух фазах. В каждой из этих фаз объекты схватываются не в их обыденных отношениях к нам, а в их истинных отношениях друг к другу. Поэтому базовые термины имплицитно определяются их взаимными отношениями, а эти отношения, в свою очередь, устанавливаются через отнесенность к опыту. Но в первой фазе базовые теории и отношения принадлежат философии, а науки мыслятся как дальнейшие и более полные определения философских объектов: так обстоит дело в аристотелизме. Во второй фазе науки эмансипируются от философии: они открывают свои собственные базовые термины и отношения; когда же это открытие достигает зрелости, то в новом контексте заново проводится аристотелевское различение между priora quoad nos [первейшим для нас] к priora quoadse [первейшим самим по себе]. На это различение указывал Эддингтон, когда говорил о двух столах: один из них — зримый, осязаемый, коричневый, прочный и тяжелый; другой — почти пустое пространство, где кое-где встречаются непредставимые волночастицы.
Ученая дифференциация сознания — это сознание лингвиста, эрудита, экзегета, историка. Оно сочетает в себе разновидность здравого смысла, схватывающего собственное место и время, с обыденным стилем понимания, которое схватывает смыслы и интенции в словах и поступках, порожденных здравым смыслом других людей, других мест или другого времени. Так как ученость работает в | обыденном стиле развития интеллекта, она не пытается достигнуть универсальных принципов и законов, которые составляют цель естественных наук и обобщающих гуманитарных наук. Ее цель огра- | ничивается тем, чтобы понять смысл, подразумеваемый частными
ФУНДИРОВАНИЕ
утверждениями, и интенции, воплощенные в частных поступках. Стало быть, гуманитарная ученость и теоретические дифференциации сознания совершенно различны.
Следующая дифференциация сознания, интериорность, работает в областях здравого смысла и интериорности. Если теоретически дифференцированное сознание пытается определить свои базовые термины и отношения, отправляясь от чувственного опыта, то сознание, дифференцированное по интериорности, хотя и должно отправляться от чувства, порой уклоняется от этого начала и определяет свои базовые термины и отношения через обращение к нашим сознательным операциям и динамичной структуре, связывающей их друг с другом. Именно на таком основании выстраивается наш метод. Именно такое основание нащупывала философия Нового времени в усилии преодолеть скептицизм XIVв., выявить свою соотнесенность с естественными и гуманитарными науками, разработать критику общего здравого смысла, который столь легко смешивается с общей бессмыслицей, и таким образом поместить абстрактно помысленную когнитивную деятельность в конкретный опорный контекст человеческого чувствования, а также морального обдумывания, оценки и решения.
Каждая из описанных выше дифференциаций сознания может быть начальной, зрелой или приходящей в упадок. В набожной жизни нетрудно узнать предтечу мистического опыта, в любви к искусству _ начало творчества, в литературе мудрости — предшественницу философской теории, в антикваре — становление эрудита, в психологической интроспекции — материал для сознания, дифференцированного по интериорности. Но то, что однажды достигнуто, не обязательно сохранится навек. Героическая духовность религиозного лидера может смениться благочестивой рутиной его позднейших последователей. Художественный гений может уступить место художественным подделкам. Дифференцированное сознание Платона или Аристотеля может обогатить позднейший гуманизм, хотя острие изначальной теории было утрачено. Высокая ученость может выродиться в накопление бессвязных деталей. Современная философия может мигрировать от теоретически к интериорно дифференцированному сознанию, а может и обратиться к недифференцированному сознанию досократиков или аналитиков обиходного языка.
зоо

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
Я ограничился кратким описанием каждой из дифференциаций сознания. Но, помимо таких единичных дифференциаций, существуют дифференциации двойные, тройные, четверные и пятерные. Имеется не просто десять типов двойной дифференциации, еще десять типов тройной и пять — четверной; имеется также много разных путей, которыми человек может продвигаться в четверной дифференциации. Кроме того, каждая новая дифференциация вступает во владение новой областью универсума и спонтанно требует приспособить к себе предшествующие результаты предшествующей практики, которую вплоть до этого момента оно так или иначе пыталось осуществлять в этой области. В частности, теоретически дифференцированное сознание обогащает религию систематической теологией, но также освобождает естественные науки от привязки к философии, позволяя им разработать свои собственные базовые термины и отношения. Ученость выстраивает непроницаемую стену между систематической теологией и ее историческими религиозными истоками, но это развитие побуждает философию и теологию смещаться от фундирования в теории к фундированию в интериорности. В силу такого смещения теология обретает способность разработать метод, который служит основанием, но и критикой критической истории, интерпретации и разыскания.
4. ПЛЮРАЛИЗМ РЕЛИГИОЗНОГО ЯЗЫКА
Помимо радикального плюрализма, проистекающего из присутствия или отсутствия интеллектуального, морального или религиозного обращения, существует и более мягкий, но, тем не менее, загадочный плюрализм, корни которого — в дифференциации человеческого сознания.
Во-первых, наиболее широко распространенный тип, далеко опережающий все прочие, — недифференцированное сознание. К этому типу неизменно принадлежит преобладающее большинство верующих. Поскольку это сознание не дифференцировано, его лишь озадачивают или развлекают пророчества религиозно дифференцированного сознания, усилия художников, тонкости теоретиков, кропотливый труд историков и сложное употребление привычных слов, проистекающее из интериорно дифференцированного сознания. Поэтому для того, чтобы проповедовать этому большинству или
зог
ФУНДИРОВАНИЕ
учить его, с ним нужно говорить на его языке, выполнять его собственные процедуры, обращаться к его собственным возможностям. К несчастью, оно не единообразно. Существует столько же ответвлений здравого смысла, сколько существует языков, социальных или культурных различий, и почти столько же, сколько существует различий места и времени. Так что провозвестие Евангелия всем людям требует по меньшей мере стольких же проповедников, сколько имеется различных мест и времен; и от каждого из них требует узнать людей, к которым посланы он или она, их образ мыслей, их манеру поведения, их стиль речи. Следствием этого становится многообразный плюрализм. Прежде всего, это скорее плюрализм коммуникаций, чем доктрин. Но в пределах недифференцированного сознания нет никаких коммуникаций и доктрин, кроме тех, что реализуются в обрядах, нарративных формах, титулах, притчах и метафорах, которые действенны в данной среде.
Следует отметить исключение из этого последнего утверждения. Образованные классы в обществе, каким было, например, общество эллинистическое, как правило, обладают недифференцированным сознанием. Но среди источников их образованности фигурировали труды настоящих философов, так что эти классы имели возможность познакомиться с началами логики и относиться к высказываниям как объектам рефлексии и оперирования.
Так, Афанасий сумел включить во множество пояснений к термину opoovoiog [единосущный] правило, касающееся употребления высказываний об Отце и Сыне: «eadem de Filio, quae de Patre dicuntur, excepto Patris nomine» [«О Сыне говорится то же, что об Отце, за исключением имени Отца»]2.
Далее, могут вводиться новые технические термины, когда контекст делает ясным их смысл. Так, в определении Халкидонского собора во втором параграфе вводятся термины «лицо» и «природа». Но первый параграф не оставляет места сомнениям относительно их смысла, неоднократно настаивая на том, чтобы исповедовать одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в Божестве и совершенного в человечестве, истинно Бога и истинно человека, единосущного Отцу по Божеству и того же единосущного
г Athanasius, Orat. HI contra Arianos, PG 26, 329 A.
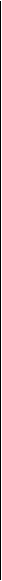
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
нам по человечеству, Рожденного прежде веков от Отца по Божеству, а в последние дни — от Марии Девы по человечеству3.
Смысл этого заявления совершенно ясен, но перед логически тренированным умом он ставит вопрос: является ли человечество тем же, что и божество? Если нет, как может одно и то же быть одновременно человеческим и божественным? Именно после того, как этот вопрос возник, стало важным разъяснить, что следует проводить различение между лицом и природой, что божество и человечество означают две разные природы, что одно и то же лицо есть вместе Бог и человек. Такое логическое разъяснение лежит в пределах смысла определения. Но если некто продолжит задавать метафизические вопросы — например, о реальности различия между лицом и природой, — он не только выйдет за пределы вопросов, прямо затронутых в соборном определении, но и окажется увлечен за пределы недифференцированного сознания — в теоретически дифференцированное сознание схоластики.
Но прежде всего рассмотрим, во-вторых, религиозно дифференцированное сознание. Оно может довольствоваться отрицаниями, образующими апофатическую теологию. В самом деле, такое сознание пребывает в любви. Эта любовь не ведает никаких условий, оговорок или исключений. В такой любви оно позитивно направлено к тому, что трансцендентно как любимое. Пока действуют эта позитивная направленность и следующая из нее самоотдача, они позволяют человеку обходиться без какого бы то ни было интеллектуально схваченного объекта; когда же они перестают действовать, памятование о них позволяет человеку довольствоваться перечислениями того, что не есть Бог4.
Можно возразить, что nihil amatum nisi praecognitum [нет ничего любимого, что прежде не было бы познано]. Но если это верно в отношении любой другой человеческой любви, это не обязательно должно быть верно в отношении любви Божьей, которая «излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим 5, 5). Эта благодать
ФУНДИРОВАНИЕ
может стать открытием, положенным в основание наших поисков Бога посредством естественного разума и позитивной религии. Она может стать тем пробным камнем, на котором мы испытываем, действительно ли то, чего мы достигаем естественным разумом5 или что проповедует позитивная религия, есть Бог. Это благодать, которую Бог дает всем людям, которая поддерживает все доброе, что есть в религиях человечества, которая объясняет, каким образом люди, никогда не слышавшие Евангелия, могут быть спасены. Это благодать, которая позволяет простому верующему втайне молиться своему небесному Отцу, даже если его религиозные представления ошибочны. Наконец, именно в такой благодати может быть найдено богословское обоснование диалога Католической церкви со всеми христианами, с нехристианами и даже с атеистами, которые способны любить Бога в сердце своем, хотя и не знают Его своим умом.
В-третьих, существует теоретически дифференцированное сознание. Как уже было сказано, слабый намек на него присутствует в постановлениях греческих соборов — Никейских, Эфесского, Хал-кидонского и III Константинопольского. В средневековый период это сознание развивалось в университетах, пытаясь решить обширную, системную и требующую сотрудничества задачу по согласованию всего, что составляло церковное наследие прошлого. Чисто умозрительные усилия Ансельма были нацелены на всеохватное постижение этого наследия прежде, чем была сформирована достаточная источниковедческая база. Примером более конкретного подхода служит работа Абеляра «Sic et Non» [«Да и Нет»], где сто пятьдесят восемь тезисов были доказаны и опровергнуты аргументами, заимствованными из Писания, Отцов, постановлений соборов и формулировок разума6. Из этой диалектической развертки выработалась техника quaestio [схоластического жанра «вопроса»]: Non Абеляра стало Videtur quod поп [«Кажется, что нет»], а его Sic стало Sed contra est [«Но против этого...»]. К этим элементам был присоединен общий
3 DS 301.
4 См. Karl Rahner, The Dynamic Element in the Church, Montreal: Palm, and
Freiburg: Herder, 1964, pp. 129 ff. Более полно: William Johnston, The Mysticism of
the Cloud of Unknowing, New York, Rome, Tournai, Paris: Desclee, 1967.
5 О переходе от контекста Первого Ватиканского собора к современному контексту, в котором говорится о естественном богопознании, см. мой доклад: «Natural Knowledge of God», Proceedings of the Catholic Theological Society of America, 23 (1968), 54-69.
PL 178, 1339 ff.
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
ответ: в нем указывались принципы решения вопроса и специфические ответы, в которых принципы прилагались к каждому из приведенных фрагментов источников.
Параллельно этому развивалась деятельность эрудитов по составлению книг сентенций, в которых были собраны и классифицированы релевантные фрагменты Писания и Предания. Когда технику quaestio применяли к материалам, собранным в книгах сентенций, результатом становились комментарии, а с ними вставали новые проблемы. Не было бы смысла примирять не согласующиеся между собой материалы из книг сентенций, если бы решение многочисленных вопросов само по себе было бессвязным. Следовательно, требовалась некая концептуальная система, которая позволила бы теологам дать связные ответы на все поднятые ими вопросы; и эта потребность была удовлетворена отчасти принятием, а отчасти — адаптацией аристотелевского корпуса.
Схоластическая теология представляла собой монументальное достижение. Ее влияние в Католической церкви было глубоким и длительным. Вплоть до Второго Ватиканского собора, отдавшего предпочтение более библейскому строю речи, она в значительной мере служила фоном папских документов и соборных постановлений. Но сегодня она все более предается забвению, отчасти из-за неактуальности средневековых задач, отчасти из-за недостаточности аристотелизма.
В стремлении согласовать все элементы своего христианского наследия схоластика страдала одним большим дефектом: она довольствовалась логически и метафизически удовлетворительным согласованием. Она не понимала, какую важную часть в этом наследии составляла не логическая или метафизическая, а фундаментально историческая проблематика.
С другой стороны, до тех пор, пока руководством в историческом разыскании или в понимании историчности человеческой реальности служил аристотелевский корпус, научный идеал мыслился в терминах необходимости. Более того, этот ошибочный идеал заразил не только схоластику, но и значительную часть мысли Нового времени. Лишь открытие и принятие неэвклидовой геометрии заставило математиков признать, что их постулаты и аксиомы не являются необходимыми истинами. Лишь квантовая теория заставила физиков
зоб
ФУНДИРОВАНИЕ
отказаться от разговоров о необходимых законах природы. Лишь депрессия тридцатых годов заставила экономистов отказаться от настойчивых утверждений о железных законах экономики.
Следует отметить, однако, что Фома Аквинский столь же мало находился под влиянием идеала необходимости, что и сам Аристотель. Его многочисленные комментарии, quaestiones disputatae [спорные вопросы], Summae подпадают под определение разыскания, за которым следует поиск понимания. Быть может, только на волне августиновско-аристотелевских споров конца XIII в. «Вторая аналитика» Аристотеля была принята всерьез и вызвала взрыв скептицизма, за которым последовал упадок.
Как бы то ни было, Фома Аквинский занимал выдающееся положение в последующей теологии. Комментарии к «Сентенциям» Петра Ломбардского продолжали составляться вплоть до конца XVI в. Но Капреол (| 1444), написавший комментарий на комментарий Фомы к «Сентенциям» Петра Ломбардского, положит начало иной традиции. Более радикальное выражение она получила у Каэтана (f 1534), который написал комментарий на «Сумму теологи» Фомы Аквинского. В этом за ним последовали: Баньес (f 1604), Иоанн св. Фомы (tl644), теологи Саламанки (1637-1600), Гонет (t 1681) и Биллуар (f 1757). Но при всем превосходстве Фомы Аквинского и при всей эрудиции этих теологов их процедура была ущербной. Комментарии к систематической работе, каковой является «Сумма теологии», лишь косвенным образом связаны с христианскими источниками. Реформация потребовала возврата к Евангелию, но истинное значение этого требования могло быть понято лишь с возникновением гуманитарной учености как особой дифференциации сознания.
Конечно, это правда, что Мельчор Кано (| ок. 1560) в своем труде «De locis theologicis» обрисовал богословский метод, который подразумевал прямое изучение всех источников. Но, как показывает последующая традиция учебников теологии, прямого изучения источников недостаточно. Должна быть открыта историчность человеческой реальности. Должна быть разработана техника реконструкции разных контекстов, предполагаемых разными лицами, народами, местами и временами. А когда такие техники будут освоены, станет ясным, что преподавать трактаты, написанные в старом стиле, должен не один профессор, а только команда.
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
Сложность дифференциации сознания по учености была представлена в главах «Интерпретация», «История», «История и исто-»! рики» и «Диалектика». Но это представление, в свою очередь, предполагает интериорно дифференцированное сознание: оно осознает разные виды собственных операций и динамических отношений, которые организуют это множество в работающее целое. Ибо только через такое осознание может быть достигнуто как точное описание деятельности знатоков, так и адекватное устранение смешений, возникающих из ошибочных теорий познания.
Если разрозненные элементы современной гуманитарной учености могут быть обнаружены в разные столетия, то ее активное развитие стало делом немецкой исторической школы XIX в. Она впервые обратила внимание на древнюю Грецию и Рим, а также на Европу Нового времени. Постепенно в ней получили развитие библейские, патристические, средневековые и позднейшие религиозные исследования. Долгое время эта школа встречала сопротивление со стороны католических кругов, но сегодня она не сталкивается с серьезной оппозицией. Эпоха господства схоластики завершилась. Католическая теология переживает эпоху реконструкции.
5. КАТЕГОРИИ
Мы сказали, что средневековая теология обратилась к Аристотелю за руководством и помощью в прояснении своей собственной мысли, в том, чтобы сделать ее связной. Метод, который мы предлагаем, высвечивается в своих основаниях интериорно и религиозно дифференцированным сознанием.
Трансцендентальные идеи — это наша способность искать, находить и опознавать примеры интеллигибельного, истинного, реального, благого. Отсюда следует, что они релевантны для любого объекта, который мы узнаем, задавая вопросы и отвечая на них.
Если трансцендентальные идеи делают вопросы и ответы возможными, то категории делают их определенными. Богословские категории бывают либо общими, либо специальными. Общие категории относятся к объектам, которые входят в поле зрения других дисциплин в той же мере, что и теологии. Специальные категории относятся к собственным объектам теологии. Задача разработки общих и специальных категорий возлагается не на методолога, а на
ФУНДИРОВАНИЕ
теолога, работающего в области пятой функциональной специализации. Задача методолога — предварительная: указать, какие качества желательно иметь богословским категориям, какая мера истинности от них требуется, и как такие категории, обладающие желаемыми качествами и истинностью, могут быть получены.
Итак, во-первых, христианство — это религия, которая развивалась в течение более двух тысячелетий. Более того, она имела предшественников в Ветхом Завете и выполняла миссию проповеди всем народам. Коротко говоря, теология, призванная размышлять о такой религии, а также направлять ее усилия к универсальной коммуникации, должна иметь транскультурное основание.
Во-вторых, трансцендентальный метод, обрисованный в нашей первой главе, является в определенном смысле транскультурным. Очевидно, он является транскультурным не в своей эксплицитной формулировке, а в реальностях, к которым относится формулировка, ибо эти реальности представляют собой не продукты какой-либо определенной культуры, а, напротив, начала, которые производят культуру, сохраняют и развивают ее. Более того, коль скоро именно к этим реальностям мы отсылаем, когда говорим о homo sapiens, отсюда следует, что эти реальности транскультурны по отношению к любым истинно человеческим культурам.
Сходным образом дар любви Божьей (Рим 5, 5) имеет транскультурный аспект. Ведь если этот дар и дается всем людям, если он и проявляется более или менее подлинно во многоразличных религиях человечества, если он и постигается столькими же разными способами, сколько имеется разных культур, то все же сам дар, в его отличии от собственных манифестаций, транскультурен. О любой другой любви будет верным сказать, что она предполагает знание — nihil amatum nisipraecognitum; но дар любви Божьей свободен. Он не обусловлен человеческим познанием, но он сам выступает причиной, побуждающей человека к богопознанию. Он не ограничен никакой стадией или выделенной областью человеческой культуры, но сам служит принципом, который вводит измерение неотмирности в любую культуру. При всем том остается верным, конечно, что дар любви Божьей отвечает событиям откровения, в которых Бог раскрывает отдельному народу или всему человечеству полноту своей любви к нему. Ибо пребывание-в-любви, как таковое, осуществляется не в

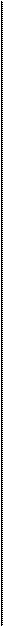
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
изолированном индивиде, а лишь во множестве людей, раскрывающих свою любовь друг другу.
Стало быть, существуют основания, из которых могут быть выведены как общие, так и специальные категории; и эти категории до некоторой степени транскультурны. Но прежде чем попытаться указать способ такого выведения, скажем несколько слов об ожидаемой значимости этого выведения.
Во-первых, что касается основания общих богословских категорий в трансцендентальном методе, приходится лишь повторить уже сказанное: эксплицитная формулировка этого метода исторически обусловлена и подлежит коррекции, модификации, дополнению по мере развития наук и углубления рефлексии над ними. Транскультурной является реальность, к которой отсылают подобные формулировки, и эта реальность транскультурна потому, что она не есть продукт какой-либо одной культуры, но служит началом, которое порождает и развивает культуры в пору их цветения. И это же начало подрывается, когда культуры разрушаются и приходят в упадок.
Во-вторых, что касается основания специальных богословских категорий, следует проводить различение между неограниченным пребыванием-в-любви (1) с точки зрения его определения и (2) с точки зрения его достижения. С точки зрения определения, это ха-битуальная актуализация способности человека к самотрансценди-рованию: это религиозное обращение, которое служит фундаментом как морального, так и интеллектуального обращения. Оно дает реальный критерий, по которому надлежит судить обо всем остальном; следовательно, человек должен лишь испытать его на самом себе или обратиться к свидетельствам других людей, чтобы найти в этом критерии его собственное обоснование. С другой стороны, достижение пребывания-в-любви, именно как достижение, диалектично. Оно есть подлинность как удаление от неподлинности; но удаление никогда не бывает полным, оно всегда хрупко. Величайший из святых имеет не только свои странности, но и свои дефекты; и не только некоторые из нас, но все мы молимся — не из смирения, а поистине7 — о прощении долгов наших, как и мы прощаем должникам нашим. Соответственно, если нет нужды критически оправдывать лю-
Ds 230.
ФУНДИРОВАНИЕ
бовь, описанную св. Павлом в главе 13 Первого послания к коринфянам, то всегда есть большая нужда в весьма критическом взгляде на любого религиозного индивида или группу и в различении — по ту сторону реальной любви, которая вполне может быть им дана — разного типа кренов, способных извратить или заблокировать в них осуществление этой любви8.
В-третьих, как по отношению к трансцендентальному методу, так и по отношению к дару любви Божьей мы провели различение между внутренним ядром, которое транскультурно, и его внешним проявлением, которое подвержено вариациям. Нет нужды говорить, что богословские категории будут транскультурными лишь постольку, поскольку они отсылают к этому внутреннему ядру. В их актуальной формулировке они будут исторически обусловленными, а значит, подлежащими коррекциям, модификациям, дополнениям. Более того, чем лучше они разработаны и чем дальше они уходят от этого внутреннего ядра, тем более хрупкими они становятся. На каком же основании следует их принимать и употреблять?
Прежде чем ответить на этот вопрос, следует ввести понятие модели, или идеального типа. Модели примерно так относятся к наукам о человеке, к философиям и теологиям, как математика относится к естественным наукам. Смысл существования моделей — быть не описаниями реальности, не гипотезами о реальности, а всего лишь взаимосвязанными наборами терминов и отношений. Такие наборы в самом деле оказываются полезными для ориентации исследований, выстраивания гипотез и выполнения дескрипций. Например, модель может направить внимание исследователя в определенную сторону с одним из двух результатов: либо она представит ему базовый набросок того, что окажется реальным положением дел; либо окажется в
 8 О кренах см. Insight, pp. 191—206, 218—242. В более общем смысле, см. многообразные предостережения против различных форм иллюзий в набожной и аскетической литературе. Хотя эта традиция может быть согласована с открытиями глубинной психологии, очень важно отдавать себе отчет в текущих корректировках прежних воззрений. См. L. v. Bertalanffy, General System Theory, New York: Braziller, 1968, pp. 106 ff., 188 ff. A. Maslow, Toward a Psychology of Being, Princeton: Van Nostrand, 1962, особенно pp. 19-41. Ernest Becker, The Strusture of Evil, New York: Braziller, 1968, pp. 154-166. Arthur Janov, The Primal Scream, New York: Putman, 1970.
8 О кренах см. Insight, pp. 191—206, 218—242. В более общем смысле, см. многообразные предостережения против различных форм иллюзий в набожной и аскетической литературе. Хотя эта традиция может быть согласована с открытиями глубинной психологии, очень важно отдавать себе отчет в текущих корректировках прежних воззрений. См. L. v. Bertalanffy, General System Theory, New York: Braziller, 1968, pp. 106 ff., 188 ff. A. Maslow, Toward a Psychology of Being, Princeton: Van Nostrand, 1962, особенно pp. 19-41. Ernest Becker, The Strusture of Evil, New York: Braziller, 1968, pp. 154-166. Arthur Janov, The Primal Scream, New York: Putman, 1970.
3"
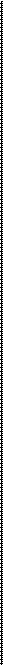
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
значительной степени нерелевантной, но открытие этой нерелевантности позволит найти подлинное объяснение, которое в противном случае могло остаться незамеченным. Далее, когда у нас есть модель, задача выстраивания гипотезы сводится к более простой задаче — перекроить модель под данный объект или область. Наконец, модель может быть полезной в силу того, что ей удается описать известную реальность. В самом деле, известные реальности подчас весьма сложны, и нелегко найти адекватный язык для их описания. Тогда формулировка моделей и общее признание их в качестве моделей способно в огромной степени облегчить как описание, так и коммуникацию.
Сказанное о моделях можно отнести и к вопросу о значимости общих и специальных богословских категорий. Во-первых, эти категории образуют набор взаимосвязанных терминов и отношений, а значит, будут обладать единством, характерным для моделей. Во-вторых, эти категории выстраиваются из базовых терминов и отношений, отсылающих к транскультурным компонентам человеческой жизни и действования, а значит, в самых своих корнях будут обладать совершенно исключительной значимостью. Наконец, в-третьих, будут ли они рассматриваться как нечто большее, чем модели с исключительной фундирующей значимостью, есть вопрос не методологии, а теологии. Другими словами, только теологу решать, станет ли та ли иная модель гипотезой, или к ней следует относиться как к дескрипции.
6. ОБЩИЕ БОГОСЛОВСКИЕ КАТЕГОРИИ
Коль скоро категории подлежат выведению, они нуждаются в основании, из которого будут выводиться. Основанием общих богословских категорий выступает внимающий, вопрошающий, рефлектирующий, обдумывающий субъект вкупе с операциями, которые проистекают из внимания, вопрошания, рефлексии и обдумывания, и вкупе с той структурой, внутри которой эти операции совершаются. Такой субъект — вовсе не субъект общий, абстрактный, теоретический; это в каждом случае конкретный теолог, которому довелось выполнять теологическую работу. Сходным образом, релевантное внимание, вопрошание, рефлексия и обдумывание — это внимание, вопрошание, рефлексия и обдумывание, которые осуществляются в самом теологе; последующие операции — это операции, которые он
ФУНДИРОВАНИЕ
открывает и опознает в своем собственном действовании; а структура, внутри которой осуществляются эти операции, — это модель динамичных отношений, которая, как он знает из собственного опыта, ведет от одной операции к другой. Наконец, субъект самотранс -цендирует. Его операции открывают объекты: единичные операции открывают частичные объекты, структурированное множество операций открывает составные объекты; а поскольку субъект в своих операциях сознает себя самого оперирующим, он также открывает себя, хотя и не как объект, а как субъекта.
Таково базовое гнездо терминов и отношений. В течение тысячелетий существовало множество индивидов, в отношении которых это базовое гнездо терминов и отношений может быть верифицировано: ведь они тоже внимали, понимали, судили, решали. Более того, они делали это не в изоляции, а в социальных группах; а поскольку эти группы развивались, прогрессировали и приходили в упадок, существует не только общество, но также история.
Далее, базовое гнездо терминов и отношений может быть дифференцировано разными способами. Так, в нем можно различить и описать: (1) каждый из различных видов совершаемых сознательных операций; (2) биологическую, эстетическую, интеллектуальную, драматическую или культовую модель опыта, внутри которой совершаются операции; (3) разное качество сознания, внутренне присущего чувствованию, интеллектуальным операциям, операциям разумным, ответственным и свободным; (4) разные пути, какими операции достигают своих целей: здравый смысл, науки, интериорность и философия, молитвенную жизнь, теологию; (5) разные области смысла и разные смысловые миры как результат разных способов действования: мир непосредственности, данный в непосредственном опыте и удостоверяемый успешной ответной реакцией; мир здравого смысла; мир наук; мир интериорности и философии; мир религии и теологии; (6) разные эвристические структуры, внутри которых операции накапливаются в ходе достижения целей: классическую, статистическую, генетическую и диалектическую эвристические структуры9, а также охватывающую их все целостную эвристическую структуру,
9 Insight, pp. 33-69, 217-244, 451-487, 530-594.

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
под которой я понимаю метафизику10; (7) контраст между дифференцированным сознанием, которое легко смещается от одного способа оперирования в одном мире к другому способу оперирования в другом мире, и, с другой стороны, недифференцированным сознанием, которое чувствует себя как дома в многообразных разновидностях здравого смысла, но воспринимает как чуждое и невразумительное любое послание из миров теории, интериорности или трансценден-ции; (8) различие между теми, кто пережил религиозное, моральное или интеллектуальное обращение, и теми, кто его не пережил; (9) проистекающие отсюда диалектически противостоящие друг другу позиции и контрпозиции, модели, категории.
Такая дифференциация намного обогащает первоначальное гнездо терминов и отношений. От этого расширенного базиса можно перейти к подробному описанию человеческого блага, ценностей, верований; к путям, элементам, функциям, областям и стадиям смысла; к вопросу о Боге, о религиозном опыте, его выражении, его диалектическом развитии.
Наконец, поскольку базовое гнездо терминов и отношений представляет собой динамичную структуру, имеются разные способы, какими способны работать модели изменений. Например, огонь мыслился как один из четырех элементов, или как результат флогистона, или как процесс окисления. Но хотя у этих ответов мало общего, все они представляют собой ответы на один и тот же вопрос: что мы познаём, когда понимаем данные об огне? В более общем виде: природа любого х есть то, чтб хотят познать, когда понимают данные, относящиеся к х. Так, обращаясь к эвристическим понятиям, стоящим за общими именами, находят объединяющий принцип последующих значений, которые приписываются этому имени".
Приведем другие примеры, большей частью взятые из «Инсай-та». Факты развития можно анализировать как процессы, идущие от изначальных недифференцированных операций низкой эффективности, через дифференциацию и специализацию, и приводящие к интеграции законченных специализаций. Революции в отдельных областях мысли можно схематически представить как последо-
10 Ibid., pp. 390-396.
11 Ibid., pp. 36 ff.
ФУНДИРОВАНИЕ
вательность более высоких точек обзора12. Универсум, в котором одновременно оказываются истинными классические и статистические законы, будет характеризоваться процессом эмерджентной вероятности13. Можно показать, что подлинность порождает прогресс, неподлинность влечет за собой упадок14, а проблема преодоления упадка служит введением в религию15. Проблема интерпретации высвечивает идею потенциально универсальной точки обзора, которая последовательно выражается на разных уровнях и разными способами16.
7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ БОГОСЛОВСКИЕ КАТЕГОРИИ
Теперь обратимся от выведения общих богословских категорий к выведению специальных богословских категорий. Моделью для этой задачи служит теоретическая теология, разработанная в Средние века. Но подражать этой модели можно, только найдя новый ключ, ибо категории, которые мы хотим получить, принадлежат не теоретической, а методологической теологии.
Чтобы проиллюстрировать это различие, рассмотрим средневековое учение о благодати. Оно предполагает метафизическую психологию, которая формулируется в терминах сущности души, ее способностей, хабитусов и актов. Это исходное допущение представляет порядок природы. Но благодать идет дальше природы и усовершает ее. Соответственно, благодать требует специальных богословских категорий, которые должны относиться к сверхъестественным сущностям: ведь благодать связана с даром любви Божьей, а этот дар есть дело не нашей природы, а свободной инициативы Бога. В то же время эти сущности должны быть продолжениями нашей природы, придающими ей совершенство. Соответственно, они представляют собой хабитусы и акты. Сверхъестественные акты обычно происходят от сверхъестественных оперативных хабитусов (сил), а сверхъестественные хабитусы происходят от сверхъестественного сущностного
и Ibid, pp. 13-19.
13 Ibid., pp. 115-128, 259-262.
14 Ibid., pp. 207-244.
15 Ibid., pp. 688-703, 713-730.
16 Ibid, pp. 562-594.

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
хабитуса (освящающей благодати), который, в отличие от оперативных хабитусов, коренится не в способностях, а в сущности души.
Теперь, чтобы совершить переход от теоретической к методологической теологии, мы должны начать не с метафизической психологии, а с интенционального анализа, то есть, в действительности, с трансцендентального метода. Так, в главе о религии мы заметили, что человеческий субъект интеллектуально самотрансцендировал благодаря достижению знания; что он морально самотрансцендировал в той мере, в какой искал ценностей, истинного блага, и тем самым сделался началом благой воли и благого действия; что он са-мотрансцедировал эмоционально, когда влюблялся, когда изоляция индивида оказывалась сломленной, и он спонтанно совершал некие поступки не только ради себя, но и ради других. Затем мы различили несколько видов любви: любовь интимную, любовь мужа и жены, родителей и детей; и любовь не от мира сего, потому что она не принимает никаких условий, ограничений или исключений. Именно эта неотмирная любовь — не как тот или другой акт и не как последовательность актов, но как динамичное состояние, из которого проистекают все акты, — образует в методологической теологии то, что в теоретической теологии называется освящающей благодатью. И это же динамичное состояние, являемое во внутренних и внешних актах, служит фундаментом, из которого выводятся специальные богословские категории.
Традиционно это динамичное состояние проявляет себя на трех путях: на пути очищения, благодаря которому человек удаляется от греха и преодолевает соблазн; на пути просвещения, благодаря которому оттачивается способность человека к различению ценностей и укрепляется его преданность им; на пути единения, благодаря которому радостный и мирный покой являет любовь, до того сражавшуюся с грехом и возраставшую в силе.
Стало быть, данные о динамичном состоянии неотмирной любви — это данные о процессе обращения и развития. Его внутренней детерминантой служит дар любви Божьей и согласие человека; но у него есть и внешние детерминанты — пережитый опыт и накопленная мудрость религиозной традиции. Если гражданское право признает человека совершеннолетним в двадцать один год, то, по мнению профессора религиозной психологии в Лувене, человек достигает
3i6
ФУНДИРОВАНИЕ
подлинной религиозной веры и надлежащего личностного усвоения унаследованной религии в возрасте около тридцати лет17. Но подобно тому, как человек может быть весьма успешным естествоиспытателем, имея при этом самое смутное представление о своих собственных сознательных интенциональных операциях, так он может быть зрелым религиозно и в то же время нуждаться в обращении к собственной прошлой жизни, в исследовании ее религиозных моментов и черт, прежде чем сможет различить в ней устремленность, нацеленность, побуждение, призыв к тому, что не от мира сего. И даже тогда трудности не заканчиваются: человек может потерпеть неудачу в том, чтобы связать эти произнесенные мною слова с каким-либо конкретным смыслом; он может слишком хорошо знать реальность, о которой я говорил, чтобы соотнести ее с моими словами; он может искать чего-то, что несет на себе определенный ярлык, хотя все, что ему было нужно, — это просто взвесить собственное осознание силы, совершающей в нем свою работу, и сосредоточиться на ее долговременных последствиях.
Но я не думаю, что здесь есть повод для сомнений. Оливье Рабю спрашивал: существует ли в области религиозного опыта хоть один неопровержимый факт? Он усмотрел такой факт в существовании любви. Она похожа на комнату, наполненную музыкой, хотя мы не знаем наверняка ее источника. В мире присутствует как бы напряженное поле любви и смысла; в отдельных точках оно достигает заметной интенсивности, но при этом всегда ненавязчиво, скрыто призывает каждого из нас присоединиться к нему. А чтобы присоединиться к нему, мы должны воспринять его, ибо это восприятие совершается через нашу собственную любовь18.
Функциональная специализация «фундирование» выводит свой первый набор категорий из религиозного опыта. Такой опыт есть нечто избыточно простое, а временами даже избыточно упрощающее; и он же есть нечто избыточно богатое и обогащающее. Теологу необходимы исследования религиозной интериорности: исторические, феноменологические, психологические, социологические. Ему не-
17 A. Vergote, Psychologie religieuse, Brussels: Dessart, 19693, p. 319.
18 O. Rabut, L'experience religieuse fondamentale, Tournai: Castermann, 1969,
P. 168.

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
обходимо духовное развитие, которое позволит ему проникнуть в опыт других людей и выстроить термины и отношения, способные выразить этот опыт.
Во-вторых, от объекта теолог переходит к субъекту, к совместному бытию субъектов в сообществе, к служению и свидетельствова-нию, к истории спасения, которая уходит корнями в бытие-в-любви, и к той роли, которую играет эта история в утверждении царства Божьего среди людей.
Третий набор специальных категорий смещается от нашей любви к ее возлюбленному источнику. Христианская традиция выводит на свет нашу скрытую устремленность к Богу в любом нашем интенди-ровании, когда говорит о данном нам Духе, о Сыне, нас искупившем, об Отце, пославшем Сына Своего, а вместе с Сыном и Духа, и о нашей будущей судьбе, когда будем видеть уже не через тусклое стекло, а лицом к лицу.
Четвертый набор категорий проистекает из дифференциации. Как человеческая природа индивида, так и его христианство может быть подлинным, неподлинным или смешением того и другого. Хуже всего то, что неподлинному человеку или христианину подлинным кажется то, что в действительности неподлинно. Именно здесь скрываются корни разделения, противостояния, раздора, обличения, ожесточения, ненависти, насилия. И здесь же нужно искать трансцендентальное основание четвертой функциональной специализации — диалектики.
Пятый набор категорий касается прогресса, упадка и искупления. Как человеческая подлинность способствует прогрессу, а человеческая не подлинность порождает упадок, так христианская подлинность, то есть любовь к другим людям, неотъемлемая от само- ! пожертвования и страдания, есть самое радикальное средство против зла. Христиане приближают царство Божье на земле, не только творя добро, но и побеждая зло добром (Рим 12, 21). Прогресс совершается не только в человечестве: развитие и прогресс имеют место и внутри самого христианства; и как есть развитие, так есть и упадок; и как есть упадок, так есть и проблема его исцеления, преодоления зла добром — не только в мире, но и в Церкви.
Вот то, что нужно было сказать об общих и специальных богословских категориях. Как уже было отмечено, задача методолога — в
3i8
ФУНДИРОВАНИЕ
том, чтобы проследить выведение этих категорий. Но определить в деталях, чем должны быть общие и специальные категории, — дело теолога, работающего в пятой функциональной специализации.
8. УПОТРЕБЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ
Я показал, каким образом общие и специальные категории могут быть выведены из транскультурного основания. Для общих категорий основанием будет подлинный или неподлинный человек: внимательный или невнимательный, умный или бестолковый, разумный или глупый, ответственный или безответственный, — со всеми вытекающими позициями и контрпозициями. Для специальных категорий основанием будет подлинный или неподлинный христианин: действительно пребывающий в любви к Богу или терпящий неудачу в этой любви, со всеми вытекающими последствиями в виде христианского или нехристианского мироощущения и стиля жизни.
Выведение категорий есть дело субъекта как человека и христианина. Он осуществляет самоприсвоение и употребляет взвешивающее сознание как базис для методического контроля в богослов-ствовании, а также как то a priori, исходя из которого он способен понимать других людей, их социальные отношения, их историю, религию, обряды, судьбу.
Очищение категорий — устранение неподлинного — подготавливается функциональной специализацией «диалектика» и выполняется в той мере, в какой теологи достигают подлинности через религиозное, моральное и интеллектуальное обращение. Здесь нельзя надеяться на открытие некоего «объективного» критерия, теста или метода контроля, ибо такой смысл «объективного» — не более чем иллюзия. Подлинная объективность есть плод подлинной субъективности. Она достигается только через достижение подлинной субъективности. Поиск и применение каких-то альтернативных подпорок или костылей неизменно ведут к той или иной степени редукционизма. Как попытался показать Ханс-Георг Гадамер на всем протяжении своей книги «Истина и метод», не существует удовлетворительного критерия метода, который бы абстрагировался от критерия истины.
Употребление общих богословских категорий имеет место в любой из восьми функциональных специализаций. Генезис специальных богословских категорий имеет место в зачаточном виде в
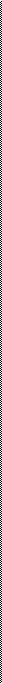
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
диалектике, а во всей их обязательности — в фундировании. Обязательность, однако, принадлежит категориям только как моделям, как взаимосвязанным наборам терминов и отношений. Употребление и признание категорий как гипотез относительно реальности или описаний реальности осуществляется в специализациях «доктрины», «систематика» и «коммуникации».
Следует подчеркнуть, что такое употребление специальных категорий осуществляется во взаимодействии с данными. Категории получают от данных дальнейшие спецификации. В то же время данные диктуют необходимость углубленного прояснения категорий, их коррекции и развития.
Таким образом, это движение принимает форму ножниц, где верхним лезвием служат категории, а нижним — данные. Как принципы и законы физики не являются ни математикой, ни данными, но есть плод взаимодействия между математикой и данными, так теология не может быть ни чистым a priori, ни чистым a posteriori, но есть плод длящегося процесса, укорененного, с одной стороны, в транскультурном основании, а с другой стороны, в данных с возрастающей степенью организации.
Итак, поскольку теология — это длящийся процесс, поскольку сама религия и религиозная доктрина развиваются, постольку функциональная специализация «фундирование» в значительной мере имеет дело с порождающими началами, с генезисом, с нынешним состоянием, с возможным будущим развитием и адаптацией категорий, в которых христиане понимают самих себя, общаются друг с другом и проповедуют Евангелие всем народам.
12 ДОКТРИНЫ
Наша шестая функциональная специализация имеет дело с доктринами. Мы будем говорить о многообразии доктрин, об их функциях, вариациях, о дифференциации человеческого сознания и о длящемся процессе открытия разума с его равно длящимися контекстами; о развитии, постоянстве, историчности догматики, о культурном плюрализме и единстве веры, а также об автономии функциональной специализации, носящей имя «доктрины».
1. МНОГООБРАЗИЕ
Первый шаг состоит в том, чтобы различить первоисточники: церковные, богословские, методологические доктрины, а также применение методологической доктрины, которое приводит к вычленению одноименной функциональной специализации. Для всех них общим будет то, что им учат. Они различны и различаются потому, что их учители различаются авторитетностью, с которой учат.
В первоисточниках надлежит проводить различение между доктриной изначального провозвестия и доктринами об этой доктрине. Ссылки на изначальное провозвестие можно найти, например, в 1 Кор 15, 3 слл и в Галл 1, 6 слл. С другой стороны, стадии в обнародовании и применении этого провозвестия служат источниками Доктрин о доктрине. Так, есть Божественное откровение, в котором Бог говорил к нам издревле в пророках, а в последние дни — в Сыне (Евр 1, 1—2). Есть церковные постановления, где решения христианского собрания совпадают с решениями Святого Духа (Деян 15, 28). Есть апостольское предание: Ириней, Тертуллиан и Ориген — все
32O

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
они ссылаются на учение, данное апостолами церквам, которые они основали, и передаваемое из поколения в поколение1. Есть вдохновение канонического Писания, которое стало гораздо более доступным критерием после того, как был сформирован канон и установлены принципы его толкования2.
Во-вторых, есть церковные доктрины. Им предшествуют в Новом Завете исповедания веры3 и решение христианского собрания в Деян 15, 28. Как правило, эти доктрины не сводятся к простому подтверждению Писания или предания. Сколь бы верным ни выглядело замечание папы Стефана: «nihil innovetur nisi quod traditum est» («обновляется лишь то, что пришло из предания», DS11), оно напоминает о том, что новые вопросы действительно возникали, а удовлетворительных ответов нельзя было ожидать, пока прежняя позиция всех устраивала. Почему это так — большой вопрос, возможный ответ на который будет дан в разделах о вариациях доктрины и о дифференциации сознания. Но достаточно перечитать такое собрание соборных и папских деклараций, как «Enchiridion Symbolorum» [«Справочник исповеданий»] Денцингера, чтобы заметить, что каждая из них есть продукт своего места и времени, и каждая отвечает на вопросы своей эпохи людям своей эпохи.
В-третьих, есть теологические доктрины. Этимологически «теология» — это «речь о Боге». В христианском контексте она означает персональную рефлексию над откровением, данным Иисусом Христом и во Христе. В патристический период авторы имели дело преимущественно со специфическими вопросами, волновавшими умы в ту эпоху, но к ее концу появились и такие всеобъемлющие труды, как «De fide orthodoxa» [«О православной вере»] Иоанна Да-маскина. В средневековых школах теология приняла методический, совместный, развивающийся характер. Разыскание и классификация предпринимались в «Книгах сентенций», интерпретация — в
1 lrenaeus, Adv. haer., I, 10, 2; III, 1-3; Harvey I, 92; II, 2 ff. Tertullian, Depraescr. Haeret., 21. Origen, Deprinc, Paef. 1—2; Koetschau 7 f.
г Ср. весьма простые принципы Климента Александрийского {Strom. VIII, 2 ff.; Stahlin III, 81 ff.) с труднейшими принципами Иринея (Adv. Haer. I, 3, 1.2.6; Harvey I, 24-26.31).
3 Cm. V.H. Neufeld, The Earliest Christian Confessions, Leiden: Brill, 1963, Vol. V of New Tools and Studies, ed. B.M. Metzger.
ДОКТРИНЫ
комментариях на книги Ветхого и Нового Заветов, а также на труды выдающихся авторов. Систематическая теология стремилась внести порядок и связность в массу материалов, сосредоточенных в Писании и предании. Начало ей положил, вернее всего, труд Абеляра «Sic et Non» [«Да и Нет»], где сто пятьдесят восемь тезисов были доказаны, а затем опровергнуты доводами Писания, предания и разума. В любом случае поп Абеляра стало позднее Videtur quod поп [«Кажется, что нет»] как составной части quaestio [«Вопроса»], а его sic стало Sed contra est [«Но против этого...»]; затем следовала формулировка принципов решения или согласования, и, наконец, принципы прилагались к каждому из противоречащих друг другу источников. Когда техника quaestio была приложена к материалам «Книги Сентенций», возникла следующая потребность: решения бесконечных «Вопросов» нужно было согласовать друг с другом. Потребовался некий системный взгляд сверху. В поисках основания для такого взгляда теологи обратились к Аристотелю.
В-четвертых, к концу XIIIв. методологические проблемы вышли на свет в бурных и сокрушительных спорах между августинианами и аристотеликами. Этот спор не только не разрешился, но перешел в перманентную оппозицию между томистской и скотистской школами, как позднее это произошло с католиками и протестантами, иезуитами и доминиканцами, а также с последователями разных протестантских лидеров. Необходимое разрешение подобных длящихся конфликтов дает богословский метод, достаточно радикальный, чтобы решительно встать лицом к лицу с базовым философским во-прошанием: что мы делаем, когда познаём? Почему мы занимаемся познанием? Что мы познаём, когда занимаемся познанием?
Все это необходимо, но не достаточно. Следует также спросить, что мы делаем, когда занимаемся теологией; и ответ должен иметь в виду не только встречу с Богом в христианстве, но также историчность христианского свидетельства, различие человеческих культур, Дифференциации человеческого сознания.
Следовательно, есть методологическая доктрина. Как теология размышляет над откровением и церковными доктринами, так методология размышляет над теологией и теологиями. Коль скоро она размышляет над теологией и теологиями, она должна иметь в виду также откровение и церковные доктрины, над которыми размышля-
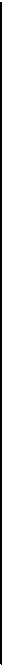 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
1
ют теологии. Но хотя она имеет их в виду, она не пытается определять их содержание: эту задачу она оставляет церковным авторитетам и теологам. Сама же методологическая доктрина занимается определением возможного или должного образа действия теологов. Она не заботится о предопределении специфических результатов, которые, возможно, будут получены во всех будущих поколениях.
В-пятых, существует многообразие доктрин, которое имеется в виду в заголовке данного раздела. Существуют богословские доктрины, доступ к которым открывает приложение метода. Этот метод различает функциональные специализации и применяет функциональную специализацию «фундирование» для отбора доктрин среди множества вариантов выбора, предоставляемых функциональной специализацией «диалектика».
2. ФУНКЦИИ
В третьей главе, посвященной смыслу, мы различили коммуникативную, производящую, конститутивную и когнитивную функции смысла. Затем, в главе четвертой «Религия», мы говорили о внутренней благодати и о внешнем слове, приходящем к нам от Иисуса Христа. В силу авторитетности своего источника это слово есть доктрина. В силу того, что этот источник един, доктрина будет общей доктриной. Наконец, эта общая доктрина будет выполнять коммуникативную, производящую, конститутивную и когнитивную функции, присущие смыслу.
Доктрина выполняет производящую функцию постольку, поскольку она советует и разубеждает, велит и запрещает. Она когнитивна постольку, поскольку говорит, откуда мы пришли, куда мы идем, как мы туда придем. Она конститутивна для индивида, поскольку представляет собой набор смыслов и ценностей, которые формируют его жизнь, его познание, его поступки. Она конститутивна для общины, так как община существует постольку, поскольку имеет общепринятый набор смыслов и ценностей, сообща разделяемых людьми. Наконец, она коммуникативна, ибо перешла от Христа к апостолам, от апостолов — к их преемникам, а от них — в каждую последующую эпоху, к пастве, по отношению к которой они выступали пастырями.
Далее, существует нормативная функция доктрин. Люди могут
ДОКТРИНЫ
пережить, а могут и не пережить интеллектуальное, моральное, религиозное обращение. Если они его не пережили, причем отказ от обращения сознателен и упорен, он рискует обернуться утратой веры. Но необращенный не может иметь ясного понимания того, чтб означает быть обращенным. С социологической точки зрения эти люди являются католиками или протестантами, но во множестве аспектов они отклоняются от нормы. Более того, у них может отсутствовать адекватный язык для выражения того, что они в действительности собой представляют, и поэтому они могут пользоваться языком группы, с которой отождествляют себя социально. В результате наступает инфляция или девальвация этого языка, а тем самым и доктрины, которая служит его источником. Термины, обозначающие то, чем необращенный не является, приходится расширять, чтобы обозначить ими то, чем он на самом деле является. Смущающие доктрины не должны упоминаться в обществе по соображениям вежливости. Неприемлемые выводы не подлежат извлечению. Эта неподлинность способна шириться; она может превратиться в традицию. Тогда люди, воспитанные в неподлинной традиции, могут стать подлинными людьми и подлинными христианами только через очищение своей традиции.
Против таких отклонений и обращается нормативная функция доктрин. В самом деле, функциональная специализация «диалектика» выводит на свет как истину, обретенную в прошлом, так и посеянные в прошлом заблуждения. Функциональная специализация «фундирование» проводит различение между истиной и заблуждением, ссылаясь на фундирующую реальность интеллектуального, морального и религиозного обращения. Результатом такого различения становится функциональная специализация «доктрины». Таким образом, доктрины, имеющие своей опорой обращение, противостоят аберрациям, берущим начало в отсутствии обращения. Соответственно, если необращенные не имеют реального представления о том, чтб значит быть обращенным, они, по крайней мере, находят в доктрине очевидное подтверждение тому, что нечто отсутствует в них самих, и что им надо молиться о просвещении и наставлении.
Следует подчеркнуть, что отмеченный нормативный характер Доктрин принадлежит функциональной специализации, выведенной из двух предшествующих специализаций — диалектики и фундирования. Это нормативность, которая проистекает из определенного
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
метода. Это нормативность, отличная от нормативности, которую приписывают мнениям теологов в силу их личной авторитетности, высокого уважения к ним в Церкви или среди ее иерархов. Наконец, нормативность любого богословского вывода, безусловно, отлична от нормативности, которую приписывают божественному Откровению, боговдохновенному Писанию или церковному учению, и зависима от них.
3. ВАРИАЦИИ
Исторические и антропологические исследования заставили нас осознать великое многообразие социального устроения человечества, его культур и ментальностей. В результате нам гораздо легче, нежели многим из наших предшественников, понять возможные вариации в выражении христианских доктрин. В самом деле, хотя Евангелие должно проповедоваться всем народам (Мф 28, 19), оно не обязательно должно проповедоваться им одинаково4. Если человек хочет общаться с людьми другой культуры, ему приходится использовать ресурсы этой культуры: пользоваться исключительно ресурсами своей собственной культуры означает не общаться с другими людьми, а оставаться замкнутым в своей культуре. В то же время недостаточно просто обратиться к ресурсам чужой культуры: это нужно делать творчески. Нужно найти ту форму, в какой христианское провозвестие может быть действенно и точно выражено в другой культуре.
Есть еще один момент. Когда христианская доктрина успешно вводится в другую культуру, ее дальнейшее развитие будет использовать ресурсы этой культуры. Этот момент подробно раскрывает кардинал Даниелу на примере ортодоксального иудеохристианства, которое в своем понимании христианских тайн обращалось к мысле-формам и стилевым жанрам позднего иудаизма {Spatjudentum). Чтобы помыслить Сына и Духа как разных Лиц, иудеохристианство отождествило их с ангелами. Эти и другие причудливые понятия получили выражение в форме экзегезы, откровения, видения5. С течением вре-
4 См. приветственное обращение Иоанна XXIII ко Второму Ватиканскому
собору. Ada apostolicae sedis 54 (1962), 762,11. 8 ff.
5 J. Danidlou. Theologie du judeo-christianisme, Toumai & Paris: Desclee, 1959;
Les symbols Chretiens primitives, Paris: du Seuil, 1961; Etudes d'exegisejudeo-chretienne,
Paris: Beauchesne, 1966.
ДОКТРИНЫ
мени идиосинкразии развились также в поместных и национальных церквах. Эти возникающие различия не грозят единству веры, если находят понимание и объяснение; скорее они свидетельствуют о ее жизнеспособности. Доктрины, которые действительно усвоены, несут на себе печать тех, кто их усвоил, а отсутствие такой печати может указывать на чисто формальное усвоение.
Факт культурных различий должен прежде всего встречать понимание и принятие в миссионерской деятельности; но у этого вопроса есть и другое приложение. Он возникает, когда наша собственная культура переживает изменение. Так, современное понимание культуры эмпирично. Культура мыслится как набор смыслов и ценностей, которые формируют общий образ жизни; существует столько культур, сколько существует разных наборов смыслов и ценностей.
Однако такой способ мыслить культуру относительно нов. Он является продуктом эмпирических гуманитарных исследований. В течение менее чем столетия он вытеснил более старое, классицистское понимание культуры, процветавшее свыше двух тысячелетий. Согласно более старому взгляду, культура мыслилась не эмпирически, а нормативно. Она была противоположностью варварства, была делом приобретения и усвоения вкусов, умений, идеалов, добродетелей, идей, которые настойчиво прививались человеку и в семейном кругу, и через курс школьного обучения свободным искусствам. В ней делался упор не на факты, а на ценности. Она не могла не притязать на универсальность. Ее классику составляли бессмертные произведения искусства, ее философия была вечной философией, ее законы и структуры были хранилищем мудрости и осмотрительности человечества. Классицистское образование предлагало образцы для подражания, идеальные характеры для состязания с ними, вечные истины и универсально действенные законы. Его целью было сформировать не просто знатока, но иото universale [всестороннего человека], который мог заняться чем угодно и сделать это блестяще.
Классицист не склонен к плюрализму. Он знает, что обстоятельства изменяют положение вещей, но куда глубже он убежден в том, что обстоятельства суть нечто привходящее, а за ними стоят сущность, ядро, корень, соответствующие классицистским посылкам стабильности, прочности, неизменности. Вещи обладают своей видовой природой; эти природы хотя бы в принципе могут быть адек-


 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
ватно познаны через качества, которыми они обладают, и законы, которым они подчиняются. Выше и по ту сторону видовой природы располагается только индивидуация через материю, так что знание одного случая видовой природы означает знание любого случая. Что верно для видов в целом, то верно и для человеческого вида, для веры, приходящей к нам через Иисуса Христа, через любовь, данную благодатью Святого Духа. Отсюда делался вывод, что различие народов, культур, социальных устройств подразумевает различие только во внешней форме выражения доктрин, но не различие в самой церковной доктрине.
Позднее мы обнаружим, что доктрины, именуемые догматами, постоянны, но наши выводы не будут опираться на посылки классицизма. С другой стороны, мы не релятивисты, а потому признаём нечто существенное и общее в человеческой природе и человеческой деятельности. Но мы относим это не на счет вечно истинных высказываний, а на счет вполне открытой структуры человеческого духа, а именно, всегда имманентно присутствующих и действенных, пусть даже не выраженных вовне, трансцендентальных предписаний: будь внимательным, будь умным, будь разумным, будь ответственным. Наконец, человеческие индивиды отличаются друг от друга не только индивидуацией через материю, но и своей ментальностью, характерами, образом жизни. В самом деле, свойственные людям понятия и образ действия суть продукты и выражения актов понимания; человеческое понимание развивается во времени; это развитие кумулятивно, а любое кумулятивное развитие соответствует условиям человеческого общества и среды, существующих в данном месте в данное время. Сам классицизм был весьма примечательным и по-настоящему благородным примером такого кумулятивного развития, но его притязания на то, чтобы быть единственной культурой человечества, больше не приемлемы.
4. ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СОЗНАНИЯ
Чтобы определить исходный пункт, процесс и конечный результат любого конкретного развития доктрины, требуется точное историческое исследование. Чтобы определить легитимность того или иного развития, требуется история ценностей: нужно задаться вопросом, направлялся ли процесс развития интеллектуальным, мо-
ДОКТРИНЫ
ральным и религиозным обращением. Но чем глубже тема, тем более общий характер принимает вопрос о том, как возможно развитие. Как возможно, что смертный человек способен развивать то, чего он не знал бы, если бы Бог не сообщил ему это в откровении?
Основанием для ответа на этот вопрос служит то, что я уже назвал дифференциацией сознания. В этой работе я уже немало высказал по этой теме. Но здесь возникает потребность вновь осветить ее с большей полнотой, и я должен извиниться за то, что повторяюсь.
Первая дифференциация возникает в процессе роста. Младенец живет в мире непосредственности. Ребенок радостно врывается в мир, опосредованный смыслом. Обычный взрослый никогда не сомневается в том, что мир, опосредованный смыслом, — это и есть реальный мир. Однако он может и не сознавать, что этот мир опосредован смыслом, и, обращаясь к философии, находит очень трудным делом объективировать критерии, позволяющие ему узнавать, что его высказывания истинны. Тогда он легко допускает грубый промах, заявляя, что для познания достаточно просто вглядеться.
Во-вторых, существует не единственный мир, опосредованный смыслом: по мере своего развития человеческий ум способен открывать новые техники познания. Существует, однако, фундаментальная процедура, которая практикуется спонтанно. Я имею в виду здравый смысл. Это спонтанный процесс обучения и научения, который постоянно протекает в индивидах той или иной группы. Человек нечто замечает, восхищается, пытается подражать; быть может, терпит неудачу, вновь всматривается или вслушивается, вновь и вновь предпринимает попытки, пока не освоит данную практику в совершенстве. Результатом становится накопление инсайтов, которое позволяет ему как успешно иметь дело с повторяющимися ситуациями, так и замечать новые черты новой ситуации, нащупывать способ ориентации в ней.
Но даже повторяющиеся ситуации варьируются по месту и времени. Поэтому существует столько ответвлений здравого смысла, сколько существует разных времен и мест. Что будет общим для общего здравого смысла, так это не содержание, а процедуры. В каждом из его многочисленных ответвлений имеет место характерный самокорректирующий процесс научения. Опыт рождает вопрошание и инсайт. Инсайт рождает речь и действие. Речь и действие рано или

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
поздно обнаруживают свою недостаточность, чтобы породить дальнейшее вопрошание и более полный инсайт.
В-третьих, здравый смысл имеет дело с этим миром, с непосредственным, конкретным, частным. Но дар любви Божьей придает человеческой жизни направленность на трансцендентное возлюбленное. Эта направленность являет себя бесчисленным множеством способов, а также может быть извращена или отвергнута еще бблыним множеством способов.
В-четвертых, без выражения человеческое познание и чувствование неполны. Поэтому развитие символов, искусства, литературы составляет внутренний момент человеческого прогресса. Мы уже привлекали внимание читателя к богатой, хотя и сжатой, иллюстрации этого тезиса в книге Бруно Снелла «Открытие разума»6.
В-пятых, возникает системный смысл. Здравый смысл знает значения слов, которыми он пользуется, не потому, что обладает их дефинициями omni et soli [для всех и каждого], но потому, что, как объяснил бы аналитик, он понимает, каков должен быть надлежащий способ употребления слов. Так что не было никакого парадокса в том, что ни Сократ, ни его собеседники не могли дать определений словам, которые они постоянно употребляли. Скорее Сократ пытался проложить путь к системному смыслу, который порождает технические термины, назначает им определенные взаимосвязи, конструирует модели и подгоняет их, пока они не дадут некоего упорядоченного и объясняющего видения той или иной области опыта. Отсюда берут начало два языка, две социальные группы, два мира, опосредованных смыслом. Есть мир, опосредованный обиходным смыслом, и есть мир, опосредованный системным смыслом. Есть группы людей, способные употреблять оба языка — обиходный и технический; и есть группы, способные употреблять только обиходный, или обыденный, язык.
В-шестых, существует пост-системная литература. Внутри культуры и под влиянием образования развиваются системные взгляды: в логике, математике, естествознании, философии. Системные взгляды служат основанием для критики предшествовавшего им
6 Bruno Snell, The Discovery of the Mind, Harvard University Press, 1952. Harper Torchbook, 1960.
ДОКТРИНЫ
здравого смысла, литературы, религии. Образованные классы принимают эту критику. Их мышление испытывает влияние со стороны их культурного наследия, но сами они не являются мыслителями-систематиками. Они могут при случае употребить тот или иной технический термин или логический прием, но их способ мышления в целом остается на уровне здравого смысла.
В-седьмых, возникает метод. Он заключается в том, что системный смысл переводится из статичного в подвижный, динамичный контекст. Исходно системы конструировались, чтобы длиться. Они были нацелены на истинное и достоверное познание необходимого положения дел. Но в Новое время системы выражают не то, что необходимо, а то, что внутренне гипотетично и нуждается в верификации. Кроме того, они выражают не то, что предполагается неизменным, а то, что предполагается подлежащим пересмотру и улучшению по мере открытия новых данных и достижения их более глубокого понимания. Любая данная система, старая или новая, подчиняется логике; но переход от любой данной системы к следующей системе есть дело метода.
В-восьмых, развивается ученость, навыки лингвистической, экзегетической, исторической работы. В отличие от естествоиспытателя, эрудит стремится не к выстраиванию системы, набора универсальных принципов и законов. Он стремится к тому, чтобы понять здравый смысл, свойственный людям других мест и времен. Достигаемое им понимание само по себе — того же стиля и рода, что и первоначальный здравый смысл; но его содержание — это не содержание собственного здравого смысла эрудита, а содержание здравого смысла далеких мест или прошлых времен.
В-девятых, развивается пост-научная и пост-ученая литература. Они относятся к науке и учености Нового времени примерно так же, как пост-системная литература относится к старой системе.
В-десятых, предпринимается исследование интериорности. Она отождествляется с личным опытом собственных сознательных ин-тенциональных актов человека и с опытом динамичных отношений, которые связывают эти акты друг с другом. Такое исследование предоставляет инвариантную основу для подвижных систем, а также точку зрения, с которой могут исследоваться все дифференциации человеческого сознания.

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ 5. ДЛЯЩЕЕСЯ ОТКРЫТИЕ РАЗУМА: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ 5. ДЛЯЩЕЕСЯ ОТКРЫТИЕ РАЗУМА: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Мы составили голую схему дифференциаций человеческого сознания. Но эти дифференциации также характеризуют последовательные стадии культурного развития; а поскольку ни одна предыдущая стадия не может предвидеть последующих, их последовательность в целом может быть названа длящимся открытием разума. Наконец, эта последовательность немало способствует пониманию развития доктрин: ведь доктрины обладают смыслом внутри контекстов, а длящееся открытие разума изменяет контексты. Поэтому, если доктрины хотят сохранить свой смысл в новых контекстах, они должны перестраиваться.
Соответственно, от списка дифференциаций мы должны теперь обратиться к последовательности этапов развития. Мы рассмотрим: (1) реинтерпретацию символического постижения; (2) философское очищение библейского антропоморфизма; (3) окказиональное употребление системных смыслов; (4) систематическую богословскую доктрину; (5) церковную доктрину, которая зависит от систематической богословской доктрины, и (6) в части второй — проблемные пункты современного развития.
Под символическим постижением я буду иметь в виду постижение человека и его мира, выраженное в мифе, саге, легенде, магии, космогонии, апокалипсисе, типологии. Источником такого постижения, как уже объяснялось, служит тот факт, что дофилософское и донаучное мышление хотя и может проводить различения, но не способно развернуть и выразить адекватное понимание словесных, понятийных и реальных дистинкций; кроме того, оно не способно провести различение между легитимным и нелегитимным употреблением конститутивной и производящей функций смысла. В результате оно осуществляет символическое построение мира.
Такое построение, как и метафора, не является ложным. В самом деле, позднейшие идеи истины еще не получили развития. Еврей мыслил истину в терминах верности, и когда он говорил о том, чтобы творить истину, он имел в виду — творить праведные дела. Для грека истиной была cdtjOeia — то, что не осталось незамеченным, что пребывает несокрытым, что зримо. В течение долгого времени для многих людей гомеровские сказания были поистине зримыми.
ДОКТРИНЫ
Но даже в эпоху, ограниченную символическим постижением, имелась возможность отбросить ложь и приблизиться к истине. Такая возможность заключалась в реинтерпретации символического конструкта. При этом использовался почти тот же самый материал и давался ответ на тот же самый вопрос. Но производимые добавления, устранения, перегруппировки имели следствием новый ответ на старый вопрос.
Такая реинтерпретация, как утверждают, была предпринята ветхозаветными авторами. Они сумели использовать традицию соседних народов, чтобы обеспечить себе возможность выражения. Но то, чтб они выражали, было совсем другим. Бог Израиля играл свою роль в реальнейшей человеческой истории. Вопросы о творении и судном дне затрагивали начало и конец истории. Здесь не было упоминания об изначальной битве богов, о божественном происхождении царей или избранного народа; не было культа звезд или человеческой сексуальности; не было сакрализации плодородия.
Сходным образом в Новом Завете, как утверждают, были использованы символические представления, присутствовавшие также в позднем иудаизме и в эллинистическом гностицизме. Но эти представления использовались таким образом, чтобы удерживать их в подчинении христианским целям. Когда же такое подчинение отсутствовало, они подвергались самой суровой критике и отбрасывались7.
Реинтерпретация совершается не только в контексте символического постижения, но и в контексте философской озабоченности. Ксенофан заметил, что люди творят себе богов по собственному образу, и подчеркнул, что львы, кони, ослы поступали бы так же, если бы владели навыками каменной скульптуры или живописи. То было начало долговременных усилий помыслить Бога не по аналогии с материей, а по аналогии с духом. Так, Климент Александрийский убеждал христиан воздерживаться от антропоморфных представлений о Боге, несмотря на то, что они содержатся в Писании8.
Далее, греческие соборы знаменуют собой начало движения за
7 См. Kurt Fror, Biblische Hermeneutik, Miinchen: Maiser, 1961, 19642, SS. 71 f.
8 Clement, Stromata V, 11, 68, 3; PG 9, 103 B; Stahlin II, 371,18 ff; см. также V, 11,
71, 4; PG 9,110 A; Stahlin II, 374, 15.

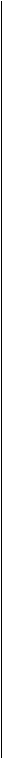 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
применение системного смысла в церковной доктрине. В IV в. Церковь раздирали споры по вопросу, который не был сформулирован в новозаветные времена. Она ответила на него утверждением еди-носущия Сына Отцу. Конечно, в этом утверждении нет никакого полета умозрения, пытающегося постигнуть божественное бытие или сущность; оно означает лишь то, что истинное об Отце истинно также и о Сыне, за исключением того, что Сын не есть Отец. По словам Афанасия, «eadem de Filio quae de Patre dicuntur excepto Patris nomine» [«О Сыне говорится то же, что об Отце, за исключением имени Отца»]9. Или, как сказано в Прологе к Мессе на Троицын день: «Quod enim de tua Gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu sancto sine differentia discretionis sentimus» [«Во что веруем о славе Твоей, Тебя являющей, в то же веруем о Сыне Твоем; то же разумеем о Святом Духе, без различия и разделения»]. Опять-таки, Халкидон-ский собор во втором параграфе своего определения ввел термины «лицо» и «природа»; но последующая теология придала крайнюю загадочность тому, что в самом определении высказано абсолютно просто и ясно. В самом деле, первый параграф гласит, что один и тот же Сын, Господь наш Иисус Христос, совершенный в Божестве и совершенный в человечестве, истинно Бог и истинно человек, единосущен Отцу по Божеству, и Он же единосущен нам по человечеству, Рожденный прежде веков от Отца по Божеству, а в последние дни — от Марии Девы по человечеству10.
Когда в следующем параграфе определение говорит о лице и природах, не возникает сомнений в том, что одно лицо есть один и тот же Сын, Господь наш, и что две природы — это Его божество и Его человечество. Но это утверждение может стоять в логическом контексте, в начально метафизическом контексте и в полностью метафизическом контексте. Если не различать эти контексты, если вообще не понимать некоторые из них, то высказывание Халкидона о лице и природе может подвергнуться предельной мистификации.
Возьмем логический контекст. Он оперирует голыми пропозициями. Можно проиллюстрировать это приведенным выше описанием смысла единосущия, а также позднейшим христологическим
9 Athanasius, Orat. Ill contra Arianos, PG 26, 329 A.
10 DS 301.
ДОКТРИНЫ
учением о communicatio idiomatum [общении свойств]. В приведенном примере Халкидон упоминает лицо и природу, потому что сознает, что люди могут спросить: божество и человечество — это одно и то же? И если нет, как это возможно, что Сын и Господь наш Иисус Христос есть один и тот же? Предвосхищая это сомнение, собор говорит о лице и природе: Сын, Господь наш, есть одно лицо; божество и человечество суть две природы.
Возьмем начально метафизический контекст. Примерно через семьдесят пять лет после Халкидона византийские богословы пришли к тому, что Христос есть одно лицо в двух природах, и, стало быть, одна из природ должна остаться безличной. Это вызвало немалую дискуссию об evvnooraoia [воипостасности] и avvnoaraoia [без-ипостасности], то есть о личностном или безличностном бытии
природы".
Возьмем полностью метафизический контекст. В нем различаются словесные, понятийные и реальные дистинкции; далее, в нем различаются большие и меньшие реальные дистинкции; меньшие реальные дистинкции разделяются на обычные и на аналогическую дистинкцию, которую находят в тайне Воплощения. Наконец, в этом контексте ищут несовершенного, но весьма плодотворного понимания тайны, рекомендованного Первым Ватиканским собором
(D53016).
Полностью метафизический контекст возникает только в поздней и вполне сознающей себя схоластике. Но в своей фундаментальной интенции и стиле схоластика представляла собой длящееся усилие, нацеленное на связное и упорядоченное усвоение христианской традиции. Огромные различия между двумя великими фигурами — Ан-сельмом Кентерберийским и Фомой Аквинским — были результатом полутора столетий непрерывного труда по собиранию и классификации данных, по их осмыслению в комментариях, по их «перевариванию» через формулирование вопросов и поиск решений, а также по обеспечению связности этого множества решений через обращение к аристотелевскому корпусу как субструктуре.
11 Недавнее оригинальное исследование: D.B. Evans, Leontius of Byzantium. An Origenist Christology, Dumbarton Oaks, 1970. Распространяется: JJ. Augustin, Publisher, Locust Valley, New York.


 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
Значительная часть этого труда выглядит как средневековое предвосхищение современной науки. То, что часто описывают как переход от имплицитного к эксплицитному, в действительности было переходом христианского сознания от менее к более дифференцированному состоянию. Это сознание дифференцировалось по здравому смыслу, по религии, по художественной и литературной культуре, а также по слабой дозе системного смысла, находимого в постановлениях греческих соборов. В средневековый период это сознание начало приобретать сильную дозу системного смысла: терминам давались определения, проблемы решались; то, что переживали и о чем говорили каким-то одним способом, теперь становилось предметом рефлектирующей мысли, которая реорганизовывала, исправляла, объясняла. Примерно в середине XII в. Петр Ломбардский разработал точный объяснительный смысл для старого и двусмысленного имени «таинство» и в свете этого смысла установил, что в христианской практике имеют место семь таинств. Традиционные учения о каждом из них были собраны, упорядочены, прояснены и представлены. Опять-таки, Средние века унаследовали от Августина идею божественной благодати и человеческой свободы. В течение долгого времени вряд ли можно было сказать, что существует хоть какая-то конечная вещь, которая не была бы свободным даром Бога. Хотя было очевидно, что слово «благодать» именует не что угодно, а нечто специальное, тем не менее, списки благодатей в собственном смысле не только отличались друг от друга, но и выдавали немалую произвольность. В то же время богословам было трудно выразить, чтб они подразумевают под свободой. Философы могли определить свободу как неподвластность необходимости; но теологи не могли мыслить свободу как свободу от необходимости благодати, или как благо без благодати, или даже как зло с благодатью. Но то, что мучило теологов XII в., было разрешено в веке XIII. Около 1230 г. Филипп Канцлер сделал открытие, которое в ближайшие сорок лет породило целый ряд новых богословских концепций. Открытие состояло в различении между двумя сущностно несоизмеримыми порядками: благодать стоит превыше природы, вера — превыше разума, милосердная любовь — превыше человеческой доброй воли, заслуга перед Богом — превыше доброго мнения ближнего. Это различение, эта иерархия сделали возможным (1) обсуждать природу благодати
ззб
ДОКТРИНЫ
отдельно от обсуждения свободы и (2) разработать тему отношений между благодатью и свободой12.
Я набросал то, что можно считать светлой стороной средневекового богословского развития. Теперь я должен ввести некоторые ограничения. Вряд ли можно сомневаться в том, что средневековым мыслителям необходимо было обратиться к внешним источникам в поисках системной субструктуры. Вряд ли можно сомневаться в том, что они не могли сделать ничего лучшего, чем обратиться к Аристотелю. Но сегодня совершенно очевидно, что Аристотель уже преодолен. Он блестяще представил раннюю стадию человеческого развития — возникновение системного смысла. Но он не предвидел позднейшего возникновения метода, имеющего дело с движущейся последовательностью систем. Он не предвидел позднейшего возникновения филологии, которая поставит себе целью историческую реконструкцию конструкций человечества. Он не сформулировал позднейшего идеала философии, одновременно критичной и мыслящей исторически, способной искоренить философские распри и заложить фундамент такого подхода, который включал бы в себя дифференциации человеческого сознания и эпохи человеческой истории.
Аристотель не просто был преодолен: выявились некоторые его дефекты. Во-первых, его идеал науки, выраженный в терминах необходимости, был отброшен не только естествознанием, но и математикой Нового времени. Во-вторых, в мышлении Аристотеля отчасти размываются границы между общими именами, идущими от здравого смысла, и техническими терминами, разработанными объяснительной наукой. Эти два дефекта, увеличенные во много раз, вновь дали о себе знать в схоластике XIV-XV вв. Чрезмерно жесткий идеал науки до некоторой степени объясняет сначала расцвет скептицизма, а затем наступление упадка. Размывание границ между общими
12 Об этом процессе см. мою работу: Grace and Freedom: Operative Grace in the Thought of St. Thomas Aquinas, London: Darton, Longman & Todd, and New York: Herder and Herder, 1971. Значение дистинкции, проведенной Филиппом, состояло в том, что два порядка позволили дать определение благодати и тем самым устранили более ранний, внешний взгляд, согласно которому благодать мыслилась как освобождение свободы.
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
именами и техническими терминами отчасти ответственно за верба-лизм, в котором столь сурово упрекали схоластику.
Церковные доктрины и богословские доктрины принадлежат к разным контекстам. Церковные доктрины — это содержание свидетельства Церкви о Христе; они выражают набор смыслов и ценностей, формирующих индивидуальную и коллективную жизнь христиан. Богословские доктрины — часть академической дисциплины, задача которой — узнать и понять христианскую традицию и развивать ее дальше. Глубоко различаясь своими конечными целями, эти два контекста неравны и своей широтой. Теологи поднимают много вопросов, о которых нет упоминания в церковных доктринах. Теологи также могут отличаться друг от друга, хотя принадлежат к одной и той же Церкви. Наконец, в католических кругах отношения богословских школ друг к другу и к церковным доктринам — это тщательно разграниченная территория. То, что называется теологическими примечаниями и церковными цензурами, не только разделяет вопросы веры и богословские мнения, но и указывает на целый спектр промежуточных позиций13.
С эпохи Средневековья и до Второго Ватиканского собора доктрины Католической Церкви принимали от теологии четкость, сжатость и стройность, которых не имели в более ранние времена. Вообще говоря, смысл этих доктрин — не системный, а, как правило, пост-системный. Смысл церковного документа нельзя вывести из знания теологии. В то же время любая точная интерпретация будет предполагать знание теологии. Но она будет также предполагать знание stylus curiae [стиля папского двора]. Наконец, эти предпосылки — необходимые, но не достаточные условия. Чтобы узнать, что в действительности означают церковные документы, в каждом случае требуются разыскание и экзегеза.
Читатели, несомненно, хотели бы найти здесь отчет о летигим-ности такого влияния теологии на доктрину Церкви. Но это, конечно, вопрос не методологический, а теологический. Что, однако, может сделать методолог, — так это указать на различные контексты, в которых могут подниматься подобные вопросы. Во-первых, еще
13 См. E.J. Fortman, «Notes, theological», New Catholic Encyclopedia 10, 523; и предметный указатель к DS, H'rf и Ifbb, pp. 848, 847.
ДОКТРИНЫ
до возникновения исторического мышления существовали альтернативные возможности анахронизма и архаизма. Анахронист приписывал Писанию и Отцам имплицитное понимание того, что было открыто схоластикой. Архаист, напротив, считал порчей любое учение, не представленное явным образом в Писании либо в Писании вкупе со святоотеческим преданием. Во-вторых, по мере возрастания исторического знания разрабатывались различные теории развития, применявшиеся с большим или меньшим успехом. Но есть и третья возможность: отстаивать ту позицию, что может существовать много разновидностей развития, и, чтобы узнать их, нужно изучать и анализировать конкретные исторические процессы. Для того же, чтобы установить их легитимность, нужно обратиться к эволюционной истории и указать им их место в диалектике присутствия и отсутствия интеллектуального, морального и религиозного обращения.
Но в этом пункте необходимо прервать наше схематичное описание длящегося открытия разума и ввести идею длящихся контекстов.
6. ДЛЯЩИЕСЯ КОНТЕКСТЫ
Мы уже провели различение между материальным и формальным контекстами. Так, канон Нового Завета представляет собой материальный контекст для любой из новозаветных книг: он говорит нам о том, какие другие высоко привилегированные области данных существуют в раннем христианстве. Формальный контекст, напротив, достигается через исследование: данные порождают вопросы, вопросы порождают противоположные ответы, противоположные ответы — дальнейшие вопросы, а они — дальнейшие противоположные ответы. Головоломка все усложняется, пока не будет совершено открытие. Постепенно элементы начинают складываться в картину. Возможен период быстро нарастающего инсайта. Со временем дальнейшие вопросы начинают вызывать повторяющиеся ответы, и движение идет по нисходящей. Достигается определенная точка зрения, и, хотя дальнейшие вопросы возможны, ответы на них больше не внесут существенных изменений в уже достоверно установленное. Так выстраивается формальный контекст: набор взаимосвязанных вопросов и ответов, который выявляет смысл текста.
Длящийся контекст возникает, когда последовательность текстов
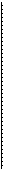

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
выражает разум отдельного исторического сообщества. Такой для- | щийся контекст заставляет провести различение между первичным и последующими контекстами. Так, некое утверждение может быть I нацелено на какой-то один вопрос и абстрагироваться от других, 1 дальнейших вопросов. Но решение одного вопроса не упраздняет I всех прочих: обычно оно требует их более ясного понимания и более j настоятельно побуждает к их решению. Согласно Афанасию, Ни-кейский собор употребил термин, отсутствовавший в Писании, не для того, чтобы установить прецедент, но чтобы удовлетворить насущную потребность. Однако насущная потребность продержалась примерно тридцать пять лет, и примерно через двадцать лет после того, как она была удовлетворена, Первый Константинопольский собор почувствовал необходимость дать не-технический ответ на вопрос, только ли Сын единосущен Отцу, или Святой Дух тоже. Еще через пятьдесят лет, в Эфесе, стало необходимо пояснить никейский термин заявлением о том, что Один и тот же был рожден от Отца и от Марии Девы. Еще через двадцать лет стало необходимо добавить, что Один и тот же может быть одновременно вечным и временным, бессмертным и смертным, потому что Он имеет в себе две природы. Двумя столетиями позже было добавлено еще одно пояснение: божественная личность, имеющая две природы, имеет также два действия и две воли.
Таков длящийся контекст церковных доктрин: он не существовал до Никеи, но мало-помалу обрел существование после нее. Он не утверждает того, что подразумевалось на Никейском соборе; он утверждает то, что возникло в его результате и что фактически стало контекстом, в котором следует понимать Никею.
Можно не только различить первичную и последующие стадии в длящемся контексте, но и соотнести один длящийся контекст с другим. Из этих отношений самыми распространенными будут деривация и взаимодействие. Так, контекст, длящийся от Никеи до Третьего Константинопольского собора, берет начало в доктринах первых трех веков христианства, но отличен от них постольку, поскольку использует пост-системный способ мышления и выражения. Со своей стороны, длящийся контекст соборных доктрин дал жизнь иному, однако зависимому от него контексту богословских доктрин. Этот контекст имел своей предпосылкой соборы; в нем было прове-
ДОКТРИНЫ
дено различение между Христом как Богом и Христом как человеком и сформулированы следующие вопросы: мог ли Христос-человек грешить? Испытывал ли Он вожделение? Был ли Он в каком-либо смысле несведущим? Имел ли Он освящающую благодать? В какой степени? Обладал ли Он непосредственным знанием Бога? Знал ли Он все, что относилось к Его миссии? Была ли у Него свобода выбора?
Со своей стороны, богословский контекст, производный от греческих соборов, получил продолжение в средневековых школах, чтобы встретиться здесь с Писанием и преданием в их целостности. Он был контекстом не только длящимся, совместным и методичным, но и диалектичным. Это был контекст, который включал в себя взаимно противоположные школы мысли, который сумел различить противоположности в богословской доктрине и в доктрине Церкви и, допуская расхождения в первом случае, отвергал их во втором.
Наконец, взаимодействующие контексты представлены контекстами богословских доктрин и церковных доктрин в период от Средневековья до Второго Ватиканского собора. Теологи находились под влиянием церковных доктрин, над которыми они размышляли. Со своей стороны, церковные доктрины без теологов не достигли бы свойственной им пост-системной точности, сжатости и стройности.
7. ДЛЯЩЕЕСЯ ОТКРЫТИЕ РАЗУМА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Решение Средних веков обратиться к аристотелевскому корпусу как субструктуре повлекло за собой интеграцию теологии с философией и с детальным описанием материальной вселенной. Эта интеграция имела то преимущество, что предлагала целостное мировоззрение; но ни классицистская культура, ни аристотелевская мысль не учили тому принципу, что целостное мировоззрение подвержено заметным изменениям.
В течение столетий христианство черпало представления о самом себе и своем мире из первых глав Книги Бытия, из иудейской апо-калиптики и птолемеевской астрономии, а также из теологических учений о сотворении мира и бессмертии индивидуальной человеческой души. Это представление было поколеблено новыми научными традициями, восходящими к Копернику, Ньютону, Дарвину, Фрей-

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
ду, Гейзенбергу. Великой заслугой Тейяра де Шардена было признание того факта, что христианин испытывает потребность в связном представлении о самом себе в своем мире, и существенный вклад в удовлетворение этой потребности.
Некогда считалось, что наука — это достоверное знание вещей через их причины. Слишком часто клирики исходили из той предпосылки, что эта дефиниция приложима к современной науке. Но современная наука не достоверна, а вероятностна. Она имеет дело не столько с вещами, сколько с данными. Она говорит о причинах, но имеет в виду соотношения, а не конечную цель, деятеля, материю или форму.
Некогда считалось, что наука занимается всеобщим и необходимым. Сегодня в математике необходимость — маргинальное понятие: в самом деле, выводы следуют из посылок с необходимостью, но базовые предпосылки представляют собой свободно выбранные постулаты, а не необходимые истины. В первые десятилетия XX в. ученые говорили о необходимых законах природы и даже о железных законах экономики. Кантовая теория и экономическая теория Кейн-са положили этому конец.
Ученость некогда считала своей целью овладение гуманистическим красноречием. Но филология начала XIX в. поставила себе задачу реконструкции конструкций человечества. Ее первые успехи были достигнуты в области классических штудий и европейской истории; однако с тех пор она давно уже освоилась в сфере библейских, патриотических, средневековых исследований. Ее труды имеют специализированный, совместный, прогрессирующий, обширный характер. То, что прежде относили к компетенции отдельного догматического теолога, теперь может изучаться лишь весьма многочисленной командой.
Было время, когда необходимые начала признавались базисом философии, и эти начала отождествлялись с самоочевидными пропозициями, которые служили базовыми предпосылками философских дедукций. Так вот, это верно, что существуют аналитические пропозиции: если определить А через обладание отношением RkB, то не может существовать А без отношения R к В. Но равно верно и то, что нет никакой необходимости в существовании А, вкупе с его отношением RkB. Ибо конечное существование познается не через
ДОКТРИНЫ
определение терминов и не через построение аналитических пропозиций, а через процесс, именуемый верификацией.
Аристотель и его последователи разделяли науки на специальные, имеющие дело с сущими определенного рода, и на общие, имеющие дело с сущим как таковым. Сегодня все естественные и гуманитарные науки нацелены на то, чтобы давать отчет о чувственных данных. Соответственно, если должна существовать какая-либо общая наука, то ее данные должны быть данными сознания. Так совершился поворот к интериорности. Общая наука — это, во-первых, когнитивная теория (что мы делаем, когда познаём?), во-вторых, эпистемология (почему мы познаём?), и, в-третьих, метафизика (чтб мы познаём, когда познаем?). Такая общая наука будет общим случаем метода, а вовсе не содержания специальных наук, в отличие от того, как это было в аристотелизме.
Указанный поворот к интериорности пытались осуществить разными способами, от Декарта до Канта и до немецких идеалистов XIX в. Но затем последовал еще более показательный сдвиг — от познания к вере, воле, сознанию, решению, действию: у Кьеркегора, Шопенгауэра, Ньюмена, Ницше, Блонделя, персоналистов и экзистенциалистов. Направление этого сдвига правильно в том смысле, что четвертый уровень интенционального сознания — уровень обдумывания, оценки, решения, действия —возводит на новую ступень предшествующие уровни — переживания, понимания, суждения. Он простирается дальше них, утверждает новый принцип и тип операций, направляет их к новой цели, но не только не умаляет предшествовавшие уровни, но и сохраняет их все и приводит к более полному расцвету.
Четвертый уровень не только возводит на новую ступень предшествующие три; первые три уровня также заметно отличаются от умозрительного интеллекта, который, как предполагается, призван схватывать самоочевидные и необходимые истины. Такой умозрительный интеллект мог притязать и действительно притязал на полную автономию: злая воля вряд ли могла примешаться к постижению самоочевидной и необходимой истины или к необходимым выводам, следующим из этой истины. В действительности же то, чтб человеческий интеллект схватывает в данных и выражает в понятиях, есть не необходимо, а лишь возможно релевантная интеллигибельность. Эта


 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
интеллигибельность внутренне гипотетична и потому всегда нуждается в дальнейшей проверке и верификации, прежде чем можно будет утверждать, что она de facto релевантна наличным данным. Так что современная наука находится под водительством метода, причем отобранный метод, которому затем следуют, оказывается результатом не только переживания, понимания и суждения, но и решения.
Я суммарно указал на ряд фундаментальных изменений, которые произошли за последние четыре с половиной столетия. Они изменили представление человека о самом себе в своем мире, его науку и концепцию науки, его философию и концепцию философии. Они затронули три базовые дифференциации сознания, и все три лежат далеко за пределами горизонта древней Греции и средневековой Европы.
Эти изменения обычно встречали сопротивление клириков по двум причинам. Первая причина — в том, что клирики, как правило, в действительности не понимали их природы. Вторая причина — в том, что эти изменения, как правило, сопровождались отсутствием интеллектуального обращения, а потому были враждебны христианству.
Наука Нового времени — одно дело, а вненаучные мнения ученых — другое. Среди вненаучных мнений ученых вплоть до принятия квантовой теории царил механистический детерминизм, который неверно представлял природу, а также исключал свободу и ответственность человека14.
Новая история — одно дело, а философские допущения историков — другое. Х.Г. Гадамер рассмотрел допущения Шлейермахера, Ранке, Дройзена и Дильтея15. В более общем виде Курт Фрёр констатировал, что работа историков в первой половине XIX в. была отмечена смешением философского умозрения и эмпирического разыскания, и что устранение умозрения во второй половине XIX в. было делом еще более влиятельной философии — позитивизма16. Возник-
ДОКТРИНЫ
ший в результате историцизм проник в библейские штудии, где ответной реакцией на него стало творчество Карла Барта и Рудольфа Бультмана. Оба признавали значение морального и религиозного обращения. У Барта это выразилось в отстаивании того тезиса, что, хотя Библию можно читать исторически, ее также следует читать религиозно, а религиозное чтение — это вопрос не только набожных чувств читателя: он должен также внимать реальностям, о которых говорится в Библии17. У Бультмана, с другой стороны, религиозное и моральное обращение представляет собой экзистентный (existenzielf) ответ на зов и вызов керигмы. Но такой ответ есть субъективное событие, объективация которого рождает миф18. Хотя Бультман вообще-то не позитивист, ибо знает, что такое verstehen [понимать], тем не менее, с его точки зрения, библейские штудии распадаются на две части: есть научная часть, не зависимая от религиозной веры; и есть религиозная часть, проникающая под слой библейских мифических объективации к субъективным религиозным событиям, о которых она свидетельствует.
Как у Барта, так и у Бультмана, хотя и по-разному, обнаруживает себя нужда в интеллектуальном, моральном и религиозном обращении. Только интеллектуальное обращение способно исцелить фидеизм Барта. Только интеллектуальное обращение способно вытеснить секулярную идею научной экзегезы, представляемую Бультманом. Но самого по себе интеллектуального обращения недостаточно: оно должно эксплицитно выразиться в философском и богословском методе, причем метод должен включить в себя критику метода науки и, равным образом, критику метода учености.
8. РАЗВИТИЕ ДОКТРИН
Я уже высказывал ту мысль, что доктрины развиваются не каким-то одним способом и даже не каким-то ограниченным набором способов. Другими словами, интеллигибельность, свойственная развитию доктрин, есть интеллигибельность, имманентная историческому
4 О философской позиции ученых, пришедшей на смену механистическому детерминизму, см. Р.А. Heelan, Quantum Theory and Objectivity, The Hague: Nijhoff, 1965.
15 H.G. Gadamer, Wahrheit und Methode, Tubingen: Mohr, 1960, SS. 162 ff.
16 K. Fror, Biblische Hermeneutik, Munchen: Kaiser, 1964, S. 28.
17 Ibid., SS. 31 ff.
18 Ibid., SS. 34 ff. О дуализме бультмановской экзегезы см. Paul Minear, «The
Transcendence of God and Biblical Hermeneutics», Proceedings of the Catholic Theo
logical Society of America, 23 (1968), 5 f.

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
процессу. Нам это известно не из априорного теоретизирования, а из апостериорного разыскания, интерпретации, истории, диалектики, а также решения относительно фундирования.
Один набор способов, каким развиваются доктрины, я назвал длящимся открытием разума. Когда сознание выстраивает свой мир символически, оно движется вперед через реинтерпретацию традиционного материала. Когда оно склоняется к философии, то какой-нибудь Ксенофан или Климент Александрийский устраняют антропоморфизм из человеческого постижения божественного. Возникающее в результате чисто духовное постижение Бога создает напряжение между библейской и позднейшей христологией, а технические средства, доступные в пост-системной культуре, могут быть направлены на прояснение веры. Использование таких технических средств открывает двери теологии, в которой системный смысл становится преобладающим. В свою очередь, эта теология способна придать церковным доктринам четкость, сжатость и стройность, которых они в противном случае не имели бы. Наконец, эта общая вовлеченность в систематику может быть подсечена методологической, ученой и нововременной философской дифференциациями сознания, что поставило бы Церковь перед дилеммой: обратиться к доникейской христологии или продвигаться к сугубо современной позиции.
Однако этот набор способов, при всем том, что он затрагивает немалую часть доктринального развития, еще не рассказывает нам всей истории. Довольно часто развитие имеет диалектический характер. Истина открывается благодаря тому, что было выявлено противоположное ей заблуждение.
Опять-таки, доктрины — не просто доктрины. Они конститутивны как для отдельного христианина, так и для христианской общины. Они могут укреплять верность или обременять индивида. Они могут объединять или разъединять. Они могут наделять авторитетом и властью. Они могут ассоциироваться с тем, что близко, или тем, что чуждо данной цивилизации или культуре. Развитие совершается не в пустоте чистого духа, а в конкретных исторических условиях и обстоятельствах, и знание этих условий и обстоятельств значимо для эволюционной истории, которая и принимает решение относительно легитимности видов развития.
ДОКТРИНЫ
Завершая этот краткий раздел, отмечу позицию проф. Гайзель-мана, согласно которой догматы о Непорочном Зачатии и Вознесении Богородицы отличаются от догматов, сформулированных вселенскими соборами. Последние урегулировали спорные вопросы, первые же просто повторили то, чему уже учила и что прославляла вся Католическая Церковь. Соответственно, Гайзельман называет их «культовыми»19. Их единственным следствием стало торжественное провозглашение официальным учительством того, что прежде провозглашалось ординарным учительством. Я бы предположил, что человеческая психология, и особенно достижение тонкости чувствований, — та область, которая нуждается в исследовании для понимания развития мариологических доктрин.
9. ПЕРМАНЕНТНОСТЬ ДОГМАТОВ
О перманентном характере смысла догматов учила догматическая конституция Dei Filius, обнародованная Первым Ватиканским собором. Об этом идет речь в последнем параграфе последней главы декрета (DS 3020) и в добавочном каноне (DS 3043). Чтб имеется в виду, предполагается, подразумевается в утверждении о перманентном смысле, становится ясным из рассмотрения самой конституции.
К четвертой и заключительной главе были добавлены три канона. Они показывают, что острие этой главы было направлено против рационализма, который считал тайны несуществующими, требовал доказательства догматов, отстаивал научные выводы, противоположные церковным доктринам, заявлял, что у Церкви нет права высказывать суждения о научных точках зрения, и приписывал науке компетентность в вопросе реинтерпретации церковных догматов (DS 3041-3043).
Выступая против рационализма, собор различил: (1) естественный свет разума, (2) веру, (3) разум, просвещенный верой, и (4) разум, оперирующий за пределами своей компетенции. Следует кратко высказаться по каждому пункту.
Итак, разум, или естественный свет разума, удерживает в своем поле действия широкий спектр объектов (DS 3015). Он способен до-
19 J.R. Geiselmann. «Dogma», Handbuch theologischer Grundbegriffe, hrsg. H. Fies, Munchen: Kosel, 1962,1, 231.

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
стоверно знать о существовании Бога (DS 3004) и способен знать некоторые, хотя и не все, открытые Богом истины (7)53005, 3015). Он должен принимать божественное откровение (DS 3009), и это принятие находится в согласии с его природой (DS 3009). Церковь никоим образом не запрещает человеческим дисциплинам пользоваться их собственными принципами и методами в рамках их собственных областей (DS 3019).
Вера есть сверхъестественная добродетель, посредством которой мы верим в истинность того, что Бог сообщил нам в откровении: верим не потому, что постигаем внутреннюю истину содержания откровения, а по причине авторитетности открывшего ее Бога, который не может ни обманывать, ни быть обманутым (DS 3008). Верой, которая одновременно божественна и кафолична, следует верить во все, что было открыто Богом в Писании или Предании, а также во что как в откровение было предложено верить либо в торжественном провозглашении со стороны Церкви, либо в ходе ее ординарного и универсального учительства (DS 3011). Среди главных объектов веры — тайны, сокрытые в Боге, которые, не будучи сообщены в откровении, не были бы нам известны (DS 3015, ср. 3005).
Разум, просвещенный верой, если он вопрошает усердно, благочестиво и трезво, достигает с помощью Божьей исключительно плодотворного понимания тайн. Такое понимание опирается на аналогию с вещами, которые познаются естественным образом, и на взаимосвязь тайн друг с другом и с конечной целью человека. Но разум никогда не сможет постигнуть их тем способом, каким он понимает истины, лежащие внутри его собственного поля действия. Ибо тайны Божьи по самой своей природе настолько превосходят тварный интеллект, что, даже будучи даны в откровении и приняты верой, они остаются как бы укрытыми покровом веры (DS 3016).
Видимо, именно понимание, достигаемое разумом, когда он просвещен верой, прославляется в цитате из Винсента Леринского. Ибо такое понимание есть понимание тайны, а не чего-то, что замещает ее у людей. Следовательно, по самой своей природе это понимание должно пребывать «in suo dumtaxat genere, in eodem scilicet dogmate, eodem sensu eamdem sententia» [«только в своем роде, то есть в одном и том же учении, в одном и том же смысле и в одном и том же речении»] (DS 3020).
ДОКТРИНЫ
Напротив, есть разум, который выходит за свои собственные границы, чтобы вторгнуться в пределы веры и возмутить ее (DS 3019). В самом деле, доктрина веры, сообщенная в откровении Богом, была дана не как своего рода философское открытие, чтобы его совершенствовал человеческий талант. Это — приданое, врученное Богом невесте Христовой на бережное хранение и объявленное непогрешимым. Поэтому смысл священного вероучения, однажды провозглашенный Церковью, должен сохраняться неизменным. От него нельзя отступать под предлогом его более глубокого понимания (DS 3020).
В соответствующем каноне осуждается всякий, кто утверждает, что со временем, по мере прогресса науки, провозглашенным Церковью догматам может быть придан другой смысл, нежели тот, который разумеет и разумела Церковь (DS 3043).
Итак, во-первых, утверждается перманентность смысла: «is sensus perpetuo est retinendus... пес umquam ab eo recedendum... in eodem scilicet dogmate, eodem sensu eademque sententia» («Этого смысла надлежит придерживаться навеки... и никогда не отступать от него., в одном и том же учении, в одном и том же смысле и в одном и том же речении», DS 3020); «...пе sensus tribuendus sit alius...» («...и не дблжно приписывать другой смысл...», DS 3043).
Во-вторых, перманентный смысл — это смысл, провозглашенный Церковью (DS 3020), смысл, который разумела и разумеет Церковь (DS 3043).
В-третьих, этот перманентный смысл есть смысл догматов (DS 3020, 3043). Но являются ли догматы богооткровенными истинами или богооткровенными тайнами? Различие в том, что богооткровен-ные тайны лежат вне компетенции разума, тогда как некоторые бо-гооткровенные истины — вовсе нет (DS 3005, 3015).
Видимо, догматы, о которых говорится в DS 3020 и 3043, относятся к провозглашенным Церковью богооткровенным тайнам. В самом деле, четвертая глава вновь и вновь противопоставляет друг другу разум и веру. Только в первом параграфе (DS 3015) упоминаются истины, которые одновременно являются истинами разума и веры. Человеческие дисциплины не должны выходить за собственные границы, когда они имеют дело с такими истинами (DS 3019). Нельзя также отрицать за этими истинами статус философского открытия, которое совершенствуется человеческим талантом (DS 3020). Опять-таки,

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
создается впечатление, что истины, лежащие в пределах компетенции разума, могут познаваться более точно по мере прогресса науки (D53043). Наконец, возможности человеческого разума превосходят только богооткровенные тайны (DS 3005), которые превыше тварно-го интеллекта (DS 3016), принимаются просто в силу божественного авторитета (DS 3008), не могут быть познаны, пока не будут сообщены в откровении (DS 3015), допускают лишь аналогическое и несовершенное понимание человеческим разумом, причем лишь при условии его просвещения верой (DS 3016), и, соответственно, могут притязать на статус, превышающий статус продуктов человеческой истории.
В-четвертых, смысл догмата неотделим от словесной формулировки, ибо это смысл, провозглашенный Церковью. Тем не менее, перманентность связывается со смыслом, а не с формулой. Сохранять старую формулу, но придавать ей новый смысл есть именно то, что исключается третьим каноном (DS 3044).
В-пятых, лучше, видимо, говорить о перманентности смысла догматов, чем о его неизменности. Ибо перманентность есть смысл, которого «perpetuo retinendus... numquam recedendum... (пе) sensus tribuendus sitalius» [«надлежит придерживаться навеки... и никогда не отступать от него... и не должно приписывать другой смысл...»]. Опять-таки, не столько неизменность, сколько перманентность имеется в виду, когда выражается пожелание все лучше понимать то же учение, тот же смысл, то же речение.
В завершение скажем: есть два основания, чтобы утверждать перманентность смысла богооткровенных тайн. Одно — это causa cognoscendi [причина познания]: истинно то, что Бог открыл, а Церковь непогрешимо провозгласила истинным. Что истинно, то перманентно: смысл, присущий истинному в его собственном контексте, никогда не может быть истинно отрицаем.
Второе — это causa essendi [причина бытия]. Смысл догмата — не набор данных, а истина. Это не человеческая истина, а откровение тайны, сокрытой в Боге. Кто воображает, будто человеку доступна очевидность, позволяющая ему заменять богооткровенный смысл другим, тот отрицает трансцендентность Бога.
Такова, как представляется, доктрина Первого Ватиканского собора о перманентности смысла догматов. Она предполагает, (1) что
35O
ДОКТРИНЫ
существуют тайны, сокрытые в Боге, которые человек познаёт, только если они сообщены в откровении; (2) что они были сообщены в откровении, (3) и что Церковь непогрешимо провозгласила смысл сообщенного в откровении. Эти предпосылки тоже суть церковные доктрины. Их изложение и защита — задача не методолога, а теолога.
10. ИСТОРИЧНОСТЬ ДОГМАТОВ
Конституция Dei Filius положила начало двум течениям в католической мысли XIX в. К одному принадлежали традиционалисты, которые слабо верили в человеческих разум, к другому — полурационалисты, которые, не отрицая истин веры, стремились ввести их в рамки компетенции разума. В числе последних — Антон Гюнтер, чьи умозрения привлекли множество последователей, но были отвергнуты Святым Престолом (DS 2828 ff.), и Якоб Фрошаммер, чьи взгляды на человеческую способность к совершенствованию оказались равно неприемлемыми (DS 2850 ff.; ср. 2908 f.). Против подобных взглядов позднее выступил кардинал Францелин в votum'e, представленном подготовительному комитету собора20, и в схеме, предложенной для обсуждения в первые же дни работы Первого Ватиканского собора21. Но здесь мы должны повторить о Первом Ватиканском соборе то, что было ранее сказано о Никее: утверждения собора лежат не только внутри контекста, предшествовавшего контексту мысли 1870 г., но и внутри последующего контекста, сосредоточенного на вопросах, от которых, на мой взгляд, Первый Ватиканский собор был склонен абстрагироваться. В самом деле, Гюнтер и Фрошаммер разными способами озаботились историчностью, и, в частности, историчностью церковных доктрин. Первый Ватиканский собор ограничился тем, что обратил внимание на один — неприемлемый — аспект в их воззрениях. Но собор не попытался рассмотреть стоящий за ними во-
го Этот votum был опубликован в работе: Hermann J. Pottmeyer, Der Glaube vor dem Anspruch der Wissenschaft, Freiburg: Herder, 1968. См. Приложение, особенно SS. 50*, 51*, 54*, 55*. См. ценное обсуждение DS 3020 и 3043, SS. 431-456.
21 См. chap. 5, 6, 11, 12, 14 схемы Францелина в работе: J.D. Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova etAmplissima Collectio, 50, 62-69, и обширные примечания Манси 50, 83 ff.


 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
прос об историчности догмата, который с этого времени выдвинулся на первый план. Стало быть, мы должны спросить, возможно ли согласовать доктрину Первого Ватиканского собора о перманентности смысла догматов с историчностью, характерной для человеческой мысли и действия.
Коротко говоря, теоретические предпосылки, из которых следует историчность человеческой мысли и действия, таковы: (1) человеческие понятия, теории, утверждения, поступки суть выражения человеческого понимания; (2) человеческое понимание развивается на протяжении времени, и по мере его развития человеческие понятия, теории, утверждения, поступки изменяются; (3) кумулятивные изменения в одном месте или времени не обязательно должны совпадать с кумулятивными изменениями в другом месте или времени.
Существует, однако, заметное различие между более полным пониманием данных и более полным пониманием истины. Когда более полно понимаются данные, в результате появляется новая теория, а предыдущие теории отбрасываются. Так совершается прогресс в эмпирических науках. Но когда более полно понимается истина, она остается все той же истиной, которая была предметом понимания. Это верно, что два плюс два — четыре. Эта истина познается, как та же самая, в совершенно разных контекстах, — например, древними вавилонянами, греками, современными математиками. Но современными математиками она понимается лучше, чем понималась греками, а греческими мыслителями, судя по всему, понималась лучше, чем вавилонянами.
Итак, догматы обладают перманентным смыслом потому, что они — не просто данные, но выражения истин, более того, истин, которые, не будь они сообщены в откровении Богом, остались бы неизвестными человеку. После того, как они были сообщены в откровении и стали предметом веры, они могут пониматься все лучше и лучше. Но это будет все лучшее понимание все той же богооткро-венной истины, а не чего-то еще.
И это не противоречит историчности догматов. В самом деле, догматы — это утверждения. Утверждения имеют смысл только в своих контекстах. Контексты имеют длящийся характер, а длящиеся контексты соотносятся между собой главным образом путем деривации и взаимодействия. Истины могут быть открыты в одной культу-
ДОКТРИНЫ
ре, а проповедуемы в другой. Они могут быть открыты в стиле и по способу одной дифференциации сознания, определены Церковью в стиле и по способу другой дифференциации, а поняты теологами в стиле и по способу третьей. Что остается перманентно истинным, так это смысл догмата в контексте, где он был определен. Чтобы обеспечить этот смысл, должны быть задействованы ресурсы разыскания, интерпретации, истории, диалектики. Чтобы сформулировать этот смысл сегодня, продвигаются через фундирование, доктрины и систематику к коммуникациям. Коммуникация в итоге обращена к любому классу в любой культуре и в любой из дифференциаций сознания.
Перманентность догматов, стало быть, проистекает из того факта, что они выражают богооткровенные тайны. С другой стороны, их историчность проистекает из того факта, что (1) утверждения имеют смысл только в своих контекстах, и (2) контексты являются длящимися, а длящиеся контексты — множественными.
Историчности догматов противостоит не их перманентность, а классицистские исходные допущения и выводы. Классицизм исходил из того, что культуру надлежит мыслить не эмпирически, а нормативно, и сделал все, что в его силах, для создания единой, универсальной, перманентной культуры. Что положило конец исходным допущениям классицизма, так это критическая история. Что наводит мосты между множеством выражений веры, так это методологическая теология.
11. ПЛЮРАЛИЗМ И ЕДИНСТВО ВЕРЫ
У плюрализма есть три источника. Во-первых, языковые, социальные и культурные различия порождают разные ответвления здравого смысла. Во-вторых, сознание может быть недифференцированным, а может быть дифференцированным и способным оперировать на экспертном уровне в тех или иных комбинациях таких областей, как здравый смысл, трансценденция, красота, система, метод, ученость и философская интериорность. В-третьих, для любого индивида в любой данный момент времени существует абстрактная возможность интеллектуального, морального или религиозного обращения, а также его осуществление на начальной, более или менее продвинутой или высокоразвитой стадии.

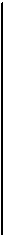
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
Есть два способа мыслить единство веры. С позиций классицизма, существует только одна культура. Эта единственная культура не достижима для простого верующего, народа, аборигенов, варваров. Тем не менее, таланту всегда путь открыт. Человек вступает на этот путь, усердно изучая латинских и греческих авторов. Он продолжает этот путь, изучая схоластическую философию и теологию. Он достигает высоких степеней, становясь знатоком канонического права. Он добивается успеха, завоевывая одобрение и благоволение порядочных людей. Внутри такой структуры единство веры есть вопрос единодушного признания правильной формулы.
Но подобный классицизм — не более чем обветшалая скорлупа католицизма. Реальные корни и основания единства — в том, чтобы пребывать в любви с Богом: то, что «любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим 5, 5). Принятие этого дара конституирует религиозное обращение и в то же время ведет к обращению моральному и даже интеллектуальному.
Далее, религиозное обращение, когда речь идет о христианстве, есть не просто состояние ума и сердца. Для него сущностно важен интерсубъективный, межличностный компонент. Помимо внутреннего дара Духа, есть еще внешняя встреча с христианским свидетельством. Оно свидетельствует о том, что «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне» (Евр 1, 1-2).
Далее, функция церковных доктрин есть часть функции христианского свидетельства. Ибо свидетельство — это свидетельство о тайнах, открытых Богом и, по убеждению католиков, непогрешимо провозглашенных Церковью. Смысл подобных провозглашений лежит по ту сторону превратностей человеческого исторического процесса. Но контексты, в которых схватывается этот смысл, а также манера выражения этого смысла варьируются в зависимости от культурных различий и в зависимости от степени дифференциации человеческого сознания.
Такие вариации нам известны из прошлого. Согласно Второму Ватиканскому собору, откровение осуществилось не через одни лишь слова, но через слова и дела22. Апостольская проповедь была
" Второй Ватиканский собор, Догматическая конституция о Божественном Откровении, I, 2.
ДОКТРИНЫ
адресована не только евреям в мыслеформах Spatjudentum [позднего иудаизма], но и грекам, на их языке и в их манере выражения. Если новозаветные авторы обращаются больше к сердцу, чем к разуму, то христологические соборы считали своей единственной целью сформулировать истины, способные направлять разум и уста человека. Когда схоластическая теология переплавила христианскую веру в форму, восходящую к Аристотелю, она не изменила ни божественному откровению, ни Писанию, ни соборам. И если бы современные теологи перелагали средневековую теорию в категории, заимствованные из современной интериорности и ее реальных коррелятов, они бы сделали для нашего века то, что величайшие схоласты сделали для своего.
Итак, в прошлом существовал явный плюрализм выражения. В настоящее время из Церкви постепенно уходит старый классицист-ский упор на всемирное единообразие, и возникает плюрализм способов сообщения христианского смысла и христианских ценностей. Проповедовать Евангелие всем народам означает проповедовать его любому классу в любой культуре и тем способом, который совместим с усваивающими возможностями этого класса и этой культуры.
Большей частью эта проповедь обращается к слабо дифференцированному сознанию. Поэтому она должна быть столь же многообразной, сколь многообразны ответвления здравого смысла, порожденного множеством языков, социальных форм, культурных смыслов и ценностей человечества. В каждом случае проповедник должен знать то ответвление здравого смысла, к которому он обращается, и непрестанно держать в уме, что, когда сознание лишь в слабой степени дифференцировано, познание неотделимо от действования.
Но если надлежит вскармливать веру в малообразованных людях, отсюда не следует, что образованными можно пренебречь. Точно так же, как единственный путь к пониманию чужой разновидности здравого смысла состоит в том, чтобы понять, каким образом он или она понимает, говорит, действует в любой ситуации, обычно порождаемой его или ее опытом, — точно так же единственный путь к пониманию чужой дифференциации сознания состоит в том, чтобы реализовать эту дифференциацию в себе самом.
Далее, точное схватывание чужой ментальное™ возможно только при условии, что человек достигнет той же дифференциации или


 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
отсутствия дифференциации. В самом деле, любая дифференциация сознания включает в себя определенное переоформление здравого смысла. Изначально здравый смысл мнит себя всезнающим, потому что он просто не в силах знать лучше. Но по мере последующего дифференцирования сознания все большее количество областей подпадает под надлежащий контроль и, таким образом, выходит из сферы компетенции здравого смысла. Ясность и адекватность растут скачкообразно. Изначальный здравый смысл очищается от своих упрощений, метафор, мифов и мистификаций. С достижением полной дифференциации здравый смысл ограничивается исключительно своей собственной областью непосредственного, частного, конкретного.
Однако есть много путей к такому полному достижению, и много разновидностей частичного достижения. Проповедовать Евангелие всем означает проповедовать его способом, соответствующим каждой из разновидностей частичного достижения и, не в меньшей степени, соответствующим полному достижению. Именно потому, что Климент Александрийский отвечал требованиям начальной стадии системного смысла, он отрицал, что антропоморфизм Писания нужно понимать буквально. Именно потому, что средневековая схоластика отвечала требованиям полного системного смысла, она стремилась дать последовательный отчет обо всех истинах веры и разума. Именно потому, что Второй Ватиканский собор отвечал требованиям современной учености, он постановил, что интерпретатор Писания должен определить смысл, интендированный библейским автором, причем должен это сделать через понимание литературных конвенций и культурных условий, характерных для места и времени жизни этого автора.
Так Церковь, следуя примеру св. Павла, становится всем для всех. Она сообщает, что божественное откровение было дано способом, соответствующим различным дифференциациям сознания, и, прежде всего, способом, соответствующим каждому из почти бесчисленных ответвлений здравого смысла. Но это множество модусов речи ограничивается плюрализмом способов коммуникации, так как, несмотря на их множественность, все они пребывают «in eodem... dogmate, eodem sensu eamdem sententia» [«в одном и том же учении, в одном и том же смысле и в одном и том же речении»].
356
ДОКТРИНЫ
Но становиться всем для всех, пусть даже это затрагивает лишь плюрализм коммуникаций, не так легко. С одной стороны, это требует многостороннего развития от тех, кто правит или учит. С другой стороны, любое достижение может быть оспорено теми, кто потерпел в нем неудачу. Люди, не имеющие представления о современной учености, могут настаивать на том, что уделять внимание литературным жанрам библейских текстов означает применять жульнические методы, чтобы отвергнуть буквальный смысл Писания. Люди, лишенные вкуса к системному смыслу, могут твердить, что лучше чувствовать раскаяние, чем искать ему дефиницию, даже если те, кто пытается дать дефиницию, повторяют, что вряд ли они смогли бы определить то, чего не испытали. Наконец, люди, чье сознание вовсе лишено каких бы то ни было признаков системности, могут быть не способны схватить смысл таких догматов, как Никейский догмат, и легко прийти к выводу, что бессмысленное для них бессмысленно само по себе.
Эти трудности наводят на мысль о некоторых правилах. Во-первых, так как Евангелие должно проповедоваться всем, нужно найти способы представления и выражения, подходящие для сообщения богооткровенной истины любому ответвлению здравого смысла и любой дифференциации сознания. Во-вторых, никто не обязан исключительно ради веры достигать более полной дифференциации сознания. В-третьих, никто не обязан исключительно ради веры удерживаться от достижения более полной дифференциации сознания. В-четвертых, любой может пытаться выразить свою веру способом, соответствующим его дифференциации сознания. В-пятых, никто не должен высказывать суждения о предметах, которых не понимает; а никто из обладающих менее или иначе дифференцированным сознанием не способен точно понимать то, что высказывается лицом с более полно дифференцированным сознанием.
Такой плюрализм не будет особо привлекательным для лиц, склонных к чрезмерным упрощениям. Но реальная угроза единству веры заключается не во множестве ответвлений здравого смысла и не во множестве дифференциаций человеческого сознания. Она заключается в отсутствии интеллектуального, морального или религиозного обращения. Плюрализм, проистекающий из отсутствия обращения, особенно опасен в трех случаях. Во-первых, когда отсутствие
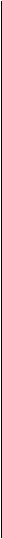 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
обращения свойственно тем, кто управляет Церковью или учит от ее имени. Во-вторых, когда, как в настоящее время, в Церкви совершается переход от классицистской культуры к современной. В-третьих, когда лица с частично дифференцированным сознанием не только не понимают друг друга, но и настолько превозносят систему, или метод, или ученость, или интериорность, или несколько более продвинутую молитву, что пренебрегают достижениями в остальных четырех специализациях и блокируют их развитие.
12. АВТОНОМИЯ ТЕОЛОГИИ
То, что Карл Ранер называл Denzingertheologie [теологией в стиле Денцингера], Пьер Шарль из Лувена позднее назвал христианским позитивизмом. В нем функция теолога усматривается в том, чтобы пропагандировать церковные доктрины. Теолог выполняет свой долг, когда повторяет, разъясняет, защищает то, что сказано в церковных документах. Он не вносит никакого собственного вклада, и, таким образом, для него не существует вопроса о том, обладает ли он при этом какой-либо автономией.
Так вот, это верно, конечно, что теология не является ни источником божественного откровения, ни добавлением к боговдохно-венному Писанию, ни авторитетом, провозглашающим церковные доктрины. Верно и то, что христианский теолог должен быть подлинным человеком и подлинным христианином, а значит, должен быть безупречным в своем принятии откровения, Писания и церковной доктрины. Но из этих предпосылок еще не следует, что теолог — просто попугай, всего лишь повторяющий уже сказанное.
Из истории теологии явствует, что теологи рассматривают много вопросов, которых не рассматривают церковные доктрины, и что они первыми формулировали богословские учения, которые, особенно в Католической Церкви, послужили фундаментом и отчасти содержательным материалом для последующих церковных доктрин. Это настолько верно, что в главе «Функциональные специализации» мы провели различение между религией и рефлексией над религией, отождествив такую рефлексию с теологией. Мы обнаружили, что теология настолько высоко специализирована, что, помимо специализаций по полю и по предмету и наряду с ними, в ней различаются восемь специализаций по функции.
ДОКТРИНЫ
Таким образом, теологу есть что привнести. Следовательно, он обладает известной автономией, ибо в противном случае не смог бы внести собственного вклада. Более того, в рамках представленного здесь богословского метода разработан критерий, призванный направлять теолога в осуществлении его автономии. В самом деле, функциональная специализация «диалектика» собирает, классифицирует, анализирует конфликтные точки зрения экспертов, историков, интерпретаторов, разыскателей. Функциональная специализация «фундирование» определяет, чьи точки зрения суть позиции, восходящие к интеллектуальному, моральному и религиозному обращению, а чьи — контрпозиции, выдающие отсутствие обращения. Другими словами, каждый теолог будет судить о подлинности авторов точек зрения, причем проверять их будет на пробном камне собственной подлинности. Это, конечно, весьма далеко от безошибочного метода. Но в тенденции это позволит собрать вместе подлинных людей; это также позволит, в тенденции, собрать вместе неподлинных людей и по-настоящему выявить их неподлинность. Противоположность между теми и другими уже не разобьется о человеческую снисходительность.
Автономия требует не только критерия, но и ответственности. Теологи ответственны за то, чтобы держать в порядке свой собственный дом, учитывая их возможное влияние на верующих и возможное влияние богословской доктрины на церковную доктрину. Думаю, они смогут более эффективно осуществлять свою ответственность, если не станут дожидаться, пока их снабдят совершенным методом, а примут на вооружение наилучший метод из доступных и, применяя его, смогут выявить его недостатки и исправить его дефекты.
Можно было бы подумать, что мы ставим под угрозу авторитет официальных церковных лиц, когда признаём, что теологам есть что привнести от самих себя, что они обладают известной автономией, что в их распоряжении находится строго богословский критерий, и что на них возложена немалая ответственность, которая наиболее эффективно осуществляется, если принять некоторый метод и постепенно работать над его улучшением.
Но я думаю, что авторитет официальных лиц Церкви ничего не потеряет, напротив, немало выиграет от этого предложения. Нет никакого ущерба в признании того очевидного исторического фак-


 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
та, что теологии есть что привнести от себя. Гораздо больше можно выиграть, признав ее автономию и указав на то, что автономия подразумевает ответственность. В самом деле, ответственность ведет к методу, а метод, если он эффективен, делает излишним надзор. Официальные лица Церкви обязаны защищать религию, над которой размышляют теологи, но следует предоставить самим теологам нести бремя разработки теологических доктрин, которые в значительно большей степени зависят от консенсуса, чем любая традиционная академическая дисциплина.
У этого вопроса есть и другой аспект. Будучи римокатоликом с весьма консервативными взглядами на религиозные и церковные доктрины, я написал главу о доктринах, не подписываясь ни под одной из них, за исключением доктрины о доктрине, утвержденной Первым Ватиканским собором. Я сделал это умышленно, и намерение мое — экуменического характера. Я хочу, чтобы мой метод был настолько простым для его усвоения теологами других деноминаций, насколько это возможно. Даже если теологи исходят из иных церковных исповеданий, даже если их методы скорее аналогичны, чем одинаковы, все же эта аналогия поможет им всем понять, сколь много между ними общего, и в тенденции выявить, сколь более полное согласие может быть достигнуто.
Наконец, фокусированию всего того, что мы вновь и вновь пытались здесь высказать, может послужить различение между догматической теологией и теологией доктринальной. Догматическая теология имеет классицистский характер. Она в принципе принимает как данность, что по каждому вопросу может существовать одно, и только одно истинное высказывание. Она считает своим долгом определить, каково то единственное высказывание, которое будет истинным. Напротив, доктринальная теология мыслит исторически. Она знает, что смысл высказывания определяется только внутри контекста. Она знает, что контексты варьируются с варьированием ответвлений здравого смысла, с эволюцией культур, с дифференциациями человеческого сознания и с присутствием или отсутствием интеллектуального, морального и религиозного обращения. Как следствие, она проводит различение между религиозным постижением доктрины и богословским постижением той же доктрины. Религиозное постижение совершается через контекст нашей собственной разновидности
ДОКТРИНЫ
здравого смысла, нашей собственной развивающейся культуры, нашего собственного недифференцированного или дифференцированного сознания, наших собственных возрастающих усилий по достижению интеллектуального, морального и религиозного обращения. Напротив, богословское постижения доктрин исторично и диалектично. Оно исторично постольку, поскольку схватывает множество различных контекстов, в которых одна и та же доктрина выражалась разными способами; и оно диалектично постольку, поскольку видит различие между позициями и контропозициями и пытается развивать позиции, опровергая контрпозиции.
збо
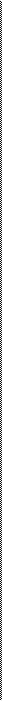 |
СИСТЕМАТИКА
Седьмая функциональная специализация, систематика, занимается тем, что содействует пониманию реальностей, утверждаемых в предшествующей специализации «доктрины». Наши замечания распределяются по пяти рубрикам. Во-первых, нужно прояснить функцию систематики. Во-вторых, нужно перечислить альтернативы, закрытые предыдущим обсуждением. В-третьих, нужно задать вопрос о релевантности любых усилий человеческого разума понять трансцендентную тайну. В-четвертых, существуют сложности, проистекающие из того факта, что систематическая теология ищет понимания не данных, но истин. Наконец, в-пятых, последует краткое указание на способ, каким позднейшая систематика продолжит, разовьет и пересмотрит предшествующую работу.
1. ФУНКЦИЯ СИСТЕМАТИКИ
Кант считал понимание (Verstand) способностью суждения. У этого взгляда есть предшественники — Платон и Дуне Скот, а также, в меньшей степени, Аристотель и Фома Аквинский. В самом деле, последняя пара делает упор на различие двух операций интеллекта. Посредством первой операции мы отвечаем на вопросы типа: Quid sit? Cur ita sit? [Что это? Почему оно таково?]. Посредством второй операции мы отвечаем на вопросы типа: An sit? Utrum ita sit? [Существует ли это? Так ли это?]. Отсюда нас подводят к тому, чтобы мыслить понимание как источник не только дефиниций, но и гипотез, тогда как посредством суждения мы познаем существование выраженного в дефиниции, верификацию того, что предположено в гипотезе.
362
СИСТЕМАТИКА
Это различение между пониманием и суждением представляется сущностно важным для постижения заповеди Августина и Ансель-ма: «Crede utintelligas» [«Уверуй, чтобы уразуметь»]. Оно не означает: уверуй, чтобы ты мог судить; ведь вера уже есть суждение. Оно не означает: уверуй, чтобы ты мог доказывать; ведь истины веры не принимают человеческих доказательств. Оно означает, как во вспышке света: уверуй, чтобы ты мог понимать, ибо истины веры имеют смысл для верующего, а для неверующего выглядят бессмыслицей.
Опираясь на традиции Августина, Ансельма, св. Фомы, и вопреки отделяющей нас от них тяжелой толще концептуализма1, Первый Ватиканский собор восстановил идею понимания. Он учил, что разум, просвещенный верой, когда он вопрошает усердно, набожно, трезво, способен с помощью Божьей достигнуть высоко плодотворного понимания тайн веры — как из аналогии с тем, что ему известно по природе, так и из взаимосвязи тайн друг с другом и с конечной целью человека (DS 3016).
Мы считаем, что содействовать такому пониманию тайн — главная функция систематики. Эта специализация имеет своей предпосылкой доктрины. Ее цель — не добавить еще одно доказательство доктрины ex ratione theologica [из богословского основания]. Доктрины следует считать утвержденными через добавление фундирования к диалектике. Цель же систематики — не увеличивать достоверность, а содействовать пониманию. Она стремится не утвердить факты, а понять, каким образом стало возможным, что факты таковы, каковы они есть. Ее задача — взять факты, установленные в доктринах, и попытаться связать их в приемлемое целое.
Классическим примером этого различия между доктринами и систематикой служит четвертая книга «Суммы против язычников» Фомы Аквинского. Главы со второй по девятую посвящены существованию Бога Сына; главы с пятнадцатой по восемнадцатую — существованию Святого Духа; главы с двадцать седьмой по тридцать девятую —Воплощению. Но главы с десятой по четырнадцатую сосредоточены на вопросе о том, каким способом надлежит мыслить
1 О концептуализме см. мою книгу: Verbum: Word and Idea in Aquinas, London: Darton, Longman & Todd, and Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1967, Index, s.v., p. 228. Ключевым здесь является вопрос о том, происходят ли концепты от понимания или понимание от концептов.
збз
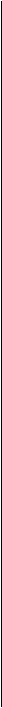
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
божественное рождение. Сходным образом, главы с девятнадцатой по двадцать пятую рассматривают способ, каким надлежит мыслить Святого Духа, а главы с сороковой по сорок девятую посвящены систематике Воплощения.
В другом месте Фома Аквинский указывает на то, что обсуждение спорного вопроса может преследовать две цели. Если оно нацелено на то, чтобы устранить сомнение в фактическом положении дел, тогда в теологии мы апеллируем главным образом к авторитетам, которых признает слушатель. Но если обсуждение имеет целью наставить учащегося и привести его к пониманию истины в этом вопросе, то следует занять свою позицию, исходя из доводов, высвечивающих основание истины, и дать ученику понять, почему сказанное есть истина. В противном случае, если учитель решает вопрос исключительно ссылками на авторитеты, он уверит своего ученика в фактическом положении дел, но, не дав ему никакого понимания, или научного знания, отошлет его прочь пустым2.
По контрасту со средневековой процедурой, католики последних столетий не просто различили, но разъединили философию и теологию. В результате возникли две теологии: естественная теология преподавалась в курсе философии; затем следовала систематическая, или умозрительная теология, имеющая дело с упорядоченным представлением тайн веры. Я считают это разделение неудачным. Во-первых, оно вводит в заблуждение. Вновь и вновь студенты утверждались в том, что систематическая теология — это еще одна философия, и, стало быть, она не имеет религиозного значения. На противоположном полюсе находились те, кто считал, что естественная философия не поднимается до христианского Бога, а бог, который не является христианским Богом, есть идол и самозванец. Во-вторых, разделение ослабило как естественную, так и систематическую теологию. Оно ослабило естественную теологию, потому что трудные философские понятия ничего не теряют в своей значимости, а лишь бесконечно выигрывают от ассоциации с их религиозными эквивалентами. И оно ослабило систематическую теологию, потому что разделение препятствует представлению систематики как христианского продолжения того, что человек может начать познавать своими
2 QuodL, IV, q. 9, а. 3(18). - ^ ■■/ ■■■■■■.. . ;; -
СИСТЕМАТИКА
естественными силами. В-третьих, разделение, видимо, основано на заблуждении. До тех пор, пока будут считать, что философия развивается с такой суверенной объективностью, что совершенно не зависит от мыслящего ее человеческого разума, — до этих самых пор, несомненно, всегда найдется что сказать в поддержку притязания на такую же объективность, когда речь идет о предварительных вопросах из сферы компетенции веры. Но фактическое положение дел состоит в том, что доказательство становится строгим только внутри систематически сформулированного горизонта, что формулировка горизонта варьируется в зависимости от присутствия или отсутствия интеллектуального, морального и религиозного обращения, и что обращение никогда не является логическим следствием чьей-то предварительно занятой позиции, но, наоборот, есть радикальный пересмотр этой позиции.
По существу, это вопрос перехода от абстрактной логики классицизма к конкретности метода. С прежней точки зрения, базовым является доказательство. С новой точки зрения, базовым является обращение. Доказательство взывает к абстракции по имени «правильный разум». Обращение преобразует конкретного индивида, делая его способным схватывать не только выводы, но и принципы.
Это также и вопрос присущей индивиду идеи объективности. Если некто считает базовым логическое доказательство, он стремится к объективности, не зависящей от конкретного существующего субъекта. Но хотя объективность и достигает того, что не зависит от конкретного существующего субъекта, сама объективность достигается отнюдь не вне зависимости от конкретного существующего субъекта. Напротив, объективность достигается через самотрансцендирование конкретного существующего субъекта, и фундаментальной формой самотрансцендирования будет интеллектуальное, моральное и религиозное обращение. Пытаться гарантировать объективность в отрыве от самотрансцендирования означает лишь плодить иллюзии3.
3 В связи с этим базовым является утверждение Ньюмена: J.H. Newman, An Essay in Aid of a Grammar of Assent, London 1870, Papeback, Garden City, N.Y.: Dou-bleday, Image Book, 1958, chap. 8, 9. См. также его же: Discussions and Arguments on Various Subjects, London: Longman, 1924: «Логика для большинства — лишь жалкая риторика; если сумеешь стрелять, огибая углы, то можешь надеяться обращать с помощью силлогизма». Эта цитата приводится в Grammar, p. 90.
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
Могут возразить, однако, что такой переход от абстрактного к конкретному, от доказательства к обращению не согласуется с тем утверждением Первого Ватиканского собора, что естественным светом человеческого разума Бог может достоверно познаваться через творения (DS 3004, 3026).
Во-первых, я хотел бы привлечь внимание к тому факту, что приведенное выше определение молчаливо абстрагируется от действительного строя нашей жизни. Третья редакция Dei Filius, предложенная о. Йозефом Клёйтгеном, гласит в каноне: «...perea quaefacta sunt, naturali ratione ab homine lapso certo cognosci et demonstrari posse» [«... через сотворенное, посредством естественного разума, падший человек может достоверно познать и доказать» существование Бога]4. Окончательная версия, однако, не упоминает падшего человека, и, в виду преобладания абстрактного классицизма, может быть, видимо, проще всего понята как отсылка к состоянию чистой природы5.
Во-вторых, если взглянуть на действительный строй нашей жизни, то я бы сказал, что в норме религиозное обращение предшествует усилию по разработке строгих доказательств существования Бога. Но я вполне допускаю, что такие доказательства способны послужить фактором, облегчающим религиозное обращение, так что в порядке исключения некоторое знание о существовании Бога может предшествовать принятию дара любви Божьей.
Я выступал и выступаю за интеграцию естественной и систематической теологии. Но это вовсе не означает размывания границ между ними. Одно дело — разделение, другое — различение. Тело и душа человека могут различаться, пусть даже человек еще жив. Сходным образом естественное и сверхъестественное в операциях теолога различны, пусть даже дело обстоит не так, что одна часть проходит по ведомству философии, а другая — теологии. Опять-таки, есть интеллигибельность того, что не может быть иначе, и есть интеллигибельность того, что может быть иначе: та и другая различ-
4 См. J.D. Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova etAmplissima Collectio, 53, 168.
5 См. мою статью: «Natural Knowledge of God», Proceedings of the Catholic Theo
logical Society of America, 23 (1968), 54—69. Hermann Pottmeyer, Der Glaube vor dent
Anspruch der Wissenschaft, Freiburg: Herder, 1968, SS. 168-204. David Coffey, «Natu
ral Knowledge of God: Reflections on Romans 1,18-32», Theological Studies, 31 (1970),
674-691.
СИСТЕМАТИКА
ны, пусть даже целостное объяснение отчасти заключается в одной интеллигибельное™, а отчасти — в другой. Наконец, есть интеллигибельность, достижимая человеческим разумом; есть интеллигибельность, лежащая за его пределами; и есть промежуточная, несовершенная, аналогическая интеллигибельность, которую мы можем обнаружить в тайнах веры: все три различны, но нет никаких причин их разделять.
Хотелось бы заметить, что я не предлагаю никаких новшеств. Я предлагаю вернуться к тому типу систематической теологии, примером которого служат «Сумма против язычников» и «Сумма теологии» Фомы Аквинского. В обеих суммах систематически выражено широкое понимание истин о Боге и человеке. В обеих суммах вполне осознаны упомянутые выше различения. Но ни в одной не одобряется введенное позже разделение.
Если цель систематики, как я полагаю, заключается в понимании, то систематика должна быть единым и нераздельным целым, а не двумя разделенными частями, которые пренебрегали бы первенством обращения и склонялись бы к переоценке значения доказательства.
2. ЗАКРЫТЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
С самой первой главы мы продвигались от психологии способностей, с ее выбором между интеллектуализмом и волюнтаризмом, к интенциональному анализу, с его различением четырех уровней сознательных интенциональных операций. Из них каждый последующий уровень выводит предыдущие на новую ступень: он поднимается выше них, утверждает более высокий принцип, вводит новые операции, но и сохраняет целостность предшествующих уровней, в громадной степени расширяя радиус их действия и значение.
Отсюда проистекают несколько следствий. Во-первых, четвертый и высочайший уровень есть уровень обдумывания, оценки, решения. Стало быть, предшествование интеллекта есть предшествование первых трех уровней — переживания, понимания и суждения.
Во-вторых, отсюда следует, что умозрительный интеллект, или чистый разум, — не более чем абстракция. Научное или философское переживание, понимание и суждение имеют место не в пустоте. Они
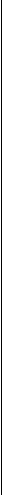
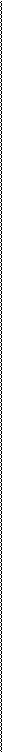 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
представляют собой операции экзистенциального субъекта, который решил посвятить себя поискам понимания и истины и с большим или меньшим успехом хранит верность этому обету.
В-третьих, возникает возможность исключения из старого правила: Nihil amatum nisipraecognitum. В частности, представляется, что дар любви Божьей (Рим 5, 5) не есть следствие или условие человеческого богопознания. Гораздо вероятнее, что этот дар предшествует нашему богопознанию и в действительности оказывается причиной наших поисков Бога6.
Далее, для систематической теологии базовой является ориентация на трансцендентную тайну. Она наделяет первичным и фундаментальным значением имя «Бог». Она способна служить узами, объединяющими всех людей, несмотря на культурные различия. Она полагает начало вопрошанию о Боге, поискам достоверности Его существования, усилию достигнуть некоторого понимания тайн веры. В то же время она пребывает в полной гармонии с тем убеждением, что ни одна из систем, которые мы в состоянии построить, не может охватить, включить, присвоить тайну, которая служит нам опорой. Как сказано в постановлении Четвертого Латеранского собора: «Между Творцом и тварью нельзя обнаружить никакого подобия, не обнаружив еще большего неподобия» (DS 806). А Первый Ватиканский собор добавляет: «Божественные тайны настолько превосходят тварный интеллект, что, даже когда они даются в откровении и принимаются верой, они остаются окутанными покровом самой веры» (ДУ3016).
Далее, устремленность к трансцендентной тайне проливает свет на негативную, или апофатическую теологию, которая довольствуется утверждениями о том, что не есть Бог. Ибо эта теология ведет речь о трансцендентном неведомом, о трансцендентной тайне. Позитивно ее питает дар любви Божьей.
Если, однако, существует не только негативная, или апофатиче-ская, но и позитивная, или катафатическая теология, то она должна столкнуться с вопросом о том, является ли Бог объектом. Так вот,
6 Ср. замечание Паскаля: «Утешься, ты не искал бы Меня, если бы уже не нашел Меня». PenseesVll, 553.
СИСТЕМАТИКА
Бог, несомненно, не является объектом в наивно-реалистическом смысле — как то, что уже дано, что уже поджидает нас, что уже здесь. Далее, Бог не является объектом, если, уходя от наивного реализма, понимать объект в смысле эмпиризма, натурализма, позитивизма или идеализма. Но если под объектом мы понимаем нечто, что ин-тендируется в вопросах и познается через правильные ответы, нечто внутри мира, опосредованного смыслом, то следует проводить различение.
С точки зрения того, что я назвал первичным и фундаментальным значением имени «Бог», Бог не является объектом. В самом деле, это значение принадлежит термину, направленному на трансцендентную тайну. Такая направленность, будучи вершиной самотрансцен-дирующего процесса вопрошания, тем не менее, не сводится в собственном смысле к тому, чтобы задавать вопросы и отвечать на них. Она не только не замыкается в мире, опосредованном смыслом, но есть то начало, которое способно вывести людей из этого мира и ввести их в облако неведомого7.
Но вывести для того, чтобы вернуть назад. Молитва состоит не только в том, чтобы совлечься всех образов и мыслей и позволить дару любви Божьей поглотить себя: молящиеся таким опустошающим образом могут прервать молитву и вновь задуматься над своей молитвой. Тогда они объективируют в образах, понятиях и словах как собственные действия, так и Бога, к которому обращены.
Но Бог входит в мир, опосредованный смыслом, гораздо более широкими путями. Фундаментальная обращенность к Богу рождается из дара любви Божьей, но вопросы человека берут начало в мире и в человеке. Может ли мир быть опосредован вопросами о разумении, если у него нет разумного основания? Может ли фактичность мира быть согласована с его интеллигибельностью, если у него нет необходимого основания? Возникает ли мораль в мире вместе с человеком, тогда как мир сам по себе не знает морали и чужд человеку, или же основанием мира служит моральное бытие? Подобные вопросы
7 Я нашел чрезвычайно полезной работу: William Johnston, The Mysticism of the Cloud of Unknowing, New York, Rome, Tournai, Paris: Desclee, 1967. Читатели, которые хотели бы более подробного обоснования моих замечаний, найдут в этой книге позицию, весьма близкую моей собственной.

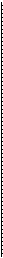
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
побуждают к ответам, и если вопросы интендируют разумное, необходимое, моральное основание универсума, то ответы способны высветить такое основание.
Прежде всего, в религии, которая разделяется многими, которая входит в культуры и преображает их, которая длится веками, будут даваться имена Богу, будут задаваться вопросы о Нем, будут предлагаться ответы. Совсем иначе Бог становится объектом в совершенно конкретном смысле — как то, чтб интендируется в вопросах и познается через правильные ответы. И этот смысл никоим образом не отменяется тем фактом, что наивный реализм, эмпиризм, позитивизм, идеализм или феноменология не могут думать о Боге, и, следовательно, не могут думать о нем как об объекте.
Есть и еще одно следствие смещения от психологии способностей к интенциональному анализу. Оно заключается в том, что базовые термины и отношения систематической теологии будут не метафизическими, как в теологии Средневековья, а психологическими. Как было подробно показано в наших главах о методе, о религии, о фундировании, общие базовые термины именуют сознательные ин-тенциональные операции, а общие базовые отношения — элементы в динамичной структуре, которая связывает операции и порождает состояния. Специальными базовыми терминами именуется дар любви Божьей и христианское свидетельство; производными терминами и отношениями — объекты, познаваемые в операциях и коррелятивные состояниям.
Суть перевода метафизических терминов и отношений из категории базовых в производные состоит в том, что отсюда рождается критическая метафизика. Для всякого термина и отношения будет существовать соответствующий элемент в интенциональном сознании. Соответственно, пустые или вводящие в заблуждение термины и отношения устраняются, тогда как значимые термины и отношения высвечиваются сознательной интенцией, из которой они исходят. Важность такого критического контроля очевидна для всякого, кто знаком с обширными пустынями богословских споров.
Критическая метафизика выполняет двойную позитивную функцию. С одной стороны, она предоставляет базовые эвристические структуры, определенный горизонт, внутри которого ставятся вопросы. С другой стороны, она предоставляет критерий для утверж-
СИСТЕМАТИКА
дения различия между буквальным и метафорическим смыслами, а также между понятийными и реальными дистинкциями8.
Так как познание интенционального сознания способно развиваться, отсюда следует, что вся представленная выше структура развивается, а стало быть, избегает окостенения. В то же время структура обеспечивает непрерывность, ибо возможность развития есть возможность пересмотра более ранних воззрений, а возможность пересмотра более ранних воззрений есть непрерывное существование уже определенной структуры. Наконец, такой подход устраняет из основания метода любую авторитарность. Каждый может открыть сам и в самом себе, чем являются его сознательные интенциональ-ные операции и каким образом они связаны друг с другом. Каждый может обнаружить сам и в самом себе, почему выполнение тех или иных операций тем или иным способом конституирует человеческое познание. Как только это будет обнаружено, человек больше не зависит ни от кого другого в выборе своего метода и следовании ему. Он полагается только на себя.
3. ТАЙНА И ПРОБЛЕМА
На трансцендентную тайну человек отвечает поклонением. Но поклонение не исключает слов, и менее всего тогда, когда люди собираются вместе для богослужения. Слова, в свою очередь, обладают смыслом в определенном культурном контексте. Контексты могут длиться; один длящийся контекст может быть производным от другого; два длящихся контекста могут взаимодействовать. Соответственно, хотя тайна весьма отлична от проблем здравого смысла, науки, учености, большей части философии, богослужение и, в более общем смысле, религии человечества помещены в социальный, культурный, исторический контекст и в силу этой вовлеченности порождают проблемы, с которыми пытаются иметь дело теологи.
Наши размышления о дифференциации человеческого сознания высветили некоторые общие типы контекстов, внутри которых развертывается религиозный и богословский дискурс. Постижение Бога человеком выражается в значительной мере символически; затем не-
в О смысле эвристических структур, о реальности, о реальных и понятийных дистинкциях см. Insight, chap. 2, 14, 16.


 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
адекватности выражения корректируются реинтерпретацией; в такой модификации символа нежелательные смыслы исключаются, а желательные обретают ясность. Затем, в досократовском мире Ксено-фана или в пост-системном мире Климента Александрийского, антропоморфная речь о Боге перестает внушать доверие. Библейского Бога, который стоит или сидит, у которого есть правая и левая руки, который гневается и раскаивается, больше не принимают буквально. Бога мыслят в терминах трансцендентальных идей умопостигаемо-сти, истины, реальности, благости. Такое переосмысление Бога Отца влечет за собой переосмысление Его Сына, а переосмысление Сына вызывает напряжение между Сыном, взятым в Его переосмысленности, и Сыном, как Он обрисован в Новом Завете. Это влечет за собой кризисы, спровоцированные Арием, Несторием, Евтихием, и постсистемные определения Никеи, Эфеса и Халкидона. Минимальное употребление технических выражений греческими соборами, а также позднейшая озабоченность византийцев и сирийцев теологией в целом подготовили почву для тотального переосмысления христианской доктрины в систематических терминах, осуществленного средневековыми теологами. Наследие этой эпохи взаимодействует с длящимся контекстом церковных доктрин вплоть до Второго Ватиканского собора. Тем временем современная наука устранила многие элементы библейского понимания человека и его мира; современная ученость продолжает пересматривать интерпретацию библейских, патриотических, средневековых и более поздних источников; современная философия закрепила радикальный сдвиг в систематическом мышлении.
Соответственно, хотя тайну нельзя смешивать с проблемой, длящиеся контексты, в которых поклоняются тайне и в которых объясняется поклонение, весьма далеки от того, чтобы быть свободными от проблем. Менее всего в настоящее время возможно игнорировать существование проблем. Ибо сегодня проблемы столь многочисленны, что многие люди не знают, во что верить. Они хотели бы верить, они знают, что такое церковные доктрины, но они хотят знать, каков, собственно, смысл церковных доктрин. Ответить на их вопрошание призвана систематическая теология.
Ответом на этот вопрос служит постепенное возрастание понимания: это ключ к частичному прояснению того, о чем идет речь. Но
СИСТЕМАТИКА
частичное прояснение порождает дальнейшие вопросы, а они — следующие вопросы. Освещенная область какое-то время расширяется, но затем все новые вопросы начинают мало-помалу вновь ее сокращать. Рудная жила, видимо, истощается. Последующие мыслители, однако, могут вновь с усердием приняться за вопрос в целом. Каждый из них может внести существенный вклад. Со временем, возможно, на сцену выйдет учитель, способный связать воедино все элементы вопроса и рассмотреть их в надлежащем порядке.
Этот порядок не совпадает с порядком нахождения решений. В самом деле, путь их нахождения — кружной: второстепенные вопросы могут решаться первыми, ключевые вопросы, скорее всего, будут упускаться из вида, пока не будет выполнена значительная часть работы. От порядка нахождения совершенно отличен порядок научения. Учитель откладывает на потом решения, которые требуют, как предварительного условия, других решений. Он начинает с вопросов, решение которых не предполагает решения других вопросов.
Таков ordo disciplinae [порядок научения], который Фома Ак-винский утверждает в своих теологических трудах для начинающих9. В качестве краткой иллюстрации заметим, что в первой книге «Scriptum super Sententias» [«Комментария к Сентенциям Петра Ломбардского»] рассмотрение Бога как единого не отделяется от рассмотрения Бога как Троицы: как правило, вопросы относятся то к первому, то ко второму. Но в «Сумме против язычников» проводится систематическое разделение: первая книга рассматривает только Бога как единого; главы 2—26 четвертой книги рассматривают только Бога как Троицу. В первой части «Суммы теологии» вопросы 2—26 относятся к Богу как единому, тогда как вопросы 27—43 — к Троице. То, что в «Сумме против язычников» разбиралось в разных книгах, в «Сумме теологии» соединяется в непрерывный поток. В самом деле, вопросы 27-29 все еще относятся к единому Богу, хотя постепенно выстраиваются элементы тринитарной теологии. Вопрос 27 посвящен не тому, происходит ли Сын от Отца, а тому, имеются ли ис-хождения в Боге. Вопрос 28 — возникают ли в силу этих исхождений
9 См. Thomas Aquinas, Summa theologiae, Prologus.
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
СИСТЕМАТИКА
 отношения в Боге. Вопрос 29 — являются ли эти отношения Лицами10.
отношения в Боге. Вопрос 29 — являются ли эти отношения Лицами10.
Не только порядок научения или изложения отличается от порядка обнаружения: термины и отношения систематической мысли выражают понимание, которое идет выше и дальше понимания, берущего начало в простом наблюдении или в ученой экзегезе доктри-нальных первоисточников. Например, в томистской тринитарной теории такие термины, как «исхождение», «отношение», «лицо», имеют высокотехничное значение. Они относятся к этим же терминам в Писании или в святоотеческих трудах примерно так же, как в современной физике термины «масса» и «температура» относятся к прилагательным «тяжелый» и «холодный».
Наличие такого расхождения между религиозными источниками и теологическими системами есть необходимое следствие взгляда, выраженного Первым Ватиканским собором. Согласно этому взгляду, хотя понимание относится к одному и тому же догмату, смыслу, положению, оно, тем не менее, возрастает и прогрессирует на протяжении столетий (DS 3020). В главе «Доктрины» мы постарались утвердить перманентность догмата, несмотря на исторические смещения в контекстах, в которых догматы были поняты и выражены. В настоящей главе, «Систематика», мы должны обратить внимание на обратную сторону медали и, сохраняя перманентность догматов, сосредоточиться главным образом на систематическом развитии.
Такое развитие совершается в самых разных контекстах. Оно было инициировано в античном греко-римском и византийском мирах. Оно достигло высокого совершенства в статичных концептуальных системах Средневековья. Оно вновь нашло себе место в длящемся контексте науки, учености и философии Нового времени.
К несчастью, хотя это вполне по-человечески, все эти этапы развития отмечены противоречиями. Не меньше, чем понимание, непонимание тоже способно выражаться систематически. Опять-таки, если подлинное понимание имеет тенденцию к единственности, то непонимание имеет тенденцию к множественности. Как существуют конфликтующие интерпретации, конфликтующие истории,
ю Я рассмотрел эту тему более подробно в книге: Verbum: Word and Idea in Aquinas, pp. 206 ff.
конфликтующие основания, конфликтующие доктрины, так можно ожидать существования целого спектра конфликтующих систем.
Чтобы иметь дело с этой множественностью, теолог опять-таки вынужден прибегать к диалектике. Он должен собрать многообразные и достоверные различия, свести их к их корням. Эти корни могут лежать в некоем социальном, культурном, историческом контексте, во врожденном таланте или в образовании того или иного автора, в наличии или отсутствии интеллектуального, морального или религиозного обращения, в манере мыслить метод и задачу систематической теологии. На основе такого анализа и в свете собственных оснований и собственного метода теолог сможет судить о том, которая из систем выражает позиции, а которая — контрпозиции.
4. ПОНИМАНИЕ И ИСТИНА
Мы уже имели возможность различить данные и факты. Данные даны чувствам или сознанию. Они даны именно как данные. Их не замечают до тех пор, пока они не будут встроены в чье-то понимание и не обретут имя в чьем-то языке. Но при соответствующем развитии понимания и языка они будут замечены и, если они с какой-либо точки зрения важны, встретят поддержку.
Если данные — это единичные компоненты человеческого познания, то факты являются следствием сопряжения трех разных уровней. Факты обладают непосредственностью данного, точностью так или иначе понятого, помысленного, названного; упорством утверждаемого — в силу того, что в них достигнуто виртуально безусловное.
Можно понимать данные, а можно понимать факты. Понимание данных выражается в гипотезе, а верификация гипотезы ведет к вероятным утверждениям. Понимание фактов — более сложная процедура: она предполагает существование двух типов, или порядков познания, где факты первого типа поставляют данные для второго типа. Например, в критической истории мы различили два вопро-шания: первое нацелено на то, чтобы выяснить, какими источниками информации располагали наши свидетели, как они проверяли их, насколько компетентно ими пользовались. Затем следовало второе вопрошание, которое использовало подвергшуюся оценке информацию для отчета о том, чтб происходило в определенной среде в данном месте и в данное время. Сходным образом в естествознании

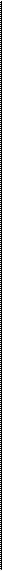
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
можно начать с фактов обыденного знания и использовать их как данные для построения научных теорий. И наоборот, через прикладную теорию, инженерное дело, технологию можно от научной теории обратиться к преображению мира здравого смысла.
Особенность такого понимания фактов состоит в том, что два типа познания требуют двух применений идеи истины. Есть истина фактов в первом порядке, или типе. И есть истина фактов в отчете, или объяснении, достигаемом во втором типе, или порядке. Более того, если изначально второй тип зависит от первого, то в итоге они оказываются взаимозависимыми, так как второй тип ведет к корректированию первого. Открытие критическим историком хода событий в прошлом может привести его к пересмотру оценки его свидетельств. Научное описание физической реальности может подразумевать пересмотр обыденных воззрений.
Гораздо более сложный случай — наши восемь прямо или косвенно взаимозависимых функциональных специализаций. Каждая из восьми есть дело всех четырех уровней интенционального сознания. Следовательно, каждая из восьми есть следствие опыта, ин-сайтов, суждений о фактах и суждений о ценностях. В то же время каждая представляет собой специализацию, так как имеет дело с выполнением одной из восьми задач. Так, разыскание призвано сделать данные достижимыми, интерпретация — установить их смысл, история — идти от смысла к реальному ходу событий, диалектика — дойти до корней конфликтующих историй, интерпретаций, разысканий, фундирование — отличить позиции от контрпозиций, доктрины — использовать фундаменты в качестве критерия при выборе из альтернатив, предложенных диалектикой, систематика — искать понимания реальностей, утверждаемых в доктринах.
В данный момент нас заботят доктрины и систематика. Обе специализации нацелены на понимание истины, но по-разному. Доктрины нацелены на ясное и отчетливое утверждение религиозных реальностей: их главная забота — истина такого утверждения, а забота о понимании ограничена ясностью и отчетливостью этого утверждения. Со своей стороны, систематика нацелена на понимание религиозных реальностей, утверждаемых доктринами. Она стремится к истинному, не к ошибочному пониманию. В то же время она вполне осознает, что ее понимание неизбежно несовершенно,
СИСТЕМАТИКА
имеет чисто аналогический характер и, как правило, не более чем вероятностно.
Стало быть, доктрины и систематика подразумевают существование двух инстанций истины и двух инстанций понимания. Доктрины призваны ясно и отчетливо утверждать принятое религиозной общиной исповедание тайн, сокрытых в Боге, так что человек был бы не в силах познать их, если бы они не были открыты Богом". Согласие с этими доктринами есть согласие веры, и это согласие рассматривается религиозными людьми как более твердое, нежели любое другое. В то же время мера понимания, сопровождающего согласие веры, традиционно считается в высшей степени варьируемой. Ириней, например, признавал, что один верующий может быть гораздо более понимающим, чем другой, однако отрицал, что первый является гораздо более верующим, чем другой12.
Напротив, воззрения, утверждаемые в систематической теологии, обычно рассматриваются как не более чем вероятные, однако достигаемое понимание должно соответствовать уровню своего времени. В период Средневековья это был уровень статичной системы. В современном мире требуется основательное знакомство с современной наукой, ученостью, философией.
Здесь, возможно, следует коротко ответить на часто высказываемые обвинения в адрес систематической теологии: дескать, она умозрительна, безрелигиозна, бесплодна, элитарна, иррелевантна. Во-первых, то, что систематическая теология способна становиться умозрительной, подтверждает пример немецкого идеализма; но систематическая теология, о которой мы ведем речь, в действительности есть вполне простая вещь: она имеет целью понимание истин веры, Glaubensverstandnis, а под истинами веры подразумевает церковные исповедания. Во-вторых, систематическая теология способна становится безрелигиозной; это особенно верно, когда ее основной упор делается не на обращение, а на доказательство, или когда позиции принимаются и отстаиваются из соображений индивидуаль-
11 Об исповеданиях веры в Новом Завете см. V.H. Neufeld, The Earliest Christian
Confessions, Leiden: Brill, 1963, New Testament Tools and Studies, ed. B.M. Metzger,
vol. V.
12 Cm. Adv. haer., I, 10, 3; Harvey I, 84-96.

 ■'■,■:.,,■ '■ :■ : .■■..:■ ■
■'■,■:.,,■ '■ :■ : .■■..:■ ■

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
ного или корпоративного тщеславия. Но когда основанием теологии в целом служит обращение, когда религиозное обращение становится тем событием, в котором имя «Бог» обретает свой изначальный и фундаментальный смысл, когда систематическая теология не мнит себя способной исчерпать или хотя бы адекватно понять этот смысл, тогда сделано многое, чтобы удержать систематическую теологию в гармонии с ее религиозными истоками и целями. В-третьих, систематическая теология имеет свои бесплодные аспекты, ибо систематизировать можно как понимание, так и непонимание. Если первый тип системы будет привлекательным для людей понимающих, то второй тип тоже будет привлекательным, причем, как правило, для большего числа людей — непонимающих. Диалектику нельзя просто изгнать; но, по крайней мере, мы не всецело сдаемся на ее милость, если методически признаём существование такой диалектики, устанавливаем критерии различения между позициями и контрпозициями и призываем каждого оценить точность или неточность наших суждений через развитие того, что мы считаем позициями, и опровержение того, что мы считаем контрпозициями. В-четвертых, систематическая теология элитарна: она столь же трудна, что и математика, естествознание, гуманитарная ученость, философия. Но эта трудность стбит того, чтобы ее преодолеть. Если не достигнуть, на уровне своего времени, понимания религиозных реальностей, в которые веришь, остается лишь сдаться на милость психологов, социологов, философов, которые не преминут растолковать верующим, во что в действительности они верят. Наконец, в-пятых, систематическая теология иррелевантна, если не предоставляет основания для восьмой функциональной специализации — коммуникаций. Но, чтобы поддерживать коммуникацию, человек должен понимать, чтб именно он сообщает в коммуникации. Повторение формулировок не заменит понимания, ибо только понимание способно сказать, чтб именно схватывается любым из тех способов, которых требует почти бесконечный ряд разнообразных аудиторий.
5. НЕПРЕРЫВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ, ПЕРЕСМОТР
Четыре фактора отвечают за непрерывность. Из них прежде всего можно рассмотреть нормативную структуру наших сознательных интенциональных актов. Называя эту структуру нормативной,
СИСТЕМАТИКА
я имею в виду, конечно, что она может быть нарушена. Ибо такие акты могут быть направлены не только на истинно благое, но и на извлечение индивидуальной или групповой выгоды. Они также могут быть направлены не на истину, которая утверждается в силу схватывания виртуально безусловного, а на любое из ложных понятий истины, систематизированных в различных философиях: в наивном реализме, эмпиризме, рационализме, идеализме, позитивизме, прагматизме, феноменологии, экзистенциализме. Наконец, они могут быть направлены не на возрастание человеческого понимания, а на удовлетворение «объективных», «научных» или «смысловых» норм, установленных некоторой логикой или методом, которые находят удобным вывести человеческое понимание за скобки.
Итак, структура наших сознательных интенциональных операций может быть нарушена разными способами. Отсюда проистекает диалектика позиций и контрпозиций. Но сам факт наличия такой диалектики лишь объективирует и манифестирует то, что человеку необходимо быть подлинным. Одновременно он побуждает человека к интеллектуальному и моральному обращению, указывая на социальный и культурный крах тех людей, которые, по их убеждению, могут вполне обойтись без интеллектуального или морального обращения.
Второй фактор непрерывности — дар любви Божьей. Это именно дар: не то, что непременно присуще нашей природе, но нечто такое, чем Бог свободно нас наделяет. Дар этот дается в разной мере, но это всегда — одна и та же любовь, и она всегда устремлена в одном и том же направлении, будучи еще одним фактором обеспечения непрерывности.
Третий фактор — перманентность догмата. Ведомые лишь Богу тайны, которые Он сообщил в откровении, а Церковь выразила в определении, могут с течением времени пониматься все лучше. Но то, чтб подлежит пониманию, лежит вне сферы человеческого познания. Это — откровение Бога, и в этом смысле догмат перманентен. Его человеческое понимание всегда должно совершаться «и eodem dogmate, eodem sensu eamdem sententia» {DS 3020).
Четвертый фактор непрерывности — подлинное достижение, имевшее место в прошлом. Я написал два исследования трудов св. Фомы Аквинского. Первый — «Благодать и свобода» [«Grace and

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
Freedom»], второй — «Verbum: слово и идея у Аквината» [«Verbum: Word and Idea in Aquinas»}. Если бы я писал на эти темы сегодня, то предлагаемый мною метод привел бы к некоторым значительным отличиям от того, что говорит Фома Аквинский. Но существовало бы и глубокое сходство. В самом деле, мысль Фомы Аквинского о благодати и свободе, а также мысль о когнитивной теории и о Троице были подлинными достижениями человеческого духа. Такие достижения обладают собственной перманентностью. Они могут быть усовершенствованы, могут быть встроены в более широкие и богатые контексты; но, пока их существо не усвоено последующей работой, эта последующая работа будет существенно беднее.
Помимо непрерывности, существует развитие. Есть менее заметный тип развития, имеющий место там, где Евангелие действенно проповедуется другой культуре или другому классу в той же культуре. И есть более заметный тип развития, имеющий место в разных дифференциациях человеческого сознания. Наконец, есть добрые и дурные плоды, раскрываемые диалектикой. Истина может выйти на свет не потому, что ее искали, а потому, что утверждалось и было отвергнуто противоположное ей заблуждение.
Помимо непрерывности и развития, существует также пересмотр. Любое развитие включает в себя некоторый пересмотр. Кроме того, поскольку теология есть продукт не просто религии, но религии внутри данного культурного контекста, постольку пересмотр в теологии может порождаться не только богословским, но и культурным развитием. Так, в настоящее время богословское развитие, по сути дела, представляет собой долго откладывавшийся ответ на развитие науки, гуманитарной учености и философии Нового времени.
Однако существует и другой вопрос. Пусть даже по своей сути текущий пересмотр в теологии представляет собой адаптацию к переменам в культуре, эти адаптации, в свою очередь, могут подразумевать дальнейшие пересмотры. Например, сдвиг от преимущественно логической к фундаментально методологической точке зрения подразумевает пересмотр того взгляда, что доктринальное развитие «имплицитно» имело богооткровенный характер13. Опять-таки, можно
СИСТЕМАТИКА
задать вопрос: если александрийская школа, отказавшись понимать буквально антропоморфный характер Библии, осуществила демифологизацию на философских основаниях, то не может ли современная ученость осуществить дальнейшую демифологизацию на экзегетических или исторических основаниях? Правда, подобные вопросы весьма широки. Они, безусловно, имеют богословский характер и, соответственно, выходят за пределы настоящей работы как работы о методе.
13 См. J.R. Geiselmann, «Dogma», in: Handbuch theologischer Grundbegriffe, hrsg. H. Fries, Munchen: Kosel, 1962; I, 235.

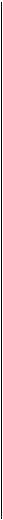 КОММУНИКАЦИИ
КОММУНИКАЦИИ
Теология мыслится как рефлексия над религией, в настоящее время — как поистине высоко дифференцированная и специализированная рефлексия. После разыскания, собирающего данные, принятые за релевантные; после интерпретации, утверждающей смысл данных; после истории, находящей смыслы воплощенными в поступках и движениях; после диалектики, исследующей конфликтующие выводы историков, интерпретаторов и разыскателей; после фундирования, объективирующего горизонт, созданный интеллектуальным, моральным и религиозным обращением; после доктрины, использующей фундирование как руководство при отборе альтернатив, предложенных диалектикой; после систематики, ищущей последнего прояснения смысла доктрины, — наступает, наконец, очередь озаботиться нашей нынешней, восьмой функциональной специализацией: коммуникациями.
Это немалая забота: ведь именно на этой финальной ступени богословская рефлексия приносит плоды. Без первых семи ступеней, конечно, не было бы никаких плодов; но без последней ступени первые семь были бы напрасны, ибо не достигли бы зрелости.
Настаивая на кардинальной значимости этой заключительной специализации, я должен в то же время вновь обратить внимание на различие между методологом и теологом. Именно теолог призван реализовать первые семь специализаций, и в не меньшей степени —
КОММУНИКАЦИИ
восьмую. Задача методолога куда легче: его дело — указать, каковы разнообразные задачи теолога, и каким образом каждая из них предполагает или дополняет остальные.
Говоря конкретно, если читатель желает увидеть теологов за работой в области нашей восьмой функциональной специализации, я бы отослал его к пятитомному труду «Руководство по пастырской теологии», изданному Ф.-К. Арнольдом, Ф. Клостерманом, К. Ране-ром, Ф. Шурром и Л. Вебером1. Напротив, забота методолога сводится к описанию идей и ведущих линий, которые лежат в основе этих монументальных усилий и представляются релевантными для них.
1. СМЫСЛ И ОНТОЛОГИЯ
В главе третьей мы различили четыре функции смысла: когнитивную, конститутивную, коммуникативную, производящую.
У этих функций есть онтологический аспект. В той мере, в какой смысл когнитивен, подразумеваемое им реально. В той мере, в какой он конститутивен, он конституирует часть реальности самого мыслящего: его горизонт, его усваивающие возможности, его знание, его ценности, его характер. В той мере, в какой смысл коммуникативен, он вводит слушателя в когнитивный, конститутивный или производящий смысл, подразумеваемый говорящим. В той мере, в какой смысл является производящим, он убеждает других, или повелевает ими, или направляет контроль человека над природой.
Эти онтологические аспекты принадлежат смыслу вне зависимости от его содержания или носителя. Они обнаруживаются на всех разнообразных стадиях смысла, во всех разнообразных культурных традициях, в любой из дифференциаций сознания, в присутствии или отсутствии интеллектуального, морального и религиозного обращения. Они также принадлежат смыслу независимо от того, выступает ли его носителем интерсубъективность, искусство, символ, образцовое или отвратительное поведение, повседневный, литературный или технический язык.
1 F.-X. Arnold, F. Klostermann, К. Rahner, V. Schurr, L. Weber, Handbuch derPas-toraltheologie, Freiburg-Basel-Wien: Herder, I, 1964, II—1, II-2, 1966; III, 1968; IV, 1969. В целом этот труд насчитывает 2652 с.

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ 2. ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ И ОНТОЛОГИЯ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ 2. ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ И ОНТОЛОГИЯ
Сообщество — не просто конгломерат индивидов в определенных границах: такое понимание упускает из вида его формальную конститутивную черту — здравый смысл. Общий здравый смысл нуждается в общем поле опыта, а когда оно отсутствует, люди перестают общаться. Он нуждается в общем пути или в дополнительных путях понимания, а когда они отсутствуют, люди перестают понимать друг друга и доверять друг другу, становятся подозрительными, опасливыми, склонными к насилию. Он нуждается в общем суждении, а когда оно отсутствует, люди живут в разных мирах. Он нуждается в общих ценностях, целях, позициях, а когда они отсутствуют, люди говорят на разных языках.
Здравый смысл конститутивен вдвойне. В каждом индивиде он конституирует индивида как члена сообщества. В группе индивидов он конституирует сообщество.
Генезис здравого смысла — это длящийся процесс коммуникации, причастности людей к одному и тому же когнитивному, конститутивному и производящему смыслу. На элементарном уровне этот процесс описывается как процесс, возникающий между «я» и другим, когда на основе уже существующей интерсубъективности «я» совершает некий жест, другой дает на него интерпретативный ответ, и «я» обнаруживает в ответе другого производящий смысл своего жеста2. Так из интерсуъективности, через жест и его интерпретацию, рождается общее понимание. На этой спонтанной основе можно построить общий язык и осуществлять передачу приобретенного знания и социальных паттернов — через образование, распространение информации и общую волю к общению, которая стремится заменить непонимание взаимопониманием, разно-гласие — не-согласием, а со временем и согласием3.
Если общий здравый смысл конституирует сообщество, то разнонаправленный смысл разделяет его. Такие разделения могут озна-
г См. Gibson Winter, Elements for a Social Ethic, New York: Macmillan, 1966, pb. 1968, pp. 99 ff.
3 Cm. R.G. Collingwood, The New Leviathan, Oxford: Clarendon, 1942, 1966s, p. 181 и passim о платоновской диалектике.
384
КОММУНИКАЦИИ
чать всего лишь различие культур или стратификацию индивидов на классы высшего или низшего уровня компетентности. Серьезное разделение — то, которое возникает из присутствия и отсутствия интеллектуального, морального или религиозного обращения. Ибо человек есть подлинное «я» лишь постольку, поскольку он само-трансцендирует. Обращение есть путь к самотрасцендированию. И наоборот, человек отчужден от своего истинного «я» постольку, поскольку отказывается от самотрансцендирования. Базовой формой идеологии выступает самооправдание отчужденного человека.
Нет нужды говорить, что необращенные, и особенно те, кто обдуманно отказывается от обращения, хотели бы найти иные корни у идеологии и отчуждения. В самом деле, они хотели бы прямо или косвенно навести на мысль, что самотрансцендирование и есть отчуждение, и что идеология в своей основе есть попытка оправдать самотрансцендирование. Стало быть, мы вновь сталкиваемся с радикальной диалектической оппозицией, с которой уже имели дело в главе, посвященной четвертой функциональной специализации.
Теперь, однако, диалектика занимает нас не постольку, поскольку она затрагивает богословские мнения, а поскольку она затрагивает сообщество, действие, ситуацию. Она затрагивает сообщество, потому что, как общий здравый смысл конституирует сообщество, так диалектика разделяет сообщество на радикально противостоящие друг другу группы. Она затрагивает действие, потому что, как обращение ведет к умному, разумному, ответственному действию, так диалектика порождает разобщенность, конфликт, угнетение. Она затрагивает ситуацию, потому что ситуации представляют собой кумулятивный продукт предшествовавших действий, а когда предшествовавшие действия направлялись светом и тьмой диалектики, возникшая ситуация лишена вразумительности, но представляет собой скорее набор неудачных, несуразных и бессвязных фрагментов4.
Наконец, разделение сообщества, его конфликтующие действия и невразумительная ситуация ведут к катастрофе. Ибо невразумительная ситуация по-разному диагностируется в разделенном сообществе, действие становится все более разобщенным, а ситуация —
Об этом см. Insight, pp. 191-206, 218-232, 619-633,687-730.


 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
все более невразумительной. Это провоцирует все более глубокие разногласия в диагнозе и политике, все более радикальную критику действий противоположной стороны, все более глубокий кризис ситуации.
3. ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО, ЦЕРКОВЬ
Общество изучают социологи и социальные историки, Церковь — экклезиологи и церковные историки, государство — политические теоретики и политические историки.
Предмет изучения историков — частное, конкретное, длящееся. Этот предмет отчасти конституирован смыслом и, следовательно, меняется вместе с любым изменением конститутивного смысла. Кроме того, этот предмет подвержен искажениям и разъедающему воздействию отчуждения и идеологии, а также может подрываться и разрушаться глупостью и отторжением.
Согласно древней и традиционной точке зрения, общество мыслится как организованное сотрудничество индивидов ради достижения общей цели или целей. На основе этого весьма широкого определения различаются несколько видов общества, и среди них — Церковь и государство, именуемые «совершенными» обществами, поскольку каждое из них в своей собственной сфере обладает высшим авторитетом. Следует заметить, что, с этой точки зрения, Церковь и государство — не части более крупного целого, а просто индивидуальные случаи внутри более широкого класса.
Однако с позиций социолога или социального историка всё, что принадлежит к совместному бытию людей, рассматривается как социальное. Отсюда следует, что общество можно мыслить конкретно. И в самом деле, чем меньше остается групп людей, живущих в тотальной изоляции от остальных людей, тем отчетливее выражена тенденция к существованию единого и универсального человеческого общества.
Можно возразить, что это чисто материальный взгляд на общество; но возражение легко может быть парировано, если сюда добавить формальный компонент — структуру человеческого блага, описанную в главе второй. Как, возможно, помнит читатель, эта
КОММУНИКАЦИИ
структура располагается на трех уровнях. На первом уровне рассматриваются потребности и возможности индивидов, их операции, которые внутри общества становятся кооперациями, и возникающие в результате повторяющиеся моменты частного блага. На втором уровне рассматривается пластичность индивидов, их способность к совершенствованию, их готовность к принятию ролей и выполнению задач в рамках уже понятых и принятых способов и стилей кооперации, а также их актуальный образ действий, имеющий результатом хорошее или дурное функционирование благоустроения. На третьем уровне рассматриваются индивиды как свободные и ответственные существа, разбираются их базовые альтернативы — самотрансцен-дирования или отчуждения, исследуются их личные отношения с другими индивидами или группами в обществе и фиксируются те высшие смыслы, которые они несут в себе и к которым побуждают других.
Поскольку все человеческие существа имеют потребности, и поскольку потребности гораздо лучше удовлетворяются путем кооперации, социальная структура блага есть универсальный феномен. Но реализуется она в бесчисленном многообразии стадий технологического, экономического, политического, культурного и религиозного развития. Сначала прогресс осуществляется в виде локальных прорывов, затем он распространяется через границы. Наконец, по мере его генерализации, растет взаимозависимость. Интенсификация взаимозависимости побуждает мыслить общество как интернациональное, тогда как более мелкие единицы — империя, нация, регион, мегаполис, город — начинают мыслиться как части общества.
Идеальным базисом для общества служит сообщество, а сообщество может опираться на моральный, религиозный или христианский принцип. Моральный принцип заключается в том, что все люди несут индивидуальную ответственность за то, чтб они делают из самих себя, и коллективную ответственность за мир, в котором живут. Таков базис универсального диалога. Религиозный принцип — это дар любви Божьей; он служит базисом для диалога между представителями всех религий. Христианский принцип сопрягает внутренний дар любви Божьей с ее внешним проявлением в Иисусе Христе и в тех, кто следует за ним. Таков базис христианского экуменизма.
II
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
Если для общества идеальным базисом служит сообщество, если общество не выживает без значительной доли сообщества, то все же остается фактом, что сообщество несовершенно. В самом деле, чем обширнее и сложнее становится общество, тем более долгое и изощренное образование требуется для того, чтобы обеспечить возможность вполне ответственной свободы. Невежество и некомпетентность усугубляются отчуждением и идеологией. Эгоисты находят в социальных институтах лазейки и пользуются ими, чтобы увеличить свою долю и уменьшить долю других в доступе к наличным элементам частного блага. Группы преувеличивают размеры и значение своего вклада в общество. Они создают спрос на идеологические фасады, призванные оправдать их образ действий в глазах общественного мнения. Если этот обман им удается, социальный прогресс направляется по ложному руслу. То, что является благом для той или иной группы, ошибочно принимается за благо страны или человечества, тогда как благо для страны или человечества отодвигается в сторону или ущемляется. Возникают более богатые и более бедные классы, причем более богатые классы становятся все богаче, а более бедные впадают в нищету и прозябание. Наконец, люди практические руководствуются здравым смыслом. Они погружаются в частное и конкретное, обращая мало внимания на широкие движения или на долговременные тенденции. Они менее кого бы то ни было готовы жертвовать немедленной выгодой ради несравненно большего общественного блага, ожидаемого через два-три десятилетия.
Чтобы справиться с проблемой несовершенного сообщества, общество развивает, во-первых, процедуры и, во-вторых, установления, которые имеют собственную историю. В современных плю-ралистских демократиях существуют многочисленные институции. Будучи в значительной мере основаны на самоуправлении, они ориентированы на достижение самых разных специализированных целей, проистекающих либо из спонтанности человеческой природы, либо из дифференциаций, произведенных развитием человека. Эти институции занимаются подготовкой персонала, распределением ролей и постановкой задач в рамках уже понятых и принятых стилей и способов кооперации, вносят свой вклад в благоустроение, благодаря которому удовлетворяются возобновляющиеся потребности и в
КОММУНИКАЦИИ
котором рождаются высшие смыслы, и в свете этих длящихся результатов пересматривают свои процедуры.
Однако все такие институции подчинены суверенным государствам. Эти государства представляют собой территориальные членения внутри человеческого общества. Они управляются правительствами, которые выполняют законодательную, исполнительную, судебную и административную функции. При надлежащем управлении они способствуют благоустроению внутри общества и карают тех, кто на него посягает.
Но, как уже было отмечено, идеальным базисом для общества служит сообщество. Без достаточной меры сообщества человеческое общество и суверенное государство функционировать не могут. Без постоянного обновления сообщества уже наличная его мера быстро убывает. Поэтому существует потребность в индивидах и группах, а в современном мире также в организациях, которые пытаются убедить людей в необходимости интеллектуального, морального и религиозного обращения и систематически работают над возмещением ущерба, нанесенного отчуждением и идеологией. Среди таких институций должна быть христианская Церковь. К ней, к ее современной ситуации, мы теперь и обратимся.
4. ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ И ЕЕ СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ
Христианская Церковь — это сообщество, возникающее из внешней коммуникации христианского провозвестия и внутреннего дара любви Божьей. Так как благодать подает сам Бог, практическая теология имеет дело с действенной коммуникацией христианского провозвестия.
Провозвестие возвещает, во что христиане должны верить, чем они должны стать, что они должны делать. Следовательно, его смысл — когнитивный, конститутивный, производящий. Он когнитивен, поскольку провозвестие говорит нам, во что надлежит верить. Он конститутивен, поскольку кристаллизует скрытый внутренний дар любви в явное христианское содружество. Он производящий, поскольку направляет христианское служение на человеческое общество ради созидания царства Божьего.
389
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
Сообщать христианское провозвестие означает вести другого к тому, чтобы он разделил твой когнитивный, конститутивный, производящий смысл. Поэтому те, кто будет сообщать когнитивный смысл провозвестия, прежде всего должны его знать. К их услугам — семь предыдущих функциональных специализаций. Далее, те, кто будет сообщать конститутивный смысл христианского провозвестия, прежде всего должны жить им. Ибо если ты не живешь христианским провозвестием, то не обладаешь его конститутивным смыслом; но нельзя разделить с другими того, чем не обладаешь сам. Наконец, те, кто будет сообщать производящий смысл христианского провозвестия, должны практиковать его. Ибо дела говорят громче слов, тогда как проповедь, не переходящая в дела, подобна меди звенящей или кимвалу звучащему [ср. 1 Кор 13, 1].
Христианское провозвестие должно сообщаться всем народам. Это сообщение предварительно требует от проповедников и учителей расширить свои горизонты, чтобы включить в них точное и глубокое понимание культуры и языка народа, к которому они обращаются. Они должны отдавать себе отчет в потенциальных ресурсах этой культуры и этого языка и творчески использовать эти потенциальные ресурсы, чтобы христианское провозвестие стало не разрушительным фактором для культуры, не чужеродной заплатой на ней, а линией развития внутри культуры.
Здесь пролегает базовое различие между проповедью Евангелия как таковой и проповедью Евангелия, как оно развивалось в твоей собственной культуре. В той мере, в какой Евангелие проповедуют, как оно развивалось в собственной культуре проповедника, он проповедует не только Евангелие, но и свою собственную культуру. В той мере, в какой он проповедует свою собственную культуру, он требует от других не только принять Евангелие, но и отречься от своей культуры, чтобы принять его собственную культуру.
Классицист посчитал бы для себя вполне законным навязывать свою культуру другим: ведь он понимает культуру нормативно, а за норму принимает свою собственную культуру. Соответственно, для него проповедовать Евангелие вместе со своей культурой означает сообщать двойное благо: истинную религию и истинную культуру. Плюралист, напротив, признаёт множественность культурных тра-
КОММУНИКАЦИИ
диций. В любой традиции он усматривает возможность расходящихся дифференциаций сознания. Но он не считает своей задачей ни способствовать дифференциации сознания, ни требовать от людей отречения от их собственной культуры. Он предпочел бы продвигаться внутри их культуры в поисках путей и средств, которые сделали бы ее орудием сообщения христианского провозвестия.
Через коммуникацию учреждается сообщество, и наоборот: сообщество учреждает и совершенствует себя через коммуникацию. Соответственно, христианская Церковь есть процесс самоконституирова-ния, Selbstvollzug. Хотя слово «общество» в ней все еще употребляется в средневековом смысле, так что Церковь может быть названа обществом, однако современный смысл этого термина, порожденный эмпирическими социальными исследованиями, побуждает говорить о Церкви как о процессе самоконституирования, которое совершается в универсальном человеческом обществе. Существо этого процесса составляет христианское провозвестие в соединении с внутренним даром любви Божьей, порождающее, как свои следствия, христианское свидетельство, христианское содружество и христианское служение человечеству.
Далее, Церковь есть структурированный процесс. Как человеческое общество, она готовит персонал, распределяет роли и назначает задачи. Она развивает уже понятые и принятые способы кооперации. Она способствует благоустроению, в котором регулярно, достаточно и действенно удовлетворяются нужды христиан. Она содействует духовному и культурному развитию своих членов, побуждает их к преображению их личных и групповых отношений христианской любовью. Она сосредоточивает в себе высшие смыслы, проистекающие из их жизней.
Церковь есть длящийся процесс. Она существует не для себя, но для человечества. Ее цель — осуществить царство Божье не только в своей собственной организации, но во всецелом человеческом обществе, и не только в посмертной, но и в земной жизни.
Церковь есть искупительный процесс. Христианское провозвестие, воплощенное в бичуемом и распятом, умершем и воскресшем Христе, говорит не только о любви Бога, но и о грехе человека. Грех — это отчуждение от подлинного бытия человека, то есть от самотранс -
НИШшв»
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
цендирования, причем грех оправдывает себя посредством идеологии. Если отчуждение и идеология разрушительны для сообщества, то жертвенная любовь, то есть христианское милосердие, примиряет отчужденного человека с его истинным бытием и возмещает ущерб, нанесенный отчуждением и усугубленный идеологией.
Этот искупительный процесс должен осуществляться в Церкви и во всем человеческом обществе. Он затрагивает Церковь как целое и, равным образом, каждую из ее частей. В каждом случае нужно отбирать цели и определять приоритеты. Нужно анализировать ресурсы, и, если их недостаточно, планировать их увеличение. Нужно исследовать условия, которые позволяют задействовать ресурсы для достижения целей. Нужно планировать оптимальное использование ресурсов при наличных условиях, чтобы достигнуть целей. Наконец, нужно координировать между собой различные планы в различных областях и в Церкви в целом.
Благодаря всему этому христианская Церковь способна стать не просто процессом самоконституирования, но вполне сознательным процессом самоконституирования. Однако для этого ей нужно признать, что теология не является в полном смысле человеческой наукой, что она освещает лишь определенные аспекты человеческой реальности, что Церковь может стать вполне сознательным процессом самоконституирования лишь при условии, что теология объединится со всеми другими релевантными отраслями исследований человека.
Возможность такой интеграции предоставляет метод, параллельный методу в теологии. В самом деле, функциональные специализации разыскания, интерпретации и истории могут прилагаться к данным в любой сфере ученых гуманитарных исследований. Точно так же эти три специализации, будучи помыслены не как специализации, а просто как опыт, понимание и суждение, могут прилагаться к данным в любой сфере человеческой жизни с целью получить классические принципы и законы или статистические тенденции в рамках естественнонаучных исследований человека.
Но как в теологии, так и в исторических или эмпирических исследованиях эрудиты и ученые не всегда согласны друг с другом. Следовательно, здесь опять-таки находится место диалектике, кото-
КОММУНИКАЦИИ
рая собирает различия, классифицирует их, доходит до их корней и до последних следствий в развертывании представленных позиций и в опровержении контрпозиций. Теоретическое фундирование, которое объективирует имплицитно присутствующий в религиозном, моральном и интеллектуальном обращении горизонт, может теперь побудить к принятию решения относительно того, чтб является действительно позицией, а что — контрпозицией. Так отфильтровывается любое вторжение идеологии в ученые или научные исследования человека.
Но понятие диалектики способно играть еще одну роль. Оно способно служить инструментом анализа социального процесса и социальной ситуации. Социальный историк будет выискивать примеры того, как работает идеология. Ученый-социолог будет прослеживать ее влияние на социальную ситуацию. Политический деятель будет вырабатывать процедуры как для ликвидации ее дурных влияний, так и для преодоления отчуждения, из которого они проистекают.
Преимущество этого второго применения диалектики заключается в том, что работа историка и ученого непосредственно сопряжена с политикой. Отчуждение и идеология разрушительны для сообщества; сообщество служит подлинным базисом общества; следовательно, чтобы устранить отчуждение и идеологию, нужно содействовать общественному благу.
Однако необходимы, как представляется, оба применения диалектики. Первое применение позволяет историкам и ученым получить из первых рук знание об отчуждении и об идеологии: диалектика прилагается к их собственной работе. Как психиатр в ходе сеансов узнает о своих собственных неврозах, так социальный историк или ученый становятся более чуткими к отчуждению и идеологии в изучаемых ими процессах, если сходные явления были подвергнуты критике в их собственной работе.
Соответствуя доктринам, систематике и коммуникации в богословском методе, интегрированные исследования могли бы провести различение между политической деятельностью, планированием и выполнением планов. Политика имеет дело с позициями и целями. Планирование намечает оптимальное использование наличных ресурсов для достижения целей при данных условиях. Выполнение

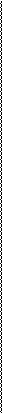 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
создает обратную связь: оно снабжает эрудитов и ученых данными для изучения эффективности политики и действенности планирования. Результатом такого внимания к обратной связи может стать превращение политической деятельности и планирования в длящиеся процессы, непрестанно пересматриваемые в свете их последствий.
Мы обрисовали метод, параллельный методу в теологии: метод, способный интегрировать теологию с учеными и научными гуманитарными исследованиями. Цель такой интеграции заключается в том, чтобы создать хорошо выстроенную и непрестанно пересматриваемую политику и планы для содействия благу и обезвреживания зла — как в Церкви, так и в человеческом обществе в целом. Нет нужды говорить, что подобные интегрированные исследования нужно будет проводить на разных уровнях: локальном, региональном, национальном, интернациональном. Принцип делегирования власти требует, чтобы проблемы определялись и, по мере возможного, решения вырабатывались на локальном уровне. Более высокие уровни будут работать на обеспечение информационных центров, где накопленная информация станет доступной по запросу и таким образом позволит избежать бесполезного дублирования исследований. На этих уровнях также будет проводиться работа над более масштабными и более сложными проблемами, не имеющими решения на низших уровнях, и низшие уровни будут организовываться для сотрудничества в приложении решений ко всем случаям, когда это будет сочтено необходимым. Наконец, есть общая задача координации, детальной разработки вопроса о том, какого рода проблемы преобладают, на каком уровне их лучше всего изучать, как нужно организовать для совместной эффективной работы всех, кто связан с каждым определенным типом проблемы.
Я говорил преимущественно об искупительном действии Церкви в современном мире. Но не менее важно ее конструктивное действие. Ибо эти два действия неотделимы друг от друга: ни одно из них не может обезвредить зло, не принося блага. Но думать исключительно о формировании политики, о планировании операций и об их реализации означало бы весьма поверхностно и абсолютно бесплодно понимать конститутивную сторону христианского действия. Существует гораздо более трудная задача: (1) продвигаться в научном
КОММУНИКАЦИИ
познании; (2) убедить выдающихся и влиятельных людей в необходимости тщательного и непредвзятого анализа этого продвижения; (3) после этого убедить политиков и людей, занятых планированием, в том, что продвижение существует, и что оно подразумевает такие-то и такие-то пересмотры текущей политики, планирование таких-то и таких-то последствий.
В завершение позвольте мне сказать, что такие интегрированные исследования отвечают глубокой потребности, существующей в нынешней ситуации. Ибо наше время — это время возрастающих изменений, вызванных возрастающим расширением познания. Чтобы работать на уровне сегодняшнего дня, нужно прилагать наилучшее доступное знание к наиболее эффективным техникам, координируя групповые действия. Но попытки соответствовать этому современному требованию одновременно вовлекут Церковь в движение непрестанного обновления. Оно устранит широко распространенное впечатление удобного безразличия и пустоты ее действий, заставит теологов вступить в тесный контакт с экспертами в самых разных областях. Оно заставит их вступить в контакт с политиками, с разработчиками планов, а через них — с церковными и светскими работниками, дело которых — прилагать решения к проблемам и находить пути к удовлетворению нужд христиан и всего человечества.
5. ЦЕРКОВЬ И ЦЕРКВИ
Я все время говорю расплывчато: христианская Церковь. Фактически Церковь разделена. Существуют разные вероисповедания; защищаются разные понимания Церкви; разные группы сотрудничают по-разному.
Несмотря на эти различия, существует как реальное, так и идеальное единство. Реальное единство — это ответственность перед единым Господом в едином Духе. Идеальное единство — это плод молитвы Христовой: «Да будут все едино...» (Ин 17, 21). В настоящее время таким плодом является экуменизм.
В той мере, в какой экуменизм представляет собой диалог между теологами, наши главы о диалектике и доктринах предлагают некоторые методологические идеи. Но экуменизм — это также диалог
Htliiiilriff

| Гадамер, Х.Г. 184, 188, 319, 344 Гайзельман, И. Р. 347 Галилей, Г. 113,284 Гегель, Г.В.Ф. 66,113, 233, 289 Гейзенберг, В. 342 Гейл 229, 252 Гераклит 108,115 Геродот 108 Гесиод 107 Гильдебранд, Д. 44 Гомер 104, 107, 286 Гуссерль, Э. 97, 114, 235, 289, 290 Гюнтер, А. 351 д Даниелу, Ж. 326 Дарвин, Ч. 341 Декамп, А. 191 Декарт, Р. 247, 286, 287, 343 Денцингер, Г. 189, 297, 322, 358 Джэнов, А. 84 Дильтей, В. 232, 234, 235, 289, 344 Дройзен, И.Г. 219, 220, 221, 232, 344 Дуне Скот 362 |
| Зенон 108 Зиммель, Г. 159 И Игнатий Лойола 123 Иоанн Дамаскин 322 |
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
между церквами, а он в значительной мере ведется в рамках Всемирного совета церквей и согласно директивам отдельных церквей. Примером такой директивы может служить декрет об экуменизме, принятый Вторым Ватиканским собором.
Если наличие разделения и трудности в восстановлении единства глубоко плачевны, то все же нельзя забывать, что разделение затронуло преимущественно когнитивный смысл христианского провозвестия. Его конститутивный и производящий смыслы — это те аспекты, относительно которых между христианами наблюдается весьма широкое согласие. Но это согласие нуждается в выражении. В ожидании общего когнитивного согласия возможным выражением может стать сотрудничество в осуществлении искупительной и конструктивной ролей христианской Церкви в человеческом обществе.
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абеляр 305, 323
Августин 54, 152, 265, 286, 287,
336, 363 Адлер, А. 83 Ансельм Кентерберийский 305,
335, 363 Аристотель 17, 56, 90, 98, 99, 112,
195, 284, 286, 301, 307, 308,
323, 337, 343, 355, 362 Арон, Р. 228,230
Б
Баньес,Д. 307
Барт, К. 345
Беккер, К. 216, 225, 226, 244, 245,
246, 255, 256, 270 Бергсон, А. 289 Беркли, Дж. 289 Бернхайм, Э. 221, 244 Блондель, Ш. 113,289,343 Бодуэн, Ш. 83 Бор, Н. 273 Брентано, Ф. 114 Бультман, Р. 189, 205, 216, 345 Буркхард, Я. 275
В
Вебер, М. 228, 250, 254, 274 Вергилий 116 Вергот, А. 83 Вико,Дж. 88,227,252 Винсент Леринский 348 Витгенштейн, Л. 279
 ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
 |
| Нестор 372 Ньюмен, Дж.Г. 188, 247, 276, 286, 287, 343, 365 Ньютон, И. 195,341 Нэмир,Л. 243 О Ориген 321 П Паскаль, Б. 133,287 Петр Ломбардский 307, 336, 373 Пиаже, Ж. 41, 42, 44 Плавт 115 Платон 98, 99, 115, 284, 301, 362 Прокл 208 Псевдо-Дионисий 208 |
Иоанн св. Фомы 307 Ириней 321, 322, 377 Исократ 114
К
Кано, М. 307
Капреол,И. 307
Кассирер, Э. 102, 109, 113,193, 280
Каэтан, Томмазо де Вио 307
Келлер, X. 86
Клёйтген, И. 366
Климент Александрийский 322,
333, 346, 356, 372 Коллингвуд, Дж.Р. 184, 185, 194,
| Ранер, К. 123, 266, 358, 383 Ранке, Л. фон 205, 218, 275, 344 Рикёр, П. 83 |
208, 226, 227, 228, 241, 249 Конт, О. 223 Коперник, Н. 341 Ксенофан 107, 333, 346, 372 Куланж, Ф. де 251 Кьеркегор, С. 96, ИЗ, 289, 343
Л
| Сеньобос, Ш. 221, 222 Симеон Столпник 246 Снелл, Б. 107, 115, 193, 286, 330 Спиноза, Б. 113 |
Лангер, С. 76 Ланглуа, Ш. 221, 222 Лаплас, П.С. 250 Леви-Брюль, Л. 109, 110 Лютер, М. 213
| м | |
| Мазлиш, Б. 252 | Т |
| МакКиннон, Э. 279 | Тереза Авильская 300 |
| Малиновский, Б. 106 | Теренций 115 |
| Манси, Дж.Д. 351 | Тертуллиан 321 |
| Марру, А.-И. 229, 230, 243, 250, | Тиллих, П. 123 |
| 251, 252 | Тойнби,А. 251,252 |
| Маслоу, А. 54 | Трейси, Д. 10 |
| Менандр 115 | |
| Милль,Дж.С. 229 | Ф Филипп Канцлер 336 |
| Н | Финанс, Ж. де 55,261 |
| Нерон 213 | Фома Аквинский 44, 182, 184, 185, |
189, 265, 284, 286, 307, 335, 362, 363, 364, 367, 373, 379, 380
Францелин, И.Б. 351
Фрейд, 3. 83, 84, 252, 341
Фрёр, К. 344
Фридрих Вильгельм III 213
Фрошаммер, Я. 351
Фукидид 227, 228
Хайдеггер,М. 189,235 Хойси, К. 213, 216, 236, 237, 238, 243
Ш
Шарден, Т.де 342
Шелер, М. 47, 73, 74, 299 Шлегель, Ф. 181 Шопенгауэр, А. 113, 343
Э
Эвклид 173,236 Эддингтон, А.С. 100, 284, 300 Эйнштейн, А. 195 Элиаде, М. 84, 300 Эмпедокл 115
Ю
Юм, Д. 30, 36, 245, 289 Юнг, К. 83
Я
Ясперс, К. 287, 288, 290
– Конец работы –
Используемые теги: метод, теологии0.048
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
| Твитнуть |
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?







Новости и инфо для студентов