рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры
- Раздел Образование
- /
- ОБЩАЯ МОРФОЛОГИЯ
Реферат Курсовая Конспект
ОБЩАЯ МОРФОЛОГИЯ
ОБЩАЯ МОРФОЛОГИЯ - раздел Образование, Московский Государственный Университет Им. М. В. Ломоносова ...
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. М. В. ЛОМОНОСОВА
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
В.А.Плунгян
ОБЩАЯ МОРФОЛОГИЯ
Введение в проблематику
Библиотека
Эдиториал УРСС • Москва • 2000
Издание осуществлено при поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) в рамках конкурса «Новая учебная литература по лингвистике и… Рецензенты: д.ф.н. В.М.Алпатов, д.ф.н., профессор Л. Е. Кибрик, д.ф.н.,… Плунгян ВладимирАлександровичОглавление
Предисловие ...................................... 7
Часть первая
Введение и элементы морфемнки 12
Глава 1. Объект морфологии и ее основные единицы ........... 12
§ 1. Объект морфологии и место морфологии в модели языка . 12
1.1. О термине «морфология» ................... 12
1.2. Определение объекта морфологии .............. 13
1.3. Морфологический уровень языка .............. 16
§ 2. Понятие «слова» (словоформы) в морфологии:
словоформы, морфемы и клитики ................. 18
2.1. Типичные словоформы и свойство автономности ... 18
2.2. Другие свойства словоформ .................. 20
2.3. Клитики ............................... 28
2.4. Линейно-синтагматический континуум .......... 32
Ключевые понятия ........................... 35
· Основная библиография ....................... 35
Гпава 2. Понятие морфемы: единицы и операции .............. 37
§ 1. Аддитивная модель морфологии и отклонения от нее.... 37
1.1. Кумуляция ............................. 40
1.2. Идиоматичносгь.......................... 46
1.3. Контекстная вариативность и фузия ............ 53
§ 2. Несегментные морфемы ....................... 67
§3. Аддитивно-фузионный континуум. ................ 70
§4. О трех моделях морфологии ..................... 71
Ключевые понятия ........................... 78
Основная библиография ....................... 79
Глана 3. Корни и аффиксы ............................ 81
§ 1. Определения корня и аффикса ................... 81
§ 2. Позиционные типы аффиксов ................... 88
2.1. Префиксы и суффиксы ..................... 88
2.2. Нелинейная аффиксация: инфиксы и трансфиксы . . 91
2.3. Циркумфиксы: проблема полиаффиксов ......... 95
2.4. Интерфиксы: аффикс или морфоид? ............ 97
Ключевые понятия ........................... 99
Основная библиография ....................... 99
Часть вторая
Элементы грамматическойсемантики 100
Глава 1. Классификация морфологических значений ............ 100
§ 1. Понятие морфологического значения .............. 100
§2. Классификация морфологических значений .......... 103
2.1. Грамматические и не грамматические значения ..... 103
2.2. Понятие обязательности в морфологии .......... 106
2.3. Грамматическая категория, лексема и парадигма .... 113
§ 3. Неграмматические (словообразовательные и лексические)
значения .................................. 120
§4. Разбор некоторых трудных случаев:
«грамматическая периферия» .................... 130
4.1. Неморфологически выражаемые грамматические
значения ............................... 130
4.2. «Квазиграммемы» ........................ 133
4.3. Импликативная реализация граммем ............ 136
4.4. Феномен «частичной обязательности» .......... 138
Ключевые понятия ........................... 140
Основная библиография ....................... 141
Глава 2. Основные синтаксические граммемы имени ............ 142
§ 1. Согласовательный класс ....................... 142
1.1. Понятие согласования ...................... 142
1.2. Согласование и согласовательный класс ......... 146
1.3. Типы согласовательных систем ................ 151
1.4. Согласовательный класс, конверсия и субстантивация 157
1.5. Согласовательные классы и классификаторы ...... 159
§2. Падеж .................................... 161
2.1. Основные функции падежа .................. 161
2.2. Инвентарь падежей в языках мира ............. 167
2.3. Морфологические типы падежей .............. 172
2.4. Типология падежных систем ................. 180
2.5. Согласуемый падеж ....................... 182
§3. Изафет и другие типы «вершинного маркирования» .... 184
Ключевые понятия ........................... 187
Основная библиография ....................... 188
Глава 3. Залог и актантная деривация ..................... 191
§ 1. Общее представление о залоге ................... 191
§2. К основаниям классификации залогов .............. 195
2.1. Пассивные конструкции с нулевым агенсом ....... 199
2.2. Пассивные конструкции без повышения статуса
пациенса............................... 202
§ 3. Другие типы залогов .......................... 204
3.1. «Синтаксический залог» , отличный от пассива .... 204
3.2. «Прагматический» и «инверсивный» залоги ....... 206
§4. Актантная деривация .......................... 208
4.1. Повышающая деривация .................... 209
4.2. Понижающая деривация .................... 212
4.3. Интерпретирующая деривация ................ 214
§5. Диахронические факторы ....................... 219
Ключевые понятия ........................... 220
Основная библиография ....................... 221
Глава 4. Проблемы описания семантических граммем ........... 225
§ 1. Что такое значение граммемы.................... 225
1.1. Проблема семантического инварианта граммемы . . . 228
1.2. Структура значений граммемы ................ 231
§ 2. Требования к типологическому описанию граммем ..... 233
§ 3. Грамматические категории и части речи ............. 238
3.1. К основаниям выделения частей речи:
существительные и глаголы .................. 238
3.2. Проблема прилагательных ................... 242
3.3. Семантические типы предикатов .............. 245
3.4. Грамматическая классификация лексем .......... 249
Ключевые понятия ........................... 249
Основная библиография ....................... 250
Елава 5. Дейктические и «шифтерные» категории.............. 253
§ 1. Характеристики речевого акта ................... 253
§2. Лицо и грамматика ........................... 254
2.1. Число и инклюзивность у местоимений .......... 256
2.2. Согласовательный класс .................... 257
2.3. Логофорические местоимения ................ 258
2.4. Вежливость ............................. 258
2.5. Согласование по лицу с глаголом .............. 259
§3. Дейктические системы: пространственный дейксис ..... 261
§4. Временной дейксис (время, временная дистанция)
и таксис .................................. 264
4.1. Совпадение во времени: чего с чем? ............ 265
4.2. Как понимать предшествование? .............. 266
4.3. Следование во времени: в каком смысле? ........ 267
4.4. Временная дистанция ...................... 269
4.5. Таксис ................................ 271
Ключевые понятия ........................... 273
Основная библиография ....................... 274
1лава б. Именные семантические зоны..................... 277
§ 1. Субстантивное число и смежные значения ........... 277
1.1. Вторичные значения граммем числа ............ 281
1.2. Число как глагольная категория ............... 283
§2. Детерминация .............................. 284
Ключевые понятия ........................... 289
Основная библиография ....................... 290
Лава 7. 1лагольные семантические зоны ................... 291
§ 1. Аспект ................................... 292
1.1. Общее представление о глагольном аспекте ....... 292
1.2. Количественная аспектуальность .............. 294
1.3. Линейная аспектуальность ................... 296
1.4. Фазовость .............................. 303
§2. Модальность и наклонение ..................... 308
t 2.1. Общее представление о модальности ............ 308
2.2. Оценочная модальность..................... 309
2.3. Ирреальная модальность .................... 312
2.4. Грамматикализация модальности: наклонение. ..... 317
2.5. Эвиденциальность ........................ 321
Ключевые понятия ........................... 325
Основная библиография ....................... 327
Приложение. Поморфемная нотация ...................... 330
Список литературы .................................. 334
Именной указатель .................................. 355
Указатель языков ................................... 361
Указатель терминов.................................. 374
Памяти Татьяны Вячеславны Булыгиной (1929-2000)
Предисловие
Морфология существует столько же, сколько существует лингвистика. Ее объект — слова (то есть, собственно, то, что в первую очередь отождествляется с человеческим языком в целом и выступает как символ языка) и их части. Знание основ морфологии очевидным образом необходимо всякому лингвисту, и в особенности начинающему, для которого эта книга и предназначена в первую очередь.
В последние 10-15 лет в развитии морфологии произошли, как известно, значительные перемены. Эта область, в 60-70 гг. считавшаяся традиционной и малоинтересной для теоретиков, неожиданно вновь привлекла самое пристальное внимание лингвистов, причем именно тех, которые хотели бы найти объяснение наблюдаемым особенностям языковой структуры в целом и пределам разнообразия человеческих языков. Резко увеличилось число публикаций по морфологии; выходит несколько специальных журналов, посвященных исключительно (как издающийся в Нидерландах «Yearbook of Morphology») или в значительной степени морфологическим проблемам (как ведущие типологические журналы «Studies in Language», «Linguistic Typology» и др.). Рост интереса к морфологии неслучайным образом совпал с изменением теоретических приоритетов и переоценкой ценностей внутри лингвистики в целом, приблизительно с начала 80-х гг. вступившей в «постструктуралистский» (и «постгенеративистский») период.
Все это означает, что современная морфологическая проблематика уже достаточно заметно отличается от традиционной, и ориентироваться в ней неподготовленному исследователю нелегко; для нашей страны следует учесть также специфические проблемы, связанные с языковым барьером и тенденцией к теоретическому изоляционизму, характерной для нескольких предыдущих десятилетий. (Излишне повторять, что для выбора собственного пути полезно знать, по какому пути идут другие.)
Поэтому непосредственное назначение данной книги — дать сжатый обзор тех проблем современной морфологии, которые автору представлялись наиболее важными; задача же самостоятельного выбора решений в значительной степени возложена на читателя. Те, кто ожидает найти в книге готовые рецепты и преподнесенные в догматической форме «общепризнанные» истины будут, возможно, разочарованы; но, по моему глубокому убеждению, даже введение в научную проблематику не должно превращаться в сборник дидактических упражнений — изложение достигает цели только тогда, когда с самого начала строится в расчете на сотворчество читателя.
Сказанное определяет общую структуру, композицию и, если так можно выразиться, идеологические особенности книги. Если первая часть книги, как и следует ожидать, посвящена определению задач и объекта морфологии, а также описанию свойств внешней стороны основных морфологических единиц (морфемы и словоформы), то вторая часть — более чем в два раза превосходящая первую по объему — посвящена проблемам грамматической семантики, т.е. описанию внутренней стороны морфологических единиц. Вторая часть начинается именно там, где большинство традиционных руководств по морфологии фактически ставят точку; тем не менее, автор полагает, что «нерв» современной морфологии — именно в этой области. Черты самого яркого своеобразия каждого языка — в его грамматической системе; и один из важнейших ключей к пониманию грамматических систем дает именно морфология.
Другой важной особенностью данной книги является стремление к сбалансированному представлению синхронных и диахронических данных. Вполне очевидно, что привлечение диахронического аспекта позволяет многое понять в природе языка, в том числе и в устройстве его морфологического компонента; но обращение к диахронии на практике происходит гораздо реже, чем следовало бы, особенно в типологии.
Наконец, данная книга последовательно типологична. Конечно, материал европейских языков занимает в ней большое место, а материал русского языка сознательно приводится всюду, где он может проиллюстрировать нетривиальные морфологические явления; тем не менее, теория языка не может оправдать свое название, если она игнорирует свойства 95 % известных на Земле языков. В какой-то степени автор использовал и свой опыт полевой работы с африканскими, кавказскими и финно-угорскими языками; но в еше большей степени, конечно, были использованы доступные лингвистические описания. Вместе с тем, задачи до предела насытить книгу примерами не ставилось: примеры можно найти в специальной литературе, гораздо важнее — знать, что именно и как следует искать. Автор вполне отдает себе отчет, что в обширном языковом материале, приводимом в книге, возможны неточности, и будет благодарен за любые исправления.
Читателя не должно смущать, что в рассуждениях о ключевых понятиях морфологии постоянно подчеркивается их расплывчатый и недискретный характер и обилие переходных случаев. Это — не «недостаток» (который, как иногда думали раньше, следует во что бы то ни стало устранить «научным» упрощением), а родовое свойство языка (как и человеческого мышления и восприятия мира). Лингвистика нуждается в осмыслении феномена недискретности и в таком теоретическом аппарате, который позволил бы максимально адекватно отразить то, что делает человеческий язык человеческим языком.
Необходимо также сказать несколько слов о том, как соотносится данная книга с другими аналогичными публикациями. Автору известно
около десятка «введений в морфологию», опубликованных в последние годы на английском, французском и немецком языках; три-четыре из этих книг — очень хорошего уровня. Среди них есть пособия, в большей степени ориентированные на какую-то одну теорию или группу теорий (как превосходное введение в генеративную морфологию Спенсера* или монографии Мэтьюза), но есть и такие, которые стремятся представить более разнообразную панораму взглядов (как книги Бауэра или Карстейрза), что очень близко и нашему замыслу. Существуют также обобщающие работы ведущих европейских и американских морфологов, которые излагают свои собственные взгляды: это в первую очередь труды Джоан Байби, Стивена Андерсона, Вольфганга Дреслера, уже названных Мэтьюза и Карстейрза и многих других. Это — «авторские» работы, которые мы по мере возможности старались учесть и представить в книге, но они рассчитаны на профессиональных лингвистов (часто узких специалистов), а отнюдь не на начинающих.
К сожалению, на русском языке в последнее время работ и первого, и второго типа практически не было. Существует прекрасная теоретическая работа Т. В. Булыгиной (знакомство с которой безусловно необходимо начинающему морфологу), но эта книга все же является научной монографией, а не учебником, и, кроме того, она опубликована в 1977 г.; тем самым, многие важные проблемы современной морфологии в ней просто не могли быть отражены. С другой стороны, имеется теоретическое исследование В. Б. Касевича, опубликованное в 1988 г. и в несколько большей степени рассчитанное на начинающих; однако в целом очень полезная книга В. Б. Касевича является, скорее, введением в теорию языка, чем в морфологию как таковую, которой посвящена хоть и значительная, но все же ограниченная по объему одна из пяти глав (при этом как раз вопросы, связанные с грамматическими категориями, в ней изложены наиболее эскизно).
С другой стороны, почти одновременно с написанием этой книги, в переводе на русский язык появился фундаментальный «Курс общей морфологии» И. А. Мельчука (в момент написания этих строк вышло из печати два тома). Не делает ли появление книги И. А. Мельчука ненужной создание во многом аналогичной по замыслу работы? Думаю, что все же нет; более того, в некотором смысле существование «на фоне Мельчука» для любого другого введения в морфологию очень полезно. Дело в том, что «Курс общей морфологии» представляет собой (и это его бесспорное достоинство) цельную авторскую концепцию морфологии; но в нем нет (или почти нет) обзора других точек зрения, панорамы взглядов, обсуждения разных решений — и именно такой информацией его необходимо дополнить. Поэтому данную книгу можно при желании рассматривать и как своего рода послесловие или комментарий к «Курсу»
· Соответствующие издания будут более подробно охарактеризованы в Части первой; все упоминаемые здесь работы отражены в библиографии в конце книги.
И. А. Мельчука (в переводе которого мне довелось принять участие и ко-торый оказал на мое понимание проблем морфологии самое глубокое -влияние). Идеальной ситуацией было бы параллельное чтение настоящей книги и «Курса обшей морфологии», присутствие которого на наших страницах в виде ссылок, примечаний, полемики, терминологических Заимствований и т. п. читатель будет ощущать постоянно. « Таким образом, помимо языкового разнообразия, одним из главных предметов заботы автора было разнообразие мнений и теорий: хотелось цеупустить возможности хотя бы упомянуть имена и идеи ведущих зарубежных лингвистов, многие работы которых у нас, к сожалению, .труднодоступны. Этой цели служат и специальные библиографические указания, помещаемые в конце каждой главы (наряду со списком ключевых понятий, представляющим собой как бы резюме предшествующего текста). Конечно, один человек не в состоянии учесть все написанное по проблемам морфологии; и выбор, и анализ литературы в очень боль-щой степени отражает не только авторские возможности, но и личные авторские вкусы и пристрастия. Кроме того, автор во многих случаях сознательно стремился наряду с общеизвестными и классическими работами представить те работы своих ближайших коллег, которые казались ему заслуживающими внимания; надо полагать, эти отступления pro domo sua не покажутся читателю нарочитыми.
Работа с этой книгой в целом не требует никакой специальной подготовки (кроме известной общенаучной культуры): большинство общелингвистических и практически все морфологические понятия так или иначе разъясняются в тексте; при возникновении затруднений рекомендуется также обращаться к указателю терминов, помещенному в конце книги. Тем не менее, ход авторских рассуждений будет восприниматься гораздо успешней при наличии хотя бы самых элементарных представлений об устройстве языка в целом и о роли фонологического и синтаксического компонента в структуре языка. Желательно также общее знакомство с «лингвистической картой мира» и, в частности, с ареальной и генеалогической классификацией языков: соответствующие данные приводятся в указателях, но в основном тексте книги они, как правило, отсутствуют.
Из сказанного следует, что круг возможных читателей книги предполагается достаточно широким и разнообразным. В первую очередь это студенты, углубленно изучающие морфологию в рамках специальности «Теоретическая и прикладная лингвистика», а также студенты специальностей «Филология» и «Лингвистика и межкультурная коммуникация», которым морфологическая проблематика сообщается в курсах «Введение в языкознание», «Общее языкознание», «Теория языкознания», «Теоретическая грамматика», в циклах специальных дисциплин и т. п. При начальном знакомстве с предметом особенно полезен будет материал, содержащийся в Главах J и 3 Части первой, а также в §§ 1-3 Главы 1 и Главе 4 Части второй. Однако помимо начинающих лингвистов и филологов, данная книга вполне может быть рекомендована в качестве
компактного справочника по основным проблемам современной морфологии студентам старших курсов, аспирантам и всем, кто занимается самостоятельными научными исследованиями в этой области.
В заключение хотелось бы выполнить приятный долг и поблагодарить всех, кто помогал мне на разных этапах подготовки этой книги. Первым в этом ряду несомненно следует назвать А. Е. Кибрика, по приглашению и при неизменной поддержке которого я с 1993 г. преподаю на Отделении теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ им. М. В.Ломоносова общую и русскую морфологию; именно настойчивость, энергия и оптимизм Александра Евгеньевича побудили меня начать работу над учебником и помогли довести ее до конца.
На всех стадиях работы я ощущал сочувствие, понимание и бескорыстную помощь моей жены Е. В. Рахили ной, которой я благодарен также и за многочисленные советы и критические замечания, способствовавшие улучшению рукописи. Готовая работа была необычайно внимательно и конструктивно прочитана В. М.Алпатовым, А. Е. Кибриком, Е. В. Клобуковым, А. И. Кузнецовой, Т. А. Майсаком и Н. В. Перцовым; окончательный вариант был также просмотрен — полностью или частично — С. Г. Татевосовым, А. Г. Беловой, Е. К. Скрибник, Ю. Е. Галяминой и П. В. Гращенковым. В результате были устранены многие неточности и недочеты изложения, возникли новые интересные примеры и интерпретации, расширена библиография и т. п. — все это позволило данной книге принять окончательный (и, надеюсь, гораздо более приемлемый для читателя) вид; разумеется, все возможные ошибки и недостатки остаются целиком на моей ответственности.
При подготовке рукописи к печати неоценимую помощь мне оказала М. М.Ровинская, практически полностью взявшая на себя технические проблемы правки, сверки, корректуры и прочего, что таким невыносимым грузом обычно ложится на плечи автора; ею же были составлены именной указатель и указатель языков (в работе над последним также принимал участие Д. В. Сичинава) и внесены исправления и уточнения в библиографию.
Я признателен руководителям и сотрудникам программы Высшее образование (Институт Открытое общество—Фонд содействия), в рамках которой были выделены средства на подготовку и издание данной работы, отобранной, в числе других монографий, для включения в серию учебных пособий по лингвистике.
Работа над первоначальным вариантом рукописи была в основном завершена к апрелю 1999 г., однако целый ряд важных поправок и уточнений как содержательного, так и технического характера были внесены осенью и зимой 1999 г. в ходе моей работы над проектом по типологии грамматических категорий в университете г. Киля (Германия), поддержанным фондом им. А. фон Гумбольдта.
Москва, июнь 2000 г.
ВВЕДЕНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ МОРФЕМИКИ
В данной части будут рассмотрены как общие проблемы, касающиеся содержания самого понятия «морфология» и определения объекта морфологии, так и проблемы, связанные с описанием центральных единиц морфологии — морфемы и слова (словоформы). Будут кратко охарактеризованы также различные подходы к морфологическим явлениям, предлагавшиеся в существующих теориях языка.
Глава 1
Объект морфологии и ее основные единицы
Объект морфологии
И место морфологии в модели языка
Слово «морфология* составлено из двух древнегреческих корней и в переводе означает, собственно, 'учение о форме* (ср. традиционный немецкий аналог… В лингвистике, однако, значение этого термина (несмотря на авторитет Гёте,… '* Важную роль здесь сыграли работы одного из основателей так называемого «натуралистического направления» в…Определение объекта морфологии
2* По-видимому, главное уточнение, которое следует внести в эту общую формулировку, состоит в том, что морфология занимается словом и единицами,… ' Термин словоформа впервые был предложен московским германистом и теоретиком… ляется как описание свойств слова и его (значащих) частей (ср. приведен-; ную выше формулировку И. А. Мельчука). Те…Таблица 1
Различные взгляды на объект морфологии («схема Гиро—Булыгиной»)
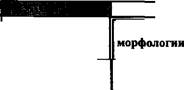
|
| Формы и -^^^^^^^»^»^ш^ (1) Традиционная область |
Значения
| Слова и их части |
| Конструкции (сочетания слов) |
| (3) «Формальные» концепции морфологии vs. синтаксис |
(2) «Словесные» концепции морфологии vs. традиционный синтаксис
(4) Область синтаксической семантики
Как можно видеть из этой таблицы, наиболее традиционное понимание морфологии ограничивало ее объект «формами слов» (т. е. описанием того, из каких значимых частей могут состоять словоформы данного языка и по каким правилам происходит соединение этих частей в единое слово). Следует уточнить, что традиционную морфологию интересовали даже не любые морфемы в составе слова, а преимущественно грамматические; ее задачей, таким образом, оказывалось лишь описание формальных механизмов словоизменения («парадигм»). Описание словообразовательных механизмов целиком относилось к ведению лексикологии; что касается значений грамматических морфем, то и их описание из морфологии исключалось и считалось задачей синтаксиса. Так, во многих традиционных грамматических описаниях какого-либо языка еще совсем недавно
в разделе «Синтаксис» можно было найти параграф, озаглавленный, например, «Употребление глагольных форм»: это «употребление» и было ге переводе на современную терминологию) описанием морфологической семантики словоизменительных глагольных показателей. А в конце XIX -начале XX вв. подобный взгляд на «разделение труда» между синтаксисом и морфологией был скорее правилом, чем исключением.
При этом, конечно, проблемы грамматической семантики оставались существенно менее разработанными. Асимметрия «формального» и «содержательного» плана в традиционных (да и во многих современных) описаниях языков нередко поражает: вполне типичной является ситуация, когда правилам образования какой-нибудь «основы перфекта» посвящена не одна страница, тогда как значению тех же самых «перфектных» форм — всего лишь несколько невнятных строчек. По мере возможности, мы постараемся исправить эту асимметрию, предложив (во второй части) максимально подробный обзор достижений современной грамматической семантики.
В дальнейшем в лингвистической теории возобладало расширенное понимание задач морфологии. Попытки расширения происходили в двух направлениях: «формальном», от клетки (1) к клетке (3) нашей схемы, и «словесном», от клетки (1) к клетке (2). При «формальном» понимании в морфологию — в соответствии с буквальным значением этого термина — включается все то, что имеет отношение к описанию «формы», будь то форма слова или конструкции; тем самым морфология (полностью оправдывая свое название) вторгается в традиционно синтаксическую область. Такой взгляд, популярный в особенности в 20-30 гг., в период резкой смены традиционной парадигмы (и защищавшийся самыми разными исследователями от И. А. Бодуэна де Куртенэ и Ф. де Соссюра до О. Есперсена и В. Матезиуса), несмотря на его логичность, не получил распространения в дальнейшем. В настоящее время преобладает, как мы уже убедились, «словесный» подход, согласно которому к морфологии имеет отношение все то, что выражается «внутри слова» (будь то содержательные или формальные аспекты его устройства). Именно этот подход отражен в процитированном в начале определении И. А. Мельчука; он был свойствен уже многим представителям европейского и американского структурализма 30-40 гг. (В. Брёндаль, Л. Блумфилд и др.).
В отечественной русистике встречается и несколько иное понимание объекта морфологии, согласно которому задача морфологии сводится к описанию словоизменения (как и при традиционном подходе), но, в отличие от традиционного подхода, значения грамматических показателей также рассматриваются в рамках морфологического (а не синтаксического) описания. Эта точка зрения последовательно проводится, например, в Академической грамматике русского языка (ср. [Плотникова 1980]) или в очерке [Милославский 1989]. Представленный в настоящей книге более широкий подход к морфологии (при котором в морфологию включается как словообразование, так и словоизменение) обусловлен прежде всего ее типологической ориентацией. Не во всех языках существуют
словоизменительные морфемы; тем не менее, представляется естественным говорить о морфологическом описании и применительно к таким языкам, в которых имеются словообразовательные морфемы, но отсутствуют словоизменительные. Число таких языков, как полагал еще Дж. Гринберг [!966: 138], значительно. Кроме того, граница между словоизменением и словообразованием для целого ряда языков далеко не так очевидна (см. подробнее Часть вторая, Га. 1), поэтому включение в морфологию любых «внутрисловных» значений, независимо of их грамматического статуса, представляется методологически более надежным.
В настоящей книге, как правило, не рассматриваются более специальные задачи, связанные со словообразовательным анализом слов, т. е. с описанием отношений, связывающих пары типа стрелять ~ стрелок или слушать ~ подслушивать (но см., впрочем, материал следующей главы, особенно раздел 1.2). Тем самым, наше изложение ориентировано, скорее, на грамматический анализ слова (в духе словаря [Зализняк 1977]), дополненный его морфемным анализом (в духе словаря [Кузнецова/Ефремова 1986]), чем на чисто словообразовательный анализ (в духе словаря [Тихонов 1985])4'.
Указанное понимание объекта морфологии опирается на некоторые общепринятые в современной лингвистике (или, по крайней мере, разделяемые большим числом независимых друг от друга теорий языка) представления об устройстве языка в целом, об уровнях языка и единицах каждого уровня; ниже мы кратко воспроизведем эти представления в том объеме, который необходим для анализа морфологической проблематики. Проблемы морфологии во многом связаны с тем, как проводится граница между морфемой и единицами меньшими, чем морфема, с одной стороны, и между словоформой и единицами большими, чем словоформа, с другой стороны. На этих проблемах мы также остановимся.
Морфологический уровень языка
' Отличие двух подходов наглядно проявляется в трактовке многих примеров. Так, в словаре [Тихонов 1985] глагол приобрести описывается как… порядка сложности называется уровнем, а модель языка в целом (т. е.… Принято выделять по крайней мере следующие четыре уровня: уровень фонем, или минимальных смыслоразлмнительных единиц;…Понятие «слова» (словоформы) в морфологии: словоформы, морфемы и клитики
В самом общем виде феномен словоформы можно охарактеризовать как такой морфемный комплекс, между составными частями которого существуют особенно… Естественные языки образуют континуум, на одном полюсе которого находятся… 6' Термин «морфемные» применительно к таким языкам несколько менее удачен, поскольку предполагает, что наряду с ними…Понятия модальности, детерминации, аналитизма будут подробнее разъяснены ниже, в Га. 7, 6 и / Части второй соответственно.
Исторически данная форма в португальском н других романских языках действительно восходит к сочетанию инфинитива с презенсом глагола 'иметь*.… Словоформы существительных, которые могут быть описаны как содержащие… Конечно, словоформа, которая включает в свой состав единицу, не являющуюся ни аффиксом, ни корнем, с теоретической…О трех моделях морфологии
остальные способы трактуются как своего рода отклонения от нормы и, соответственно, для данной техники описания оказываются в той или иной степени… Основные модели морфологии сложились в общих чертах еще в эпоху классического… Альтернативой элементно-комбинаторному подходу является элементно-операционный подход. В отличие от первого, данный…Глава 3
Корни и аффиксы
Определения корня и аффикса
Рассмотрим слово стаканчик. Вряд ли кому-то придет в голову отрицать, что это слово членится на две морфемы (не считая нулевой), из которых первая… Вообще говоря, между элементом стакан- и элементом -чик- различий очень… и начать искать просто любую морфему, которая могла бы соседствовать с морфемой стакан в пределах одной словоформы, то…Dro- 'кулаком
ра- 'острым режущим орудием' to*- 'тонким и острым колющим орудием (типа иголки)' Mi- 'веревкой, ниткой, булавкой' и др.Gt;3' Ср.: «...интерфиксы, с нашей точки зрения, не являются морфемами: они полностью лишены значения» [Касевич 1988: 129]; см. также [Касевич 1986: 83-95].
писа-ть, кипе-ть или копш-ть). Между тем, например, гласная -и- в русских глаголах типа бел-и-ть или гаяос-и-ть явным образом имеет самостоятельное значение: она образует отыменные глаголы (от основ бел- н голос-) с вполне определенной семантикой (в терминологии [Мельчук 1998] это трансформативное и узитативное значения соответственно). Аналогично, латинское -а- в глаголе ЪеИ-а-те 'воевать' является не «тематической гласной первого спряжения», а полноценной морфемой, образующей от существительного X (в данном случае, bell.um 'война') глагол со значением к 'создавать X'.
Ключевые понятия
Корень и аффикс как разные дистрибутивные классы морфем. Невозможность определить корень, опираясь на значение, позицию в словоформе, обязательность присутствия в словоформе.
Позиционная классификация аффиксов. Прототипические аффиксы: префиксы и суффиксы («конфиксы»); позиционно подвижные конфиксы («амбификсы»). Грамматическая привилегированность суффиксов в большинстве языков мира.
Нелинейные аффиксы: инфиксы и трансфиксы. Принцип «наибольшей возможной маргинальное™» позиции инфиксов («принцип Андерсона»). Семитские вокалические диффиксы как «обратная морфологизация» чередований корня. Циркумфиксы как частный случай полиаффиксов; полиаффиксы и «грамматика порядков».
Интерфиксы и «тематические элементы» как особые функциональные типы морфоидов.
Основная библиография
О проблеме корня и аффикса см. [Блумфилд 1933 и Мельчук 1975]. Из общих работ по проблемам позиционной классификации аффиксов отметим прежде всего [Земская 1973; Кубрякова 1974; Мельчук 197S] (с различными подходами), а также [Bybee 19S5], где предпринимаются попытки установить некоторые общие принципы позиционного распределения морфем в словоформе. Специально об инфиксах см. [Moravcsik 1977 и Ап-derson 1992]; о проблемах морфемной структуры семитских словоформ — [Kurytowicz 1961; Старинин 1963; Мельчук 1963, а также McCarthy 1982] и, с других позиций, [Kuani-Schoch/Dressler 1985 и Белова 1991].
Языки с полиаффикснои морфологией рассматриваются во многих работах, посвященных особенностям «полисинтетической» грамматики; ср. [Володин 1976; Young/Morgan 1980], а также [Володин/Храков-ский 1975 и 1991] и другие работы, указанные в разделе 2.3.
ЭЛЕМЕНТЫ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ
Глава 1Классификация морфологических значений
§ 1. Понятие морфологического значения
К морфологическим значениям относят все те значения, которые выражаются в составе словоформы, то есть с помощью отдельных морфем (в том числе и с несегментными означающими). Значения (морфологически неэлементарных) словоформ, равно как и значения словосочетаний, предложений и текстов, морфологическими значениями, естественно, уже не являются. Существенно, что одно и то же значение может выражаться как морфологически, так и неморфологически, причем не только в разных языках, но и в пределах одного языка. Так, в паре тропический климат и климат, свойственный тропикам значение 'свойственный' выражается в первом случае морфологически (суффиксом -еск-), а во втором случае — неморфологически, т.е. с помощью отдельной словоформы. Аналогично, в она придет значение будущего времени передается морфологически (формой презенса совершенного вида глагола), а в ее будущий приход то же значение передается с помощью отдельной словоформы (так как существительное приход не обладает в русском языке морфологическими возможностями для выражения времени). Но и в глагольной конструкции она будет приходить будущее время тоже выражено неморфологически: «вспомогательным глаголом» будет в сочетании с инфинитивом.
Можно, по-видимому, сделать и более сильное утверждение: большинство морфологических значений любого языка имеют в том же самом языке и неморфологические корреляты (обратное, разумеется, не верно). С другой стороны, распространенной является ситуация, когда некоторое значение в одном языке выражается морфологически, а в другом — нет. Так, значение возможности/вероятности, неморфологическое в русском или английском языке (где для его выражения могут использоваться, в числе прочих средств, словоформы глаголов мочь или can/may), является морфологическим в венгерском (где оно выражается глагольным суффиксом -hat-/-het-) или в эвенском (где оно выражается глагольным суффиксом -тпа-/-тпе~). Значение 'если', неморфологическое в большинстве индоевропейских языков, в большинстве тюркских языков, напротив, выражается морфологически (например, глагольным суффиксом -sq/-sc, как в турецком или татарском); морфологический показатель этого значения имеется и во многих тунгусо-маньчжурских, финно-угорских, самодийских, дагестанских и других языках. Значение 'под', неморфологическое, например, в английском языке (предлог under), является морфологическим в лезгинском (суффикс -Л) и т.д., и т. п. Из приведенных примеров ясно, что практически под морфологическим значением понимается не столько значение любой морфемы, сколько значение аффиксальной морфемы. Действительно, строго говоря, такие значения, как 'книга' или 'пятно' в русском языке являются не менее морфологическими, чем значения 'уменьшительность' или 'прошедшее время': ведь они выражаются не словоформами книга или пятно, а лишь их корнями. Но при таком буквальном понимании терминов неморфологическими в русском языке (и всех других языках с развитым словоизменением и словообразованием) окажутся разве что значения, выражаемые предлогами, союзами и наречиями, и то лишь теми из них, которые относятся к непроизводным. Столь радикальное расширение понятия «морфологическое значение» неплодотворно, поэтому в лингвистической практике значения корневых морфем имплицитно считаются неморфологическими, как бы отождествляясь со значениями тех словоформ, которые образуются с участием данных корней.
В соответствии с этой общепринятой логикой, морфология изучает именно аффиксальные (так сказать, «собственно морфологические» значения), а большинство корневых значений оказываются в ведении лексической семантики (или лексикологии) и ни при каком понимании границ морфологии в область морфологии не входят. Зато к значениям, «интересным» для морфологии, добавляются еще и неморфологические грамматические значения (в том числе и корневые — см. подробнее в следующем разделе). Ниже, говоря о морфологических значениях, и мы будем иметь в виду только аффиксальные значения (но иногда, чтобы избежать двусмысленности, мы будем пользоваться термином «аф-
фиксальный», который, тем самым, применительно к плану выражения оказывается просто синонимичным термину «морфологический»).
Таким образом, например, значение 'синий' является в русском языке неморфологическим не потому, что оно выражается отдельной словоформой (это, строго говоря, неверно: данное значение выражается не словоформой, а лишь корнем син'-), а потому, что в составе соответствующей словоформы оно выражается корнем, а не аффиксом.
Здесь, однако, необходимо сделать очень важную поправку. Полностью приравнивая морфологические значения к аффиксальным, мы рискуем «потерять» один класс значений: это значения, которые выражаются не аффиксами, а корнями, но такими корнями, которые не образуют самостоятельных словоформ, а, подобно аффиксам, входят в состав сложного слова на правах модификаторов «вершинного» корня. Так, то же самое значение 'синий* есть все основания считать выраженным морфологически в словах типа синеглазый, где корневая морфема син(е)- уже не может присоединять никаких словоизменительных показателей. Напомним, что подобные «морфологически несамостоятельные» корни (или «аффиксоиды», ср. Часть первая, Гл. 3, § 1) являются промежуточной ступенью jja пути от автономной словоформы к аффиксу (поскольку диахроническими источниками большинства аффиксов являются именно они). Особенно трудно провести границу между аффиксом и морфологически несамостоятельным аф-фиксоидом в тех случаях, когда корневая морфема существует в языке только в качестве элемента композитов, а самостоятельных словоформ не образует (как русск. -логия в криминология или -навт в астронавт и т. п.).
Тем самым, в общем случае следует различать морфологические аффиксальные и морфологические корневые значения. В целом ряде языков класс морфологически несамостоятельных корней очень велик и играет важную роль в грамматике языка (в частности, к таким языкам относятся и языки с инкорпорацией). Ср. также попытку формального определения понятия морфологического значения в (Мельчук 1997: 311-318], основанного на понимании морфологических значений как выражающихся «внутри словоформы при других значениях»(выделено мной. — В. П.', под «другими» всегда имеются в виду корневые значения).
Очень важным вопросом для морфологии является следующий: существует ли какая-либо принципиальная разница в природе морфологических (в первую очередь, аффиксальных) и неморфологических значений? Или, иначе: имеет ли морфологизация словоформы (т. е. утрата ею автономности, см. Часть I, §2) какие-либо обязательные последствия для ее значения? Следует признать, что современная лингвистика еще не имеет на этот вопрос исчерпывающего ответа (поскольку и само изучение морфологических значений началось сравнительно недавно). Однако известные нам факты, по-видимому, свидетельствуют в пользу того, что морфологические значения все же имеют определенные (хотя и трудноуловимые) особенности. Не всякое значение может быть (или стать) морфологическим в естественном языке (напомним, что возможны и языки вообще с минимальным числом морфологически выражаемых значений); далее, именно морфологические значения имеют наибольшую
вероятность оказаться грамматическими (словоизменительными) значениями, хотя такое развитие и не является неизбежным: существуют как словоизменительные неморфологические («аналитические»), так и морфологические несловоизменительные значения.
Как представляется, основным свойством, необходимым для того, чтобы значение могло выражаться морфологически, является способность данного значения модифицировать достаточно большое число других значений (или, иначе, способность его носителя сочетаться с достаточно широким классом языковых единиц). Это свойство (называемое «всеобщностью») подробно обсуждается, в частности, в известной книге Дж.Байби [Bybee 1985]; ср. также наш обзор [Плунгян 1998].
На первый взгляд, свойству всеобщности противоречит существование непродуктивных (и тем более уникальных) аффиксов, т.е. морфем, представленных в словах типа пас-тух или стека-ярус. Однако это противоречие в большей степени кажущееся. Действительно, свойство всеобщности характеризует план содержания аффикса, т. е. накладывает ограничения прежде всего на его значение; а значения уникальных или непродуктивных аффиксов, как правило, синонимичны значениям продуктивных аффиксов данного языка. В тех случаях, когда это не так, как раз и встает вопрос о категориальной принадлежности данной единицы (аффикс или корень? аффикс или морфоид?). Именно по этой причине -тух- в пастух является бесспорным суффиксом (хотя и полностью непродуктивным), а -ярус- в стеклярус, скорее всего, следует все же считать морфоидом. «Настоящие» непродуктивные аффиксы ничем не отличаются от продуктивных в плане содержания; их непродуктивность — это, в большинстве случаев, диахронически приобретенное свойство, которое уже не имеет отношения к первоначальному процессу их превращения в аффикс. (Непродуктивность возникает как один из результатов иди-оматизации и сопровождает «опрощение», т.е., как следует из Части первой, характеризует финальную стадию развития двусторонней языковой единицы.)
Классификация морфологических значений
2.1. Грамматические и иеграмматнчесжне значения
Рассмотрим теперь классификацию собственно морфологических значений. Основным и наиболее традиционным делением морфологических значений является их деление на лексические, словообразовательные и грамматические значения.
Проблема определения грамматического значения (как и вообще точного объема понятия грамматического) является одной из самых запутанных в лингвистике; разнообразные точки зрения на этот предмет с трудом поддаются перечислению, а обескураживающая способность лингвистов
вкладывать разное содержание в один и тот же термин (и/или по-разному называть одно и то же понятие) именно в этой области, кажется, достигает апогея. Попробуем тем не менее, по возможности сохраняя хладнокровие, суммировать некоторые наиболее общепринятые взгляды.
Проще всего указать такое значение — или группу значений — которые практически единодушно причисляются к грамматическим; далее, проанализировав различные свойства этих значений, мы можем попытаться выделить среди них главное (или главные — не исключено, что в разных теориях эта роль будет приписываться разным свойствам).
Рассмотрим русское предложение (I) и один из его возможных английских эквивалентов (2).
(1) Ты поймал золотую рыбку.
(2) You have caught a golden fish.
Предложение (1) (будем пока говорить только о русском варианте) сообщает о некотором однократном событии, в котором «принимали участие» собеседник говорящего и золотая рыбка. Анализируя это предложение, мы можем установить не только то, кто и кого в данном случае поймал, но и, например, что событие произошло в прошлом, что собеседником говорящего был один мужчина (вероятно, ему близко знакомый) и что пойманная им рыбка также имелась в единственном экземпляре. Разумеется, говорящему на русском языке такие выводы могут показаться естественными и даже тривиальными — но не будем спешить.
По-видимому, подавляющее большинство лингвистов согласились бы с тем, что значения 'поймать', 'золотой', 'рыба* относятся к числу лексических, а значения 'в прошлом' (= 'до момента настоящего сообщения'), 'в количестве одного экземпляра', 'мужского пола' — к числу грамматических. Как и в случае с делением на корни и аффиксы или на автономные словоформы, клитики и морфемы, указать приемлемый результат классификации здесь существенно проше, чем выявить те критерии, в соответствии с которыми этот результат получен.
По отношению к грамматическим значениям можно было бы, конечно, сказать, что они являются более «абстрактными», чем лексические. Напомним, что такое же утверждение часто делается по поводу значений аффиксов (в отличие от значений корней), и все те аргументы, которые мы приводили против подобного критерия классификации, применимы и в данном случае. Конечно, некоторые очень «конкретные» значения не могут быть грамматическими (таковы, в частности, обозначения цветов, и поэтому про значение 'золотой' мы можем с уверенностью сказать, что оно является лексическим). Но, с другой стороны, сколь угодно абстрактные значения вполне могут в языке не быть грамматическими (точно так же, как они могут не быть и аффиксальными). Более того — и здесь мы касаемся одного из важнейших свойств грамматических значений — значения, которые являются грамматическими в одном языке, далеко
не всегда являются грамматическими в другом языке. (Таково, например, значение «неопределенности», выражаемое в английском языке неопределенным артиклем afnj: в русском языке оно не является грамматическим, и, в частности, в предложении (1) вовсе никак не выражено; к обсуждению этого факта мы еще вернемся.) Следовательно, при решении вопроса о том, является ли данный элемент грамматическим, мы должны опираться не столько на его семантические характеристики (хотя речь и идет о значениях!), сколько на какие-то особенности его функционирования в данном, конкретном языке. Не существует, таким образом, понятия «грамматическое значение вообще»; можно говорить только о «грамматическом значении в языке .АА Грамматическое значение — понятие относительное и конкретно-языковое; сравнение грамматических систем разных (даже близкородственных) языков легко убеждает в этом.
На какие же конкретно-языковые свойства опирается понятие грамматического? Таких свойств по-прежнему довольно много, и здесь разные теории языка расходятся, пожалуй, в наибольшей степени. Главную линию расхождения можно определить следующим образом:
(!) следует ли искать одно главное свойство, отличающее грамматическое от неграмматического, или это различие опирается на целый комплекс свойств (причем не обязательно требовать, чтобы у каждого элемента, признаваемого грамматическим, все эти свойства присутствовали одновременно)?
Дилемма (i) тесно связана с другой дилеммой, также служащей источником серьезных разногласий между лингвистами:
(и) задает ли противопоставление грамматического и неграмматического достаточно жесткую границу между различными языковыми элементами, или следует считать, что это противопоставление в общем случае является градуальным и предполагает возможность большого количества переходных феноменов?
Нетрудно заметить, что ориентация на грамматическое как на пучок свойств предполагает признание нежесткого характера этого противопоставления; выделение же только одного определяющего свойства совместимо, вообще говоря, с обоими возможными решениями проблемы (И).
Скажем сразу, что в настоящей книге мы придерживаемся следующего решения: при определении грамматического значения мы будем опираться только на одно свойство (а именно, так называемое свойство обязательности, о котором подробнее см. ниже), но граница между
« В некотором специальном смысле о классе грамматических значений «вообще» говорить все же можно — если под этими последними понимать такие значения, которые являются грамматическими во всех или подавляющем большинстве языков. О правомерности такого подхода будет идти речь в разделе, посвященном грамматической типологии (см. Гл.4. §2).
грамматическим и неграмматическим при этом признается нежесткой, и о существовании обширных переходных зон мы будем говорить особо в §4. Однако следует иметь в виду, что правомерны и другие подходы к этой проблеме; не имея возможности детально обсуждать их здесь, мы все же постараемся дать беглую характеристику различных теоретических позиций, существующих в современной морфологии (более подробный обзор содержится в наших работах [Плунгян 1992 и 1998]; об альтернативных подходах см. также [Dressier 1989; Мельчук 1997: 247-306 и особенно 283-285; Маслова 1994; Перцов 1996]).
Мы начнем с того, что охарактеризуем понятие обязательности подробнее, ввиду его важности для морфологии и теории грамматики.
2.2. Понятие обязательности в морфологии
Мы убедились в том, что предложение (1) сообщает целый ряд сведений различной природы об окружающем мире; используя наиболее общие термины, их можно было бы называть сведениями об объектах и их свойствах. Конечно, некоторые из этих сведений имеют более абстрактный характер (т. е. апеллируют к достаточно общим свойствам и/или достаточно крупным классам объектов), но для понимания природы грамматических значений это различие не столь существенно. Гораздо существеннее другое: сообщаемые в (1) сведения имеют разный статус по отношению к исходному замыслу говорящего, а именно, среди них есть такие, сообщить которые говорящий намеревался, а есть и такие, сообщить которые он, может быть, и не намеревался, но от сообщения которых он, тем не менее, говоря по-русски, не мог уклониться. Вот эти «вынужденно» сообщенные им сведения («вынужденные» грамматикой языка) и считаются грамматическими значениями (по крайней мере — в более мягкой формулировке — именно они образуют ядро грамматических значений), и именно к таким значениям и применяется понятие обязательности.
Действительно, почему значения рода, числа и времени относятся в русском языке к классу грамматических? Выбирая личную форму глагола (т.е. не инфинитив, не причастие и не деепричастие), говорящий по-русски обязан выразить в составе такой глагольной словоформы время описываемой ситуации (по отношению к моменту высказывания), а также—в прошедшем времени — грамматическое число и грамматический род подлежащего (который для живых существ в основном совпадает с их естественным полом) и еще ряд других значений, от которых мы в данный момент можем отвлечься. Точно так же, желая употребить какую-либо форму существительного, говорящий по-русски обязан выразить в ее составе число и падеж. Глагольные и именные словоформы в русском тексте просто не существуют без этих дополнительных элементов: например, всякая именная словоформа выражает какое-то падежное значение
(и при этом только одно): не бывает именной словоформы «никакого» падежа (а также и словоформы, выражающей два падежных значения одновременно).
Сказанное позволяет понять следующее важное свойство обязательности: обязательным является, строго говоря, не само значение, а некоторое множество взаимоисключающих значений, в которое оно входит. Никакие два значения из этого множества не должны выражаться в одной и той же словоформе одновременно, но какое-то одно из этих значений должно выражаться в составе словоформы всегда. Такое множество взаимоисключающих обязательных значений традиционно (по крайней мере, со времен античных грамматиков) называется грамматической категорией. Так, в русском языке имеется грамматическая категория падежа, состоящая по крайней мере из шести значений (такие значения принято, вслед за американским лингвистом К. Пайком, называть граммемами2*); эта категория обязательна (в указанном выше смысле), а в силу этого можно говорить и о том, что обязательной является каждая падежная граммема; это последнее употребление, таким образом, терминологически несколько более вольно.
Интересно, что в морфологии, как ни странно, не существует общепринятого однословного термина для наименования морфемы, выражающей граммему (т.е. для обозначения, так сказать, материального носителя граммемы). Обычно в этом значении используется термин показатель (англ, marker), но этот термин оказывается точным и однозначным только при добавлении соответствующего определения (грамматический показатель). Дж. Байби недавно предложила использовать в этом значении специально изобретенный термин «гром» (англ. gram). Иногда в этом же значении употребляется и сам термин граммема.
Таким образом, обязательность некоторого значения легче всего обнаруживается именно на уровне морфологии, т. е. в составе словоформы, где она наиболее доступна непосредственному наблюдению. Для того, чтобы установить, является ли некоторое значение морфологически обязательным, нужно убедиться, что оно, во-первых, входит в некоторую категорию с еще по крайней мере одним значением (т. е. синтагматически не совместимо с другими значениями своей категории), и, во-вторых, что эта категория обязательна, т. е. что существует такой класс словоформ, которые всегда содержат одно и только одно значение из данной категории.
Формулировка «существует такой класс словоформ» не является случайной; она связана со вторым важным свойством грамматических значений. Обязательность грамматической категории не может быть всеобщей, т. е. не может распространяться на все вообще словоформы данного языка: так, говоря о грамматической категории времени, обычно имеют в виду
2' См. (Pike1957); в русской лингвистике терминграммема появляется в начале 60-хгг. вработах 3. М. Волоцкой и Т. М.Молошной, В. Н.Топорова идр.; окончательные же «права гражданства» он приобрел благодаря А. А. Зализняку (си. [Зализняк 1967: 26-27J).
только глаголы, говоря о грамматической категории падежа — только имена (или даже только личные местоимения, как, например, в английском, французском и многих других языках). Следовательно, обязательность определяется для некоторого подкласса словоформ данного языка. Этот подкласс («область определения» категории) должен быть достаточно большим и/или иметь достаточно естественные и хорошо выделимые границы; причем он должен выделяться в языке сразу по многим признакам, а не только потому, что данная категория является для его элементов обязательной. Именно так обстоит дело с личными местоимениями: это «хороший» естественный класс (несмотря на его малочисленность), который был бы выделен в любом языке даже и в том случае, если бы у местоимений не было никаких собственных, только их характеризующих грамматических категорий. С другой стороны, нельзя утверждать, что в русском языке у существительных (хотя бы у части) имеется обязательная категория естественного пола (с двумя значениями: 'мужского пола' и 'женского пола'): «хороший» естественный подкласс одушевленных существительных в данном случае не годится — слишком многие названия людей и особенно животных не обладают в русском языке морфологическими средствами для выражения пола (ср. такие слова, как дизайнер, хирург, рысь, скунс, гиена, чайка и многие другие); те же из них, которые такими средствами обладают (ср. пары типа сосед ~ соседка, акробат ~ акробатка, медведь ~ медведица, скворец ~ скворчиха и т. п.), никаким другим, независимым, признаком в естественный класс не объединяются31.
Более того, даже и в этих парах, строго говоря, противопоставляются не две словоформы, выражающие разные значения одной категории, а словоформа с неопределенным (или, в семиотических терминах, «.немаркированным») значением — словоформе, выражающей значение 'женского пола': так, слово акробат, в отличие от слова акробатка, скорее всего означает просто 'человек определенной профессии...', а не 'мужчина-акробат' и т.п.; таким образом, морфологической категории здесь нет. Одна из ярких особенностей грамматических категорий состоит в том, что только они — в силу обязательности — образуют эквипо-лентные оппозиции (и только они, тем самым, допускают нулевые показатели); словообразовательные же значения образуют привативные оппозиции (в которых один из элементов всегда семантически сложнее другого), и выделение нулевых показателей в словообразовании невозможно. Тем самым, когда, например, граммему единственного числа в русском языке называют «немаркированной», то в этом случае термину «немаркированный» придают другое (несколько более расплывчатое) значение (» «более простой», «более распространенный», «базовый»); не вдаваясь в детальный анализ понятия маркированности (относящегося, скорее, к общей семиотике, чем к морфологии), укажем — среди очень многих работ на эту тему — по крайней мере следующие: [Трубецкой 1939; Якобсон 1971;
31 Именно поэтому значение 'женского пола' в русском языке и относится к словообразовательным, о чем см. подробнее ниже;всесторонний анализ данной проблемы см. также в статье [Кронгауз 1996].
МауепЫег 1981; Eckman et al. (eds.) 1986; Croft 1990]; ср. также [Мельчук 1998: 15-28 и Chvany 1993].
Итак, грамматическая категория в первом приближении — это множество взаимоисключающих значений, обязательное для некоторого естественного подкласса словоформ данного языка. Данное определение дает только самую предварительную формулировку и не учитывает многих трудных случаев. Некоторые уточнения будут даны ниже, но пока существенно еще раз подчеркнуть, что базовым понятием для нашего определения грамматического является обязательность, т. е. давление грамматической системы данного языка на говорящего, вынуждающее его к выражению тех характеристик, которые, может быть, и не входили в его первоначальный коммуникативный замысел.
Различия в наборе грамматических категорий — может быть, самые яркие и самые глубокие из различий между естественными языками. У каждого языка имеется свой набор предпочтений (определяемый, в конечном счете, особенностями культуры и мировосприятия данного народа); грамматику языка в этом смысле можно представить себе как некоторую анкету, или список вопросов, на которые говорящий, желая составить на этом языке правильное высказывание, обязан дать ответы. Тематика этих «вопросов анкеты» отражает приоритеты языкового сознания говорящих на данном языке (точнее, может быть, было бы говорить не о сознании, а о «коллективном подсознании», так как в явном виде, конечно, эти приоритеты языковым коллективом, как правило, не осознаются; лингвисты в таких случаях предпочитают употреблять термины типа «наивная картина мира», «наивные концепты», «folk semantics» и др., восходящие, в конечном счете, к идеям Вильгельма фон Гумбольдта и Эдварда Сепира; подробнее об этой проблематике см., в частности, [Апресян 1986 и Wierzbicka 1988]). По емкому и часто цитируемому выражению Р. О. Якобсона, «основное различие между языками состоит не в том, что может или не может быть выражено, а в том, что должно или не должно сообщаться говорящими» [Якобсон 1959: 233].
Насколько разными могут оказаться «грамматические анкеты» даже в таких, в общем, достаточно близких друг другу языках, как английский и русский, дает представление наш очень простой пример предложений (1) и (2). Употребляя глагольную словоформу, говорящий по-русски, как мы помним, должен ответить на вопрос относительно времени данного события и, если это событие относится к прошлому, то обязательно указать родовую принадлежность подлежащего при данном глаголе (это, в частности, означает, что, обращаясь к собеседнику, говорящему по-русски, необходимо знать его пол); употребляя именную словоформу, необходимо располагать информацией о количестве соответствующих объектов. (Не менее яркую особенность русской грамматической системы составляют граммемы категории падежа и граммемы категории
глагольного вида, правил употребления которых — слишком сложных для вводного иллюстративного примера — мы сейчас касаться не будем.) Совсем иными оказываются грамматические требования английского языка. Если, употребляя глагольную форму, говорящий по-русски выбирает фактически только между граммемами настоящего, прошедшего и будущего времени (в соединении с граммемами совершенного и не-совершенного вида), то говорящему по-английски приходится выбирать между гораздо большим количеством форм, объединенных, к тому же, совсем иными принципами. Так, для английского языка недостаточен ответ на вопрос о том, к прошлому, настоящему или будущему относится описываемое событие (хотя такой вопрос английской грамматикой тоже задается); при отнесенности события к прошлому говорящему предстоит выбирать еще как минимум между формами так называемого «простого прошедшего» и «перфекта» (ср. caught vs. have caught для глагола catch); выбирая же между этими формами, говорящий по-английски ориентируется, в первом приближении, на то, сохраняет ли результат действия свою актуальность в момент высказывания (например, имеется ли пойманная рыбка у собеседника или он выпустил ее обратно, съел, продал и т. п.; могут учитываться и другие факторы — например, была ли рыбка поймана только что, на глазах у говорящего или в более отдаленный момент в прошлом). Подобные вопросы в русской «грамматической анкете» отсутствуют: в большинстве ситуаций простая и перфектная английские формы соответствуют одной и той же русской форме поймал. Говорящего по-русски его грамматическая система не заставляет специально интересоваться тем, была ли рыбка поймана «только что» или «давно», находится она при этом у говорящего или нет — если говорящему это безразлично (или неизвестно), он не будет выражать этой информации в своем тексте. Говорящий по-английски так поступить не может: он обязан ответить на этот вопрос, чтобы выбрать из нескольких различных форм; любой его выбор будет в этом отношении значим и будет свидетельствовать о том, что по этому пункту анкеты он принял какое-то решение. Зато его ничто не заставляет интересоваться полом своего собеседника (если, конечно, это не входит в его коммуникативные намерения); более того, говорящий по-английски при употреблении форм 2 лица может проигнорировать даже количество своих собеседников: смыслы 'ты поймал [а]' и 'вы поймали' в английском языке, как известно, передаются одинаково.
Как читатель, может быть, помнит из Га. 3 Части первой, в классическом арабском языке эта часть грамматической анкеты гораздо более дробная, чем в русском языке (не говоря уже про английский): употребление арабской глагольной словоформы 2 или 3 лица во всех временах и наклонениях требует обязательного указания на род и число подлежащего, причем грамматическая категория числа различает не две, а три граммемы: единственного, двойственного и множественного числа.
Во многом аналогичная ситуация и с употреблением форм существительных. В обоих языках информация о количестве объектов входит в «грамматическую анкету» (хотя правила употребления граммем единственного и множественного числа в некоторых тонких деталях различаются — здесь еще один источник расхождения между грамматическими системами разных языков). Но в английском языке при употреблении любого существительного, кроме этого, дополнительно требуется ответить и на вопрос о его «детерминации»: каждое английское существительное обязательно сопровождается в тексте либо определенным, либо неопределенным артиклем (либо не сопровождается никаким, но это отсутствие артикля в данном случае тоже имеет строго определенную функцию). Ответить на вопрос о «детерминации» существительного — т. е. о том, может ли, с точки зрения говорящего, его собеседник понять, о каком именно объекте, называемом этим словом, идет речь — довольно сложно (это знает всякий, изучавший английский язык как иностранный). Для этого нужно располагать весьма разнообразной информацией: например, в нашем случае, нужно помнить, шла ли уже речь о золотой рыбке раньше или она упоминается впервые; если она упоминается впервые, то нужно установить, относится ли она к классу всем известных объектов или собеседник все-таки не сможет понять, какую именно из многих золотых рыбок говорящий имел в виду (а может быть, и сам говорящий этого не знает). В нашем переводе (2) мы сделали выбор в пользу именно такой, «неопределенной» интерпретации, но выбор мог бы быть и иным, потому что русское предложение (1) никаких специальных указаний относительно этого не содержит: русская грамматика таких сведений не требует (что, конечно, не означает, что информацию о детерминации объекта говорящий по-русски никогда не может выразить — но для этого в его распоряжении имеются прежде всего лексические средства).
Так и получается, что говорящие на разных языках оказываются обязаны при выборе практически каждого слова проделать множество сложнейших мысленных операций (для каждого языка они свои, строго индивидуальные) — и самое удивительное, что говорящие (в том числе и мы с вами, уважаемый читатель) все эти операции покорно и в большинстве случаев совершенно механически, в считанные доли секунды, проделывают, принимая нужное решение. Трудности усвоения чужого языка во многом заключаются именно в том, что этот автоматизм ответов на вопросы «грамматической анкеты» оказывается в иной грамматической системе нарушен: у говорящего на чужом языке появляется своего рода «грамматический акцент», который куда больше мешает общению на этом языке, чем акцент фонетический (также, заметим, в конечном счете обусловленный нарушением фонологического автоматизма, потому что и фонологическая система любого языка жестко предписывает говорящим воспринимать одни звуковые различия и игнорировать другие,
но при этом в каждом языке имеется свой собственный список таких «важных» и «неважных» различий).
В разных языках неодинаков не только набор и состав грамматических категорий — достаточно сильно может различаться и само количество грамматических категорий. Не во всех языках мира число обязательных грамматических категорий велико: есть языки, практически полностью их лишенные. Здесь нет ничего удивительного — может быть, гораздо удивительнее как раз тот факт, что грамматические категории в столь многих языках существуют. Действительно, непосредственно для целей общения грамматические категории не нужны — ведь они, как мы помним» не сообщают того, что говорящий и так хотел выразить; они создают некий обязательный концептуальный шаблон, в который говорящий должен уложить свой индивидуальный замысел. По-видимому, такие шаблоны во многих случаях удобны (иначе языки не воспроизводили бы их с таким постоянством), но они, безусловно, не являются необходимыми. К языкам с минимальным количеством грамматических категорий относятся многие языки Юго-Восточной Азии (например, вьетнамский или тайский41), многие языки Западной Африки, а также почти все так называемые креольские языки, т. е. языки, возникшие за сравнительно короткий период времени в результате интенсивного взаимодействия двух разных языковых систем (например, языка колонизаторов и коренных жителей); это языки, как бы построенные из рассыпанных и сразу же вновь собранных обломков двух разных наборов лексических и грамматических деталей. Очень характерно, что такие «вновь созданные» языки почти лишены обязательных категорий: поставленный в критические условия, язык нуждается в самом необходимом и может позволить себе обходиться без грамматики, которая, таким образом, должна рассматриваться, скорее, как побочный продукт длительной языковой эволюции, приводящей к постепенному закреплению «концептуальных шаблонов» (к диахроническим проблемам грамматики мы еще не раз будем возвращаться в последующих главах). С точки зрения носителей «языков без грамматики», языки типа арабского (и даже английского) являются чрезмерно избыточными и громоздкими, со слишком «плотной тканью»; напротив, с точки зрения носителей языков с развитой системой грамматических категорий, «языки без грамматики» являются слишком неэксплицитными и приблизительными: это разреженный горный воздух, которым трудно дышать.
Считается, что один из самых предельных случаев языковой системы без грамматических категорий (так называемой «аморфной») представлен не каким-либо полноценным естественным языком, а таким несколько ограниченным и в какой-то мере искусственным образованием, как язык китайской классической поэзии (в реальном древнекитайском языке грамматические категории, хоть и в очень небольшом количестве, все-таки имелись); ср. обсуждение этой проблемы в (Яхонтов 1975].
Использование понятия обязательности для определения грамматического значения имеет длительную традицию. В новейшее время тезис о грамматическом как обязательном наиболее последовательно отстаивал Р. О. Якобсон (хотя у него были и предшественники; в частности, сам Якобсон ссылается на американского лингвиста и этнографа Франца Боаса — ср. прежде всего [Якобсон 1959); о вкладе французского востоковеда Анри Масперо см. [Перцов 1996]). Понятие обязательности лежит в основе целого ряда (во многом несходных друг с другом) современных грамматических концепций, развивавшихся в работах [Мельчук 1997 и 1998] (но ср. уже одну из самых ранних публикаций [Мельчук 1961]), [Гринберг 1960; Зализняк 1967; Бондарко 1976 и 1978; Касевич 1988; ВуЬее 1985] и многих других.
2.3. Грамматическая категория, лексема и парадигма
Для дальнейшего изложения нам понадобятся два важных понятия — лексема и парадигма; оба они непосредственно опираются на понятия грамматического значения (как бы ни интерпретировать это последнее) и грамматической категории. Но прежде чем мы перейдем к их характеристике, следует вернуться к некоторым свойствам грамматической категории, о которых выше было сказано лишь мимоходом.
Согласно определению, в одну грамматическую категорию объединяются взаимоисключающие значения — т.е. такие, которые не могут быть выражены одновременно в одной и той же словоформе данного языка. Так, в русском языке имя не может быть одновременно в единственном и множественном числе, глагол — одновременно в настоящем и прошедшем времени и т. п.; русские граммемы ЕД и мн (равно как наст и прош) исключают друг друга (можно также сказать, что они «синтагматически несовместимы»).
Случаи грамматической омонимии, разумеется, не нарушают этого правила: ведь омонимия как раз и свидетельствует о том, что перед нами разные словоформы, у которых лишь совпадает план выражения (в отличие от подавляющего большинства других словоформ данного языка, которые эти значения различают формально). Русская словоформа кости может быть формой НОМ. МН, а также ВИН. МН, ДАТ. ЕД, ГЕН. ЕД и ЛОК. ЕД; но в каждом из своих контекстных употреблений она выражает только одно из этих падежно-числовых значений, а не все одновременно. Точно так же, словоформа организуют может быть формой либо наст, времени НЕСОВ (держитесь: уже организуют спасательные работы), либо буд. времени СОВ (если завтра не организуют спасательные работы, слоны могут погибнуть), но она не может одновременно выражать оба эти значения. Это феномен формального неразличения значений, а не их синтагматического совмещения.
Невозможность одновременно присутствовать в одной словоформе — это некоторый объективный факт, который и дает основания для объединения соответствующих значений в категорию. Заслуживает внимания, однако, вопрос, почему те или иные значения оказываются друг с другом синтагматически несовместимы.
Наиболее естественный ответ, который сразу напрашивается, состоял бы в том, что эти значения несовместимы друг с другом логически. Действительно, один и тот же объект не может быть в количестве одного и больше одного; событие не может одновременно быть завершенным и незавершенным и т. п. Конечно, такие случаи явной логической несовместимости среди граммем грамматических категорий бывают; но они, как кажется, в естественных языках составляют лишь меньшинство. Во многих случаях никакой специальной априорной несовместимости между граммемами одной и той же грамматической категории нет; то, что они оказываются объединены во взаимоисключающее множество — факт, характеризующий грамматическую систему именно данного языка. Таким образом, языки мира различаются не только количеством грамматических значений (о чем говорилось выше), но еще и тем, как именно эти грамматические значения распределяются по категориям в рамках каждой конкретной грамматической системы.
Одну из наиболее ярких иллюстраций этого свойства грамматических значений можно найти в бретонском языке, где показатель двойственного числа daou- способен сочетаться с показателем множественного числа -ой: ср. lagad '(один) глаз' ~ itaomlagad 'глазй, пара глаз' ~ tUum!agadok 'несколько пар глаз' (см. [Temes 1992: 415-417]); тем самым, мы вынуждены признать, что в бретонском языке существуют две разные грамматические категории: «парности» и «множественности», совместимые друг с другом. Этот пример наглядно свидетельствует о том, что к понятию «категории вообще» (независимому от конкретного языка) нужно относиться с очень большой осторожностью: в разных языках могут действовать совершенно разные «объединительные стратегии».
Несколько менее экзотический (но также очень показательный) пример связан со взаимодействием значений времени и наклонения. В одних языках показатели времени сочетаются с показателями наклонения (так, например, в латинском языке конъюнктив различает настоящее и прошедшее время) и, таким образом, входят в две разные грамматические категории; но во многих других языках выбор показателей косвенного наклонения исключает употребление в глагольной словоформе показателей времени (чему, кстати, вполне можно предложить логическое объяснение: ирреальное событие, обозначаемое формами косвенных наклонений, не может относиться к реальному времени; подробнее см. Гл. 7, §2). Такое явление особенно характерно для тюркских языков, применительно к которым можно говорить о единой грамматической категории времени-наклонения (ср. [Володин/ХраковскиЙ 1977]). Похожая картина наблюдается и в языках банту, где, однако, в отличие от тюркских языков, глагольная словоформа, как правило, вообще может содержать только один показатель некоторой максимально обшей глагольной категории, выражающий то вид, то время, то наклонение, то таксис; не случайно многие специалисты по языкам банту настаивают на том, чтобы при описании этих языков отказаться от терминов типа «вид» или «наклонение» в пользу нейтральных обозначений типа «глагольный заполнитель» (франц. tiroir, букв, 'выдвижной ящик*).
В связи с этим попытки говорить о типологии грамматических категорий (в отличие от типологии грамматических значений!) представляются в значи-
тельной степени рискованными, так как грамматическая категория оказывается существенно более системно-обусловленным и конкретно-языковым понятием, чем грамматическое значение. Иной подход представлен у И.А.Мельчука: в [Мельчук 1998] «исчисление логически возможных значений» организовано именно в терминах категорий (таких, как «наклонение», «результативность», «реактивность» и т.д., и т.п.), которым, тем самым, приписывается универсальная значимость. Как мы видели, в естественных языках это далеко не так. Решение И. А. Мельчука основано на том, что он видит в категории прежде всего набор «семантически или логически» исключающих друг друга элементов [Мельчук 1997: 247-248], что в данном случае представляется преувеличенной рационализацией реальной картины. Даже внеязыковой пример И. А. Мельчука — категория цвета — не является с этой точки зрения безупречным: реальный физический объект вполне может быть нескольких цветов одновременно (или же быть «смешанного» цвета), безо всякого нарушения «семантической или логической» совместимости. А. А. Зализняк при определении грамматической категории прибегает к более осторожной формулировке (предпочитая говорить не о «семантической или логической взаимоисключительности», а об «однородности» элементов грамматической категории: см. [Зализняк 1967: 23]); впрочем, понятие однородности никак специально не поясняется.
Итак, мы можем констатировать лишь один бесспорный эмпирический факт — в естественных языках некоторые наборы грамматических значений исключают друг друга в одной и той же позиции (в общем случае не потому, что они логически не совместимы друг с другом, а потому, что таковы принципы организации грамматической системы данного языка). С точки зрения морфологии, этот факт имеет следующее важное следствие: в языке с морфологическим выражением грамматических значений морфемы, выражающие лексические значения имен и глаголов, никогда не выступают изолированно, а сопровождаются морфологическими показателями соответствующих граммем. Именные и глагольные словоформы в таких языках членятся на две части: основу (состоящую из корня и, возможно, каких-то неграмматических, т. е. словообразовательных аффиксов) и флексию (состоящую из грамматических показателей)s>.
Традиционный синоним термина флексия в русской грамматической традиции — термин окончание — с точки зрения морфологической типологии не вполне корректен, поскольку грамматические значения в языках мира могут выражаться не только «оканчивающими» основу суффиксами, но и «начинающими» ее префиксами, не говоря уже об инфиксах и трансфиксах. С другой стороны, не всегда верно и то, что флексионные морфемы являются наиболее периферийными в словоформе (т. е. самыми первыми или самыми последними, при условии их префиксального resp. суффиксального выражения): мы подробно обсуждали эту проблему в §3 Гл.2 Части первой в связи с феноменом «экстернализо-
s) Напомним, что линейная членимость на основу и флексию в языках фузионного типа может быть затруднена или даже невозможна; это (достаточно частое) свойство языков с развитой грамматической системой порождает специфические проблемы морфологического описания (ср. обсуждение словесно-парадигматических моделей в Части первой, Гл. 2, §4).
Ванных аффиксов» (типа русского -ся), нарушающих «принцип возрастающей грамматичное™». В настоящей книге термин окончание не используется.
С понятием парадигмы тесно связано и понятие лексемы** (фактически, лексема и парадигма — это две стороны одной и той же «морфологической медали»);… Заметим, что если парадигма является, так сказать, наблюдаемым объектом (это… 'Термин предложен в данном значении А. М.Пешковским в 1918 г. (и в дальнейшем использовался А. И.Смирницким, А. А.…Словообразовательные и лексические) значения
Заметим, что по отношению к грамматическим показателям эта разница несущественна: грамматические значения могут быть выражены как аффиксами (или… Словообразовательные значения, таким образом, по способу выражения все же… устанавливают отношения солидарности ('принадлежать к той же категории') и формируют эквиполентные оппозиции;…В системе И. А. Мельчука термин «словоклассифицирующая категория! отсутствует, а, например, грамматический род существительных описывается как «признак синтактики субстантивных лексем» [Мельчук 1998: 242); с другой стороны, вид русского глагола считается словоизменительной категорией. Заметим, что такая трактовка делает более громоздким и определение согласования (ср. Гл. 2, 1.1).
противопоставляют «словообразование» (= выражение дериватем), «формообразование» (= выражение синтаксических граммем) и «словоизменение» (= выражение семантических граммем): в этом случае словоизменительные значения, напротив, соотносятся не с более широким (как у И. А. Мельчука), а с более узким по сравнению с традиционным классом значений — семантических грамматических значений. Из современных работ по морфологии такая система принята, например, в исследовании [Кубрякова 1974]; ср. также [Бон дар ко 1976].
Мы обсудили чисто терминологические различия в употреблении основных грамматических терминов. С другой стороны, существуют важные содержательные различия в их интерпретации, которые вытекают из иного понимания природы грамматических значений. Как правило, при альтернативных трактовках свойство обязательности не считается центральным свойством грамматических значений.
Существуют грамматические теории, которые вообще не считают проблему противопоставления словоизменительных и словообразовательных значений важной (а само это противопоставление — имеющим теоретический статус); такие теории (особенно типичные для раннего генеративизма) исходят из синтаксически ориентированных и «морфе-моцентричных* моделей языка, в которых словоформы «собираются» из морфем приблизительно так же, как предложения «собираются» из словоформ; в таких моделях нет места понятию парадигмы, категории и многим другим из традиционного морфологического арсенала; фактически, нет места и понятию слова (ср. [Selkirk 1982; Di Sciullo/Williams 1987; Lieber 1992] и др.).
С другой стороны, некоторые варианты генеративных моделей (в особенности, так называемая «расщепленная морфология» С. Андерсона) исходят из того, что граница между словоизменением и словообразованием существует и вполне отчетлива, но проводят ее не между обязательными и необязательными значениями, а между синтаксическими и несинтаксическими (морфологическими) значениями. Известна лаконичная формулировка Андерсона «Inflectional morphology is what is relevant to the syntax» [Anderson 1982: 587]; при таком подходе приходится либо специально доказывать, что значения типа глагольного вида или числа существительного связаны с синтаксисом, либо исключать их из числа грамматических. Андерсон предпочитает идти по первому пути (ссылаясь, например, на факты согласования по числу), в то время как многие сторонники «фортунатовской» школы (также ставившие знак равенства между грамматическими и синтаксическими значениями) шли по второму пути, считая, например, значение числа у русских существительных словообразовательным (ср. [Аванесов/Сидоров 1945: 70; Булатова 1983] и др.; к критике этой трактовки ср. также [Зализняк 1967:55-57 и Булыгина 1980]). Исключение несинтаксических значений из числа грамматических дает возможность
провести более жесткую и однозначную границу, но существенно обедняет реальную картину; «синтаксическая» модель грамматики оказывается, в конечном счете, слишком приблизительной и схематической.
Если многие генеративные теории исходят из ненужности различения грамматических и неграмматических значений, то многие когнитивные и функциональные теории исходят из невозможности их различения. В их аргументации (укажем прежде всего такие работы, как [Dressier 1989; Plank 1991]; СР- также [Перцов 1996]) центральную роль играет отсутствие жесткой границы между, например, семантическими граммемами и дериватемами, а также трудность применения критерия обязательности во многих «спорных» ситуациях (мы специально рассмотрим такие случаи ниже). Сторонники этого направления отрицают ведущую роль обязательности при определении грамматического значения и вместо одной обязательности предлагают использовать целый набор признаков, позволяющих упорядочить языковые значения на «шкале грамматично-сти»; соответственно, в рамках такой системы взглядов необязательное значение вполне может быть признано словоизменительным, если оно удовлетворяет каким-то другим критериям (например, является регулярным, не меняет части речи, не идиоматично, его показатель содержит фонемы или вызывает чередования, характерные для других грамматических показателей данного языка, и т.д., и т.п.). Слабые стороны такого подхода в принципе те же, что и у любого построения, использующего многофакторный анализ: предложенные критерии очевидным образом нуждаются в ранжировании («более важные» — «менее важные»), а это трудно сделать единственным образом; кроме того, применение разных критериев к одному и тому же «тестируемому» значению часто дает противоположные результаты (что если, например, некоторое значение регулярно и не меняет части речи, но его показатель вызывает нетипичные чередования?), и необходимо разрабатывать специальные процедуры принятия решения для всех таких случаев.
Как читатель, вероятно, уже почувствовал, во всех перечисленных теориях есть доля истины: они опираются на те свойства грамматических значений, которые им действительно присущи (или могут быть присущи в языках определенного типа). Грамматические значения встречаются не во всех языках мира, причем граница между граммемами и дериватемами действительно ни в одном языке не является жесткой (а в некоторых языках особенно размыта); с другой стороны, наиболее типичные граммемы (хотя и не все!) действительно в сильной степени связаны с выражением синтаксических отношений. Тем не менее, мы полагаем, что опора на свойство обязательности позволяет понять более фундаментальные особенности функционирования языковых систем и, с другой стороны, дает в распоряжение исследователя достаточно гибкий понятийный аппарат. В то же время, существуют такие области, в ко-
5 Jan. 40
торых использовать понятие обязательности особенно сложно; на факты такого рода критики теории обязательности чаше всего ссылаются. Ниже мы, как и обещали, кратко рассмотрим наиболее типичные случаи.
§ 4. Разбор некоторых трудных случаев: «грамматическая периферия»
В самом начале данной главы мы отмечали, что в основе нашего понимания грамматического значения лежит представление о градуальном характере грамматического. Это представление опирается на аргументы прежде всего диахронического порядка. В истории языков грамматические категории не возникают внезапно; они являются результатом длительной эволюции исходно различных языковых элементов, постепенно начинающих образовывать некоторую «обязательную конфигурацию» (которая с течением времени может измениться или распасться). Именно поэтому грамматические категории не являются жестко заданными и неизменными логическими структурами; по этой же причине в языках мира безусловно возможны «более грамматические» и «менее грамматические» явления. Компактное множество взаимоисключающих и обязательных морфологических показателей, образующих парадигму с ясной структурой, — идеальный случай «прототипической» грамматической категории|3); но наряду с такими случаями в языках имеется и целый ряд других более маргинальных образований. Мы рассмотрим некоторые наиболее важные отклонения от «прототипической» грамматической категории (так сказать, явления «грамматической периферии»); к их числу относятся:
· неморфологически выражаемые грамматические значения;
· регулярные, но необязательные морфологические значения («квазиграммемы»);
· случаи импликативной реализации граммем;
· ограниченно (или частично) обязательные значения.
4.1. Неморфологически выряжаемые грамматические значения
Как уже отмечалось выше, процедура установления обязательного характера произвольного значения является наиболее простой в том случае, когда это значение является морфологическим (т. е., грубо говоря, когда оно выражается некоторым аффиксом в составе словоформы). Аффикс в составе словоформы, как правило, занимает определенную позицию; аффиксы, исключающие друг друга в одной и той же позиции, легко
О грамматической категории как о феномене с нежесткой прототипической структурой, состоящей из центра и периферии (подобно многим другим ключевым лингвистическим понятиям), см., в частности, (Taylor 1995: 173-190).
объединяются в парадигму. Таким образом, сама жесткость морфологической структуры словоформы способствуют появлению обязательных категорий.
Все эти благоприятные условия отсутствуют, если мы имеем дело с неморфологическим грамматическим показателем (типа вспомогательного глагола или частицы). Предположим, мы имеем дело с сочетанием двух глаголов — основного и «вспомогательного». Чему может быть противопоставлено значение, выражаемое вспомогательным глаголом? Значению, выражаемому другим вспомогательным глаголом? Другим аффиксом? Вместо компактного, ограниченного и жестко структурированного пространства словоформы, мы вынуждены перенести поиски обязательной категории на гораздо более зыбкую почву глагольной синтагмы (или даже предложения в целом). Эта проблема известна в лингвистике как проблема «аналитических форм» («аналитическим» принято называть неморфологическое выражение грамматического значения).
Существует и иное, расширенное употребление термина «аналитический» — фактически, просто в значении «неморфологический»; так иногда говорят, что конструкция оказать помощь — это аналитический эквивалент глагола помочь. Ниже мы будем придерживаться только более узкого понимания этого термина, при котором аналитизм является характеристикой способа выражения именно грамматических значений.
Аналитический показатель граммемы относительно легко выделяется только в том случае, если какие-то другие граммемы данной категории имеют морфологическое выражение (ср. аналитический показатель будущего времени в русском языке, аналитический показатель перфекта в английском и т. п.); этот принцип иногда называется «критерием Смирниц-кого» (см. [Смирницкий 1959: 62-85]; ср. также [Арутюнова 1965; Храков-ский 1965 и Мельчук 1997: 334-339]). Однако существование полностью аналитической парадигмы (в которой были бы противопоставлены друг другу несколько взаимоисключающих аналитических показателей) более проблематично, хотя, по-видимому, в таких языках, как хауса, волоф (в Западной Африке) или самоа (в Полинезии) глагольные и именные парадигмы, если они существуют, являются именно аналитическими. С другой стороны, одиночный неморфологический показатель, явным образом не противопоставленный никаким другим, никогда не может рассматриваться как грамматический — даже если он выражает потенциально грамматическое значение (типа многократности или длительности, отрицания или вопроса, возможности или желания и т. п.).
В качестве примера языка с последовательно аналитической грамматикой рассмотрим полинезийский язык самоа (ср. [Mosel/Hovdhaugen 1992]). Все словоизменительные категории имени и глагола в самоа являются аналитическими (сравнительно немногочисленными аффиксами выражаются только словообразовательные значения). Так, каждая глагольная основа в предложении сопровождается одной «частицей» из определенного фиксированного набора (около
десяти); эти частицы не сочетаются друг с другом в одном предложении и выражают значения вида, времени и наклонения (в семантическом отношении вполне типичные для многих глагольных систем языков мира): ср. '«а ПЕРФЕКТ, от ПРОШ.ДЛИТ, е ХАБИТУАЛИС, 'а БУД, Ча КОНЪЮНКТИВ и т. п. (имена граммем условные и отражают только их базовые употребления). Существенно, что при глаголе может и не употребляться никакой частицы, но такая ситуация возможна только в строго определенном числе случаев и отсутствие частицы передает строго определенные значения (например, повелительного наклонения); тем самым, имеются все основания говорить о существовании дополнительно одного или нескольких нулевых аналитических показателей в глагольной системе самоа. Такая «безупречная» с теоретической точки зрения аналитическая парадигма — сравнительно редкое явление. Важно, тем не менее, подчеркнуть, что, вопреки традиционной «морфологически ориентированной» точке зрения |4>, полностью аналитические парадигмы вполне возможны.
Разумеется, более типичной является ситуация, когда аналитические и синтетические формы в языке сосуществуют, причем соответствие между типом грамматического значения и степенью морфологичности его выражения далеко не случайно. Так, формы прогрессива, перфекта или будущего времени гораздо чаще являются аналитическими, чем формы аориста или имперфекта (об этих терминах см. Гл. 7, § 1). Большим количеством слабо грамматикализованных аналитических форм-«сателлитов» (при четко выделимом «синтетическом ядре») в глагольной парадигме отличаются иберо-романские, индоарийские, тюркские, дравидийские языки.
Следует также иметь в виду, что в некоторых языках (все или почти все) грамматические категории глагола выражаются аналитически, но при этом кумулятивно: иначе говоря, в предложении употребляется особая лексема (словоформа или клитика), представляющая собой морфологически не членимую глагольную флексию. Такие явления встречаются в некоторых иранских, кушитских, австралийских языках. В описаниях кушитских языков аналитические глагольные показатели обычно называются «индикаторами» (или «селекторами»), в описаниях австралийских языков — «катализаторами».
Лингвисты неоднократно обращали внимание на связь обязательности с морфологическим выражением граммемы ср. [Гринберг 1960; Bybee/Dahl 1989; Маслова 1994]; в работе [Bybee/Dahl 1989] даже утверждается, что для неморфологических показателей признак обязательности в большинстве случаев нерелевантен (это утверждение, по-видимому, все же является слишком сильным, но по крайней мере применительно к «одиночным» неморфологическим показателям оно может быть верным), с другой стороны, исследователи, работающие в рамках «теории грамматикализации», часто фактически отождествляют (сознательно или имплицитно) грамматикализацию и морфологизацию; ср. в особенности [Lehmann 1982; Croft 1990 и Bybee et al. 1994].
14)/^
M». одну из наиболее радикальных версий этого принципа в формулировке А. И. Смир-ницкого: «Не может быть грамматической категории, представленной лишь одними аналитическими формами» [Смирницкий 1959: 82].
4.2. «Квазиграммемы»
Следующий «камень преткновения» в концепции грамматического как обязательного — необязательные, но регулярно выражаемые значения. Это самый близкий к грамматическим класс значений, который как с формальной, так и с содержательной точки зрения часто с трудом от них отличим (особенно в тех языках, где такие значения многочисленны). С диахронической точки зрения такие значения, бесспорно, являются этапом, непосредственно предшествующим образованию полноценных грамматических категорий: это как бы уже полностью сформировавшиеся граммемы, но еще не «собранные» в категории. И. А. Мельчук недавно предложил для таких значений термин «квазиграммема»1S) (ср. (Мельчук 1997: 286-288 et passim]; ср. также [Перцов 1996]); подчеркнем, что в плане языковой эволюции квазиграммема — это не столько «вырожденная» [Мельчук 1997: 251], сколько именно еще «не рожденная» граммема.
В концепции И. А. Мельчука понятие квазиграммемы не играет существенной роли и является относительно поздней маргинальной «поправкой» к общей теоретической схеме: И. А. Мельчук, с одной стороны, предлагает считать граммемами обязательные значения, но, с другой стороны, указывает, что квазиграммемы также «принадлежат к словоизменению» и вообще в теоретических рассуждениях должны отождествляться с граммемами «везде, где это не приводит к противоречиям» [Мельчук 1997: 288]. При таком двойственном подходе остается неясным, входит или все же в конечном счете не входит обязательность в определение «словоизменительного значения». Н. В. Перцов устраняет это противоречие, эксплицитно отказываясь от критерия обязательности и предлагая при проведении границы между словообразованием и словоизменением опираться на многофакторный анализ в духе Дреслера и Планка (о котором см. выше); тем самым, для Н. В. Перцова понятие квазиграммемы оказывается одним из центральных понятий грамматической теории.
Из сказанного ясно, что основной особенностью квазиграммем является их «одиночный» характер: они не формируют категории и образуют привативные, а не эквиполентные оппозиции.
Почему же возникает потребность в таком промежуточном понятии? Почему нельзя просто отнести случаи регулярно выражаемых необязательных значений к словообразованию? По-видимому, можно указать две причины этого. Во-первых, существует представление о словообразовании как об области относительно (или преимущественно) нерегулярных явлений, отражаемых в словаре, а не в грамматике языка; во-вторых, некоторые из тех значений, которые выражаются квазиграммемами, содержательно слишком мало похожи на канонические словообразовательные значения (тяготея к области «сильных» граммем из деривационно-грамматического континуума).
IS* Похожий (хотя и не полностью тождественный) круг явлений описан в [Плунгян 1992] под названием «неограниченно-продуктивного словообразования».
Рассмотрим эти соображения по очереди. Представление о словообразовании как о нерегулярном, «словарном» явлении основано преимущественно на языках классического индоевропейского типа, где словообразование и словоизменение противопоставлены достаточно отчетливо и переходная зона между ними практически отсутствует. Материал таких языков позволяет отождествлять два, вообще говоря, абсолютно разных свойства: привативный характер оппозиции между исходным и производным элементом и семантическую непредсказуемость производного элемента. Действительно, обычно при характеристике словообразования индоевропейского типа исследователи настаивают на том, что словообразовательные показатели «создают новые лексические единицы», т. е. прежде всего пополняют словарь данного языка; в неявном виде это утверждение означает, что производная единица имеет многообразные и нетривиальные семантические отличия от исходной, т. е. для нее необходимо, на более техническом языке, заводить «новую словарную статью». Всякий раз, когда сторонники такой точки зрения имеют дело с неидиоматичными производными единицами, которые можно описывать «в той же словарной статье», что и производное слово, они склонны объявлять эти единицы элементами словоизменительной парадигмы — просто потому, что с неидиоматичным, «автоматическим» словообразованием (таким же или почти таким же, как словоизменение) они никогда не сталкивались.
В действительности, даже в индоевропейских языках отдельные примеры регулярного словообразования имеются; часто грамматическая традиция «маскирует» их под словоизменение (как это имело место в случае с причастиями, рассмотренном выше). Подобно тому, как по степени членимости словоформы в языке образуют континуум (от формантов до морфоидов, ср. Часть первая), так и по степени идиоматичное™ словообразование любого языка колеблется между полностью идиоматичным и полностью регулярным; если идиоматичное словообразование следует описывать в словаре (поскольку значение слов типа утренник не может быть получено ни по каким общим правилам), то регулярное словообразование можно описывать в грамматике (ср. [Мельчук 1990]), но от этого оно еше не становится автоматически словоизменением.
Между тем, существует значительное количество языков (алтайские, уральские, дравидийские, баскский, кечуа и многие другие16'), в которых деривационные морфемы многочисленны, регулярны и неидиоматичны; например, показатель агентивности или каузативности может в таких языках свободно присоединяться к любой глагольной основе (если это допускается ее семантикой). Очевидным образом, слова, содержащие такие
' Все эти языки в морфологическом отношении являются агглютинативными, и корреляция между агглютинативной морфологией и регулярным словообразованием отнюдь не случайна. Об агглютинации как об отсутствии ограничений на сочетаемость морфем друг с другом и о сходстве внутрисловных отношений между агглютинативными морфемами с межсловными синтаксическими отношениями см. подробнее §2 Части первой.
морфемы, не должны описываться «отдельной словарной статьей» (соответствующие аффиксы должны просто перечисляться в грамматике — с указанием их структурных и семантических характеристик, необходимых для построения правильных словоформ с этими аффиксами); вместе с тем, если регулярные аффиксы выражают типичные словообразовательные значения, то неясно, почему, собственно, их нельзя считать словообразовательными. Значительное количество «квазиграмматических» показателей, упоминаемых в лингвистических работах, вполне допускает такую интерпретацию; в частности, регулярными дери вате мам и являются венгерский потенциалис (с суффиксом -hAt-) и японский дезидератив (с суффиксом -/0-), которые в [Мельчук 1997:287] приводятся в качестве примеров квазиграммем (последний к тому же меняет часть речи исходной лексемы, поскольку, присоединяясь к глаголам, образует прилагательные).
Материал агглютинативных языков еще раз убеждает в том, что в общем случае регулярность и обязательность — совершенно независимые свойства (напомним, что мы уже обсуждали другой аспект этой проблемы в связи со словоклассифицирующими — т.е. обязательными, но не регулярными категориями в §2). Степень регулярности некоторого значения определяет лишь технику его описания (в словаре vs. в грамматике), тогда как обязательность значения определяет, выступает ли оно как элемент некоторой навязываемой говорящему категории или свободно выражается в соответствии с коммуникативным замыслом говорящего. Регулярность — чисто формальное свойство; обязательность же в конечном счете отражает способ концептуализации действительности в данном языке.
Более сложная ситуация возникает в том случае, когда регулярным, но не обязательным оказывается значение из зоны «сильных» граммем. Соответствующие значения выражаются в языках мира либо аффиксами—и тогда они должны образовывать грамматические категории, либо корнями (т. е. клитиками или автономными словоформами) — и тогда, если они не образуют аналитической парадигмы, то они являются просто частью лексики данного языка и должны быть описаны в словаре (как предлоги, местоимения, союзы и т. п. «служебные» в широком смысле элементы). Единственным конфликтным случаем здесь был бы тот, если бы в языке обнаружился хотя и аффиксальный, но все же не обязательный носитель «сильного» грамматического значения. С нашей точки зрения, такая ситуация в естественных языках все же крайне редка (если вообще возможна); для большинства примеров, которые обсуждаются в литературе, обычно существует альтернативная морфологическая интерпретация. Этот вопрос нуждается в дальнейшем изучении.
Так, есть гораздо больше оснований считать английский посессивный показатель ‘s (оформляющий как имена, так и именные группы типа the king of England’s daughter) клитикой (а не «мигрирующим суффиксом», как предлагается в [Мельчук 1997: 287J); с этой точки зрения предпочтительнее и трактовка русского -ко
(в сочетаниях типа сядь-ка, а ну-ка сядь, пусть-ка он сядет) как слабоотделимой клитики (а не суффикса, как предлагается, например, в [Перцов 1996 а]). С другой стороны, утверждения о необязательности, например, показателей падежа или числа существительных в тюркских или иранских языках, которые часто можно встретить в литературе (ср. [Гузев/Насилов 1981; Касевич 1988: 180-181; Яхонтов 1991 и др.]), скорее всего основаны на фактах иного рода: в действительности речь должна идти не о необязательности этих показателей, а об их импликативной реализации (см. непосредственно ниже).
4.3. Импликативная реализация граммем
Обязательность грамматической категории $ (для элементов из класса УС} предполагает такую ситуацию, когда какая-то одна из граммем ff выражена при всех случаях употребления соответствующего элемента из .?Г («носителя категории») в тексте. Между тем, существуют такие случаи (именно они и будут предметом обсуждения в этом и частично в следующем разделе), когда грамматическую категорию считают обязательной несмотря на то, что в ряде контекстов никакая из ее граммем не выражена при носителе категории.
Один из таких случаев (который мы предлагаем называть «импликативной реализацией» грамматической категории) состоит в том, что в «спорных контекстах» употребление граммем категории ff запрещено: оно блокируется граммемами некоторой другой грамматической категории ^2 • Так, в русских глагольных словоформах в принципе различается либо лицо/число, либо род/число подлежащего; лицо (но не род) различается в формах презенса (я приду, он/она придет); род (но не лицо) различаются в формах прошедшего времени (я/ты пришел/пришла, он пришел, она пришла). При буквальном понимании терминов и род, и лицо для русского глагола окажутся не обязательны; но мы видим, что невозможность выразить эти значения всякий раз, так сказать, вынужденная: обе грамматические категории (вообще говоря, безусловно совместимые и друг с другом, и с разными граммемами времени — вспомним ситуацию в арабском языке) оказываются в данном случае подчинены выражению категории времени: презенс блокирует выражение рода, прошедшее время — выражение лица. Сходным образом в литовском языке число подлежащего не различается в глагольных формах 3 лица (всегда различаясь в формах 1 и 2 лица): граммема *3 лицо' блокирует грамматическую категорию числа (в литовском языке эта зависимость имеет место во всей глагольной парадигме). Наличие одной категории (или граммемы) тем самым имплицирует отсутствие другой — отсюда и название «им-шшкативная реализация» для этого класса случаев. В силу специального соглашения допустимо считать, что невозможность выразить грамматическую категорию @ из-за «капризов» другой грамматической категории ^ не влияет на решение относительно обязательности $ (ср. формулировку
Е, С. Масловой: «выражение данного значения либо обязательно, либо невозможно» [Маслова 1994: 49]).
По-видимому, ситуация именно такого рода наблюдается в тех тюркских и иранских языках, про которые утверждается, что категория числа или падежа в них необязательна. Это утверждение делается на основе того факта, что форма единственного числа и/или именительного падежа (не имеющая специальных показателей) может употребляться в контекстах, которые явным образом подразумевают семантику множественности и/или требуют косвенного падежа. Иными словами, налицо как будто бы привативная оппозиция между «маркированной» и «нулевой» формой.
В действительности, правила употребления этой «нулевой» формы несколько сложнее. Если в одних случаях она может выражать именительный падеж единственного числа, то в других случаях выбор этой формы никак не зависит от факторов, определяющих употребление па-дежно-числовых граммем. Однако оказывается, что в этих случаях выбор нулевой формы определяется другим фактором — она выражает граммему 'нереферентность' категории детерминации (т. е., грубо говоря, не соотносится ни с каким конкретным объектом; подробнее о граммемах детерминации см. Гл. 6, §2). Нереферентность блокирует выражение надежно-числовых граммем, а это позволяет считать значения числа и падежа по-прежнему обязательными, т. е. нормальными граммемами (хотя и со специфическими правилами употребления), а не «квазиграммемами».
Таким образом, если вполне можно согласиться с тем, что — на уровне описания — «в турецком языке отсутствие аффикса множественного числа не обязательно означает единичность, существительное без показателя падежа употребляется и как подлежащее, и как дополнение, и как определение» [Яхонтов 1991: 105], то из этого факта, как представляется, еще не следует делать поспешного вывода о том, что это отсутствие аффикса не имеет «определенного значения» [ibidem]; просто оно может выражать граммему другой категории и в силу этого оказывается не в состоянии обслуживать свои «законные» значения.
Подчеркнем, что «импликативная реализация» усматривается прежде всего там, где две конфликтующие грамматические категории могли бы быть совместимы. Когда И. А. Мельчук говорит о «неглобальном характере» грамматических категорий [Мельчук 1997: 252-253], он приводит отчасти близкие, но на самом деле не вполне тождественные примеры. Так, неразличение форм времени в императиве — универсальная характеристика глагольных систем (подробнее см. в разделе о наклонении, Га. 7, §2); императив всегда соотносится с неактуальной ситуацией, поэтому граммемы времени и не должны сочетаться с формами императива (скорее, их можно пытаться объединить в рамках единой грамматической категории). Существенно, однако, что при любом подходе к этой проблеме взаимодействие грамматических категорий друг с другом — важный дополнительный фактор, влияющий на способ описания самых основных понятий. К сожалению, этот фактор нередко недооценивается, и в целом проблема взаимодействия категорий
является одной из наименее разработанных в теории грамматики (интересные попытки по-разному поставить и решить эту проблему можно найти, например, в статьях [Ревзина 1973; Храковский 1996; Aikhenvald/Dixon 1998]).
4.4. Феномен «частичной обязательности»
Если обязательность понимается как градуальное свойство, то, следовательно, должны существовать примеры «более обязательных» и «менее обязательных» значений. Мы можем указать по крайней мере два класса таких случаев (практически не связанных друг с другом); возможно, существуют и другие.
Первый случай касается существования таких семантических элементов, которые хотя и являются в полном смысле слова обязательными, но выступают в этой роли по отношению к очень узкому классу лексем. Это, скорее, обязательность внутри лексики языка, которая не имеет отношения ни к грамматике, ни к морфологии, и тем не менее механизмы ее проявления точно те же, что и для грамматической обязательности. Приведем сначала искусственный пример. Пусть в некотором языке необходимо выразить смысл 'нож' (я» 'инструмент, предназначенный для того, чтобы резать твердые объекты'). Вполне вероятна такая ситуация, что «в чистом виде» данный смысл выразить в данном языке будет невозможно: для понятия «нож вообще» в нем просто не найдется подходящей лексемы. Зато будет существовать множество других лексем, выражающих, помимо смысла 'нож', другие семантические элементы, например: 'нож с большим плоским лезвием', 'нож с узким зазубренным лезвием', 'нож, используемый женщинами для чистки рыбы', 'нож, используемый для разделки мяса*, 'нож, служащий боевым оружием', 'священный нож, используемый жрецами в специальных обрядах', и т.д., и т. п. Это положение дел очень напоминает грамматическую категорию: выбор в процессе коммуникации смысла 'нож' «навязывает» говорящему необходимость определенных семантических приращений, причем эти приращения выбираются из небольшого списка взаимоисключающих элементов, образующих в данном языке «категорию» (если принять, что нож, используемый жрецами, уже не может иметь плоского лезвия, не может употребляться для чистки рыбы и т.д., и т.п.: здесь, как это и характерно для естественно-языковой логики, для описания каждой конкретной разновидности ножа выбираются логически не исключающие друг друга, но реально оказывающиеся несовместимыми признаки). Собственно, отличие от грамматической категории здесь только в том, что «носители категории» образуют очень ограниченное множество, а в семиотическом отношении эта категория структурирована несколько хуже. Данное явление иногда называется «лексической обязательностью» (см. [Апресян 1980: 17-19]; ср. также интересный разбор конкретного материала
русского и французского языков в [Гак 1989]); оно, так же как и грамматическая обязательность, имеет прямое отношение к концептуализации мира в языке — в данном случае, в области лексической номинации. Лексическая обязательность особенно характерна для определенных областей лексики с относительно дискретной концептуальной структурой — таких, как глаголы движения, имена родства, цветообозначения и т. п. (не случайно все эти области лексики служили излюбленным полигоном для ранних структуралистских теорий значения типа компонентного анализа или анализа по «дифференциальным признакам», равным образом применявшегося как к лексике, так и к грамматике).
Так, в области терминов родства во многих языках не существует обозначения для смысла 'брат' — имеются только лексемы 'старший брат' и 'младший брат'; с другой стороны, и в языках типа русского нет обобщающей лексемы для обозначения смысла 'ребенок тех же родителей' (по-русски следует обязательно уточнить пол, т. е. сказать либо брат, либо сестра). В русском языке также нет обобщающей лексемы для обозначения родственника по браку (ср. франц. beau-parent); для выражения этого смысла говорящий по-русски обязан осуществить дополнительный выбор на основе достаточно сложного набора параметров (ср. шурин, деверь, золовка, теща и т. п.).
Второй класс случаев касается «настоящих» грамматических показателей, которые, однако, в отличие от обычных граммем, в определенных контекстах не употребляются (т. е. существуют такие контексты, в которых ни одна из граммем соответствующей категории невозможна, а нужный смысл выражается другими средствами). Хорошим примером являются правила употребления показателей детерминации в английском языке: ни имена собственные, ни указательные и притяжательные местоимения, ни посессивные группы не допускают употребления определенного артикля; между тем, все такие контексты считаются определенными (ср. [*the] ту house 'мой дом', [*the] this house 'этот дом', [*the] John 'Джон', *the] John’s house 'дом Джона' и т. п.). Значение определенности в них один раз уже выражено, и дублирование этого значения граммемой не допускается (хотя в нормальном случае граммемы легко дублируют те лексические значения, которые могут быть выражены в контексте). Данное ограничение не универсально (хотя и нередко): существуют языки (итальянский, армянский, иврит и др.), в которых показатель определенности может употребляться во всех или некоторых из приведенных контекстов17'.
Другой характерный пример «контекстной вытеснимости» граммем — невозможность в некоторых языках употребить показатель грамматического времени в контексте обстоятельств времени типа 'завтра' или 'сейчас1, эксплицитно задающих временную рамку высказывания.
|7> В статье (Даниэль/Плунгян 1996] данное явление было названо «контекстной вытес-нимостью» грамматического показателя.
Во всех рассмотренных случаях лексические показатели как бы втор-гаются в парадигму, образуемую граммемами, принимая на себя функции соответствующих по смыслу граммем. С одной стороны, здесь налицо отступление от принципа обязательности; но, с другой стороны, семантическая обязательность соответствующей категории все же соблюдается, хотя эта категория и выражается «незаконными» средствами.
Такая ситуация отчасти похожа на рассмотренную ранее «импликатив-ную реализацию» грамматических категорий — с той, однако, разницей, что в примерах данной группы выражение грамматической категории блокируется не другими (и при этом случайными) грамматическими элементами, а лексическими элементами, причем именно теми, которые содержат смысл отсутствующей граммемы. «Импликативная реализация» есть внутрисистемный каприз грамматической сочетаемости; «контекстная вытеснимость» — запрет на дублирование лексической информации грамматическими средствами. Но в некотором смысле и то, и другое явление представляют ограниченную, неполноценную обязательность, которая часто возникает на начальной стадии грамматикализации показателя (и может быть преодолена в процессе языковой эволюции).
Ключевые понятия
Морфологические и неморфологические значения. Морфологические значения как значения аффиксов и морфологически не самостоятельных корней. «Всеобщность» как главное свойство аффиксальных морфологических значений.
Грамматические и неграмматические (= лексические и словообразовательные) морфологические значения. Различные подходы к определению грамматических значений. Обязательность как основное свойство грамматических значений; градуальный характер обязательности.
Обязательность как «грамматическая анкета», от ответа на вопросы которой говорящий не может уклониться. Грамматическая категория как множество взаимоисключающих значений («граммем»), обязательных при некотором классе словоформ. Эквиполентность (непривативность) грамматических оппозиций. Грамматические категории и «наивная картина мира»; особенности организации грамматических систем как основной источник языкового разнообразия.
Основа и флексия. Парадигма как множество словоформ, различающихся флексиями. Лексема; словоформа, представляющая лексему. Классы парадигм со сходными свойствами: грамматический разряд и словоизменительный тип. Дефектные и неполные парадигмы.
Словообразовательные (= необязательные морфологические) значения как промежуточный класс между лексическими и грамматическими
значениями. «Сильные» (= синтаксические, реляционные) граммемы, «семантические» граммемы и дериватемы. Изолирующие и аморфные языки. Регулярные необязательные (= продуктивные словообразовательные) и нерегулярные обязательные (= словоклассифицирующие грамматические) значения.
Понятие «грамматической периферии». Неморфологическое (аналитическое) выражение грамматических значений. Импликативная реализация граммем. Случаи ограниченной (частичной) обязательности: «лексическая обязательность» и «контекстная вытеснимость».
Основная библиография
Классификация морфологических значений — одна из традиционных трудных проблем теории языка; различные подходы к решению этой проблемы излагаются, в частности, в [Бондарко 1976; Булыгина 1980 и Bybee 1985]. О понятии обязательности, помимо классической статьи [Якобсон 1959], см. также [Гринберг 1960; Мельчук 1961 и 1997: 240-319; Зализняк 1967]; современное состояние проблемы обсуждается в [Маслова 1994 и Перцов 1996].
Различные подходы к теории парадигм представлены в работах [Зализняк 1967; Matthews 1972; Ревзин 1973; Кубрякова 1974; Wurzel 1984; Bybee 1985; Carctairs 1987 и 1992; Plank 1991; Anderson 1992; Aronoff 1994; Beard 1995] и др. (как можно видеть, в отечественной традиции эта проблематика почти не разрабатывалась).
О градуальном характере оппозиции между грамматическими и неграмматическими значениями см. прежде всего [Bybee 1985]; ср. также [Dahl 1985].
Определенную помощь в первоначальной ориентации могут оказать также следующие статьи, включенные в словарь [Ярцева (ред.) 1990]: «Категория», «Лексема», «Флексия» (Т. В. Булыгина и С. А. Крылов), «Словоизменение», «Словоформа» (А. А. Зализняк), «Парадигма», «Словообразование» (Е.С. Кубрякова).
Глава 2
Основные синтаксические граммемы имени
§ 1. Согласовательный класс 1.1. Понятие согласования Как показывает само название этой категории, согласовательный класс связан с морфологическим выражением согласования —…Падеж
2.1. Основные функции падежа
Если категория согласовательного класса связана с синтаксическим понятием согласования, то категория падежа связана с синтаксическим понятием управления. Эти два типа синтаксической связи определяются на разных основаниях и, как показано, в частности, в [(Кибрик 1977 а], не исключают друг друга. Согласование, как помнит читатель, есть, в самом общем виде, появление одной граммемы в зависимости от другой граммемы; описание согласования не требует прямого обращения к понятию синтаксического подчинения, дерева зависимостей и т. п. Напротив, управление как раз и является прямым морфологическим выражением синтаксического подчинения: управление есть грамматическое маркирование синтаксически зависимого статуса словоформы в синтагме. Говорят, что лексема X управляет словоформой у (= граммемой в словоформы у) в том случае, если появление граммемы в отражает факт синтаксической зависимости усяХ. Несколько упрощая, можно также сказать, что управление ориентировано не на зависимость граммемы от граммемы (как согласование), а на зависимость граммемы от лексемы: выбор конкретной граммемы^ определяется лексическими (или семантическими) свойствами управляющей лексемы, но не ее грамматическими характеристиками.
Примеры морфологических типов управления весьма разнообразны; например, в русском языке глагол, прилагательное, наречие или предлог могут управлять падежом существительного (изучать синтаксис-0, обучаться синтаксис-у; увлеченный синтаксис-ом- лучше синтаксис-а; ради синтаксис-а); одно существительное также может управлять падежом другого (разделы синтаксис-а)9*. Глагол или существительное могут управлять инфинитивом глагола (стремиться/стремление уеха-ть); наконец, в языках возможны случаи, когда глагол или подчинительный союз управляют граммемами глагольного наклонения: ср. франц. quoique vous repond-iez 'хотя вы и отвечаете', где союз quoique 'хотя, пусть даже' требует обязательной постановки зависимого глагола в форму сослагательного наклонения (ср. независимую конструкцию vous repond-ez 'вы отвечаете', где употребляется форма презенса изъявительного наклонения).
Несколько забегая вперед, заметим, что с семантико-синтаксической точки зрения практически все случаи управления являются оформле-
' Важное отличие управления от согласования состоит в том, что падежная граммема управляемого существительного навязывается именно управляющей лексемой в целом, а не ее отдельной словоформой; ср. изучал/изучает/изучили бы... синтаксисте, но при переходе от одной лексеме к другой управление может меняться, ср. изучение синтаксис-а. Если оказывается, что разные словоформы лексемы-контролера требуют разных падежей зависимой лексемы, то перед нами ситуация согласования (ср. пример согласования падежных граммем грузинских существительных с временем глагола, разбиравшийся в /./; см. также ниже замечание о согласуемых падежах, Z5).
fi law. 40
нием предикатно-аргументной зависимости (предикат управляет некоторой граммемой своего аргумента); хотя подробное рассмотрение этой проблематики выходит за рамки морфологии, ниже нам еще придется возвращаться к ней.
Как видно уже из приведенных примеров, основным грамматическим средством выражения управления является категория падежа: падежные граммемы (отдельную граммему этой категории, как и категорию в целом, также называют «падежом») оформляют управляемое существительное и являются показателями его синтаксически зависимого статуса; тем самым, падеж принадлежит к числу грамматических категорий, оформляющих синтаксически зависимый элемент (см. [Мельчук 1998:313-371])|0). Однако функция падежа не сводится только к выражению самого факта синтаксической зависимости имени. Если бы это было так, то в языках мира были бы представлены всего две падежных граммемы, маркирующие соответственно «зависимую» и «независимую» синтаксическую позицию имени. Такие падежные системы, вообще говоря, встречаются, но они являются редкими и справедливо квалифицируются лингвистами как «вырожденные»: наличие в языке двухпадежной системы — последний этап перед полной утратой им категории падежа.
Один из наиболее известных примеров двухпадежной системы — та, которая была засвидетельствована в старофранцузском (IX-XIII вв.) и старопровансальском языках, с морфологическим противопоставлением номинатива (или «прямого падежа») и обликвуса (или «косвенного падежа»). Так например, парадигма склонения существительного roys 'король* в старофранцузском языке выглядела следующим образом:
(О
| НОМ ОБЛ |
ВД.Ч МН.Ч
roy-s гоу-0
ГОу-0 ГОу-5
10) Другой категорией, имеющей такую функцию, является, как можно видеть, наклонение глагола; тем самым, падеж противопоставляется наклонению, как… единственного; ср. [Якобсон 1966]; подробнее см. также [Plank 1979; Haiman… Старофранцузский обликвус маркирует все случаи синтаксической зависимости имени (в позиции косвенного дополнения; в…Общее представление о залоге
(1) а) Большинство теоретиков отвергло этот аргумент. Ь) Этот аргумент был отвергнут большинством теоретиков. Более того, по-видимому, во всех описаниях предложение (1 а) будет названо активным, а предложение (1 Ь) — пассивным;…Другие типы залогов
Какие еще залоговые преобразования возможны в естественных языках, кроме пассива? Классический пассив (как безагентивный и неполный, так и более редкий полный)… (9) а) Царь подарил ему шубу. Ь) Царь одарил его шубой.Проблемы описания семантических граммем
Поэтому, прежде чем переходить к обзору основных семантических именных и глагольных фаммем, необходимо хотя бы бегло обсудить три фуппы… Первая фуппа вопросов связана с природой фамматического значения как… Вторая фуппа вопросов связана с тем, как устроены семантические фаммемы в разных языках, возможно ли сравнение разных…Структура значений граммемы
Для граммемы русского настоящего времени базовым, по-видимому, окажется то значение, которое представлено в примере (1)4); для граммемы русского… Представляет большой интерес анализ структуры значений граммемы в… *) Подчеркнем, что базовое значение отнюдь не должно совпадать с инвариантом граммемы — если такой инвариант пытаться…Требования к типологическому описанию граммем
Такое сравнение возможно, если, как и всякое сравнение, оно исходит из того, что у сравниваемых элементов, наряду с различиями, есть и… 5' Согласно гипотезе Т. Гивона, развитие естественных языков происходит в… английские формы Куриловича с какими-либо глагольными формами другого языка? В рамках того метаязыка, на котором они…Ршва 5
Деистические и «шифтерные» категории
В данном разделе будет рассмотрен особый класс языковых значений, важность которых столь убедительно продемонстрировал Р. О. Якобсон; это «шифтерные» значения, так или иначе включающие указание на ситуацию порождения текста («речевой акт») или участников этой ситуации.
Характеристики речевого акта
Если традиционный термин «личные» кажется не вполне удачным по отношению к местоимениям третьего лица, то сам термин «местоимения», напротив, плохо… ') Понятие (грамматического) лица не следует смешивать с грамматической… отсылка к предыдущему упоминанию данного референта в тексте (см. ниже, §2). Но в значении «личных местоимений» 1 и 2…Дейктические системы: пространственный дейксис
Иногда встречается и расширенная трактовка дейксиса (восходящая, в частности, к работам известного австрийского лингвиста и психолога Карла… Пространственный дейксис (который мы рассмотрим в первую очередь) связан с… Минимальная дейктическая система состоит из двух граммем: 'близко от говорящего' («ближний дейксис») и 'не близко от…Время, временная дистанция) и таксис
Этнологи, культурологи и философы много писали о различии моделей времени в разных культурах; о концепциях «циклического», «кругообразного»,… специфику временного дейксиса: все базовые употребления граммем этой… Таким образом, категория временного дейксиса (в грамматиках именно ее принято обозначать просто как «время»6*) может…Глава 6
Именные семантические зоны
Мы переходим к обзору основных семантических граммем имени и глагола; в данной главе речь пойдет о категориях преимущественно именных, выражающих количество и тип объектов. Вместе с тем, количественные значения могут модифицировать и глагольные лексемы; эти случаи, имеющие свою специфику, также будут рассмотрены.
Субстантивное число и смежные значения
Языков с граммемой двойственного числа сравнительно немного: оно известно в древних индоевропейских языках (в санскрите, древнегреческом,… « В данном случае, в одном ряду с существительными следует рассматривать и… 2> Во многих языках парные объекты употребляются в форме единственного числа: ср., например, венгерск. s&m…Являются названия веществ (древесина, пыль, снег), названия гомогенных совокупностей объектов (молодежь, мебель, лапша) и названия свойств и состояний, не имеющих четких временных границ (белизна, смелость, забвение). Характерным является, например, противопоставление недискретного употребления имени сон в значении 'состояние сна* (англ, sleep, франц. sommeil) и его же дискретного употребления в значении 'сновидение' (англ, dream, франц. r&ve; ср.; весьмесяц сон [^ сны*] больного протекал без нарушений vs. я хорошо помню два моих последних сна); похожая полисемия имеется, например, у слова рыба (ср. любитель рыб vs. любитель рыбы). Ср. также противопоставление названий дискретных и недискретных множеств: пример множества дискретных объектов — обычная форма множественного числа (стаканы); названием же недискретной совокупности объектов является, например, посуда. Можно (несколько упрощая ситуацию) сказать, что в первом случае целое определяется как простая количественная сумма однородных частей, а во втором случае целое обладает такими качествами, которыми каждый элемент в отдельности не обладает (грубо говоря, три стакана — это еще не «посуда», пять студентов — это еще не «студенчество» и т. п.).
Недискретные объекты не делятся на элементы — они могут быть только расчленены на «порции», или «части»: если много стаканов — это стаканы, то много глины — это все равно глина, а не *глины; с другой стороны, любая часть глины является глиной, тогда как часть стакана уже не является стаканом (сходным образом отличаются, как помнит читатель, состояния и непредельные процессы от предельных процессов и событий: если некто стоял пять минут, то верно, что он стоял в течение любого промежутка внутри этого интервала; но если некто встал за пять минут, то неверно, что он встал за меньшее время: все предыдущее время он только вставал).
Параллелизм между дискретными объектами и(мгновенными) событиями, с однойстороны, и между недискретнымивеществами/совокупностями и состояниями/непредельными процессами, с другой стороны, имеет очень глубокие основания ипроявляется во многих семантико-грамматическихсвойствах, общихдля каждой из этих пар. Мы неоднократно будем сталкиватьсяс этой общностью, особеннопри анализе аспектуальных значений; подробнее об этом см. также[Булыгина 1982; Talmy1985; Krifka1989] и др.
Только дискретные объекты могут быть охарактеризованы в количественном отношении; между тем, обязательность числа как грамматической категории ставит говорящего перед необходимостью тем или иным способом распространить количественную характеристику, естественную для дискретных объектов, также и на недискретные объекты, к которым она в нормальном случае, как мы видели, неприменима.
Такая ситуация, как мы видели, вообще типична для семантических грамматических категорий: базовые значения их граммем, отражая не-
которые конкретные и вполне определенные свойства реального мира, оказываются не в состоянии модифицировать все лексемы из соответствующего грамматического класса (т. е. оказываются неприменимыми к какой-то части имен или глаголов). Возникает конфликт между обязательностью и специфическими свойствами данного значения.
Естественные языки по-разному преодолевают этот конфликт. Становясь обязательной, граммема изменяется: помимо базового, у нее появляются вторичные, производные значения; появляются также и синтаксические употребления, вообще слабо связанные с ее значениями (как базовым, так и вторичными); для «старых» грамматических категорий высокий удельный вес синтаксических употреблений особенно характерен. Все эти процессы, безусловно, затрагивают и числовые граммемы в тех языках, где имеется грамматическая категория числа.
С другой стороны, именно для семантических граммем характерна неполная грамматикализация (в ее различных проявлениях), и числовые значения никоим образом не являются исключениями. Широко распространена импликативная реализация граммем числа (ср. Гл. 1, 4.3), а также их контекстная вытеснимость (когда, например, употребление количественных числительных или таких слов, как много, мало, сколько и т. п. блокирует употребление показателя множественности, ср. Га. ], 4.4). Сохраняется и достаточно большая доля дефектных в числовом отношении лексем (в основном, это те же названия недискретных объектов).
Количественные значения могут реализовываться и как словообразовательные. Имеются два основных типа словообразовательных количественных показателей: один из них выражает операцию устранения дискретности (такое значение называется собирательным, или коллективным), другой — операцию введения дискретности (такое значение называется единичным, или сингулятивным). Собирательный показатель превращает множество дискретных объектов в некоторый качественно иной объект — недискретную однородную совокупность; напротив, сингулятивный показатель выделяет из совокупности или вещества некоторый индивидуализированный «квант», обладающий собственными пространственно-временными границами.
Примерами собирательных производных в русском языке могут служить лексемы типа бабье, старичье, солдатня, молодежь, казачество; тряпьё, старьё, зелень, облачность^', примерами сингулятивных производ-
Следует обратить внимание на частую в русском языке связь между значениями собирательности и отрицательной оценки объекта со стороны говорящего. Связь эта семантически естественна: качественная ущербность объекта является важной предпосылкой для его «деинливидуализации»; совокупность плохого легко образует особое качественное единство и не вызывает желания искать отличия между отдельными его элементами, которые все «одним миром мазаны» (ср. также наблюдения в [Пеньковский 1989)). Во многих языках мира с морфологически выраженной собирательностью (от романских и германских до банту) засвидетельствована подобная корреляция.
ных — соломинка, пылинка, луковица, разг. макаронина и др. Разумеется, оба этих значения могут выражаться и лексическими средствами, ср. сочетания типа предмет мебели, представитель казачества, головка/долька чеснока — и, с другой стороны, род человеческий («а 'люди в целом'), заячья порода (к 'зайцы в целом'; ср.: уж я эту заячью породу знаю — меня не проведешь), и т. п.
Многочисленные факты как будто бы свидетельствуют в пользу того, что диахронически граммемы числа возникают из словообразовательных или лексических показателей собирательности и сингулятивности, которые в ходе грамматикализации расширяют свое значение до «обычной» количественной множественности. При всей справедливости подобных утверждений отметим, что граница между качественной и количественной множественностью никогда не бывает слишком жесткой, и развитие может идти в обоих направлениях. Так, в русском языке постоянно происходит процесс, так сказать, «деграмматикализации» числа, при котором форма множественного числа приобретает собирательное значение и начинает обозначать некоторый особый объект: ср. образования типа капли 'жидкое лекарство', стихи 'поэтический текст', рожки 'изделие из теста' и многие другие. Это — словообразовательное использование словоизменительной граммемы (в результате которого возникли практически все русские pluralia tantum, причем во многих случаях словообразовательно исходный элемент утрачен или слишком сильно изменил семантику, ср. капай и духи, оглобли и сани, скачки и жмурки и т. п.). Словообразовательное значение собирательности может передаваться и с помощью граммемы единственного числа (этот процесс особенно характерен для названий растений и животных, для которых в (Поливанова 1983] даже предлагается специальный термин «сингулярно-ориентированные»): ср. птица 'мясо птицы' (но баранина), репа 'блюдо из репы' или 'совокупность плодов репы1 (но огурцы) и т. п. Как показывают специальные исследования, на протяжении последних 200-300 лет процесс деграмматикализации числового противопоставления в русском языке усиливается.
Все сказанное наглядно демонстрирует, какая значительная разница существует между преимущественно синтаксическими (как падеж или род) и преимущественно семантическим граммемами — такими, как число или аспект. Семантические граммемы действительно занимают промежуточную позицию между «чистым» словоизменением и «чистым» словообразованием, обладая свойствами показателей как первого, так и второго типа; их связи с областью словообразовательных значений значительно более интенсивные.
1.1. Вторичные значения граммем числа
Рассмотрим более подробно некоторые частотные значения, развиваемые граммемами числа на основе базовых в ходе грамматикализации — иначе говоря, такие контексты, в которых единственное число не имеет количественного значения единичности, а множественное число — количественного значения множественности.
Основным неколичественным значениям граммемы единственного числа (помимо уже упоминавшейся собирательности) является так называемое родовое значение: 'класс объектов, называемых X1; 'все Х-ы' (ср.: Страус бегает быстрее лошади). В русском языке, в принципе, в таких контекстах обычно возможна замена единственного числа на множественное, с тонкой и не всегда ясно ощущаемой семантической разницей; ср. пословицу Что русским здорово, то немцу смерть, в которой оба подчеркнутых существительных употреблены в родовом значении, но первое из них имеет форму множественного, а второе — единственного числа.
Граммема множественного числа обладает более разнообразным спектром вторичных значений. Основные из них (помимо очень частотного собирательного множественного, рассмотренного выше):
a) родовое множественное, с тем же значением, что и родовое единственное (ср. Страусы вымирают [rs 'все страусы', ^ 'более одного страуса'!]);
b) видовое множественное: 'разные виды Х-а* или 'разные манифестации Х-а' (ср. вина, жиры или гадости, нежности и т. п.; этот тип продуктивен при названиях веществ и свойств — часто это единственное доступное им значение множественности);
c) эмфатическое множественное: 'большое количество Х-а' (ср. снега, пески, воды, леса);
d) ассоциативное (используются также термины репрезентативное, аппроксимативное и др.) множественное: ‘X и другие подобные ему объекты' (ср. русск. тридцатые годы; тагальск. sina [мн] Maria 'Мария и ее семья/друзья'; исп. los reyes 'королевская чета', букв, 'короли'); как уже отмечалось выше, фактически к этому же типу относятся формы множественного числа местоимений, особенно первого лица, т. е. мы по отношению к я4);
e) неопределенное множественное, обозначающее количественно не охарактеризованный объект ('некоторый представитель класса Х-ов, не известно или не важно, в каком количестве'); этот семантический тип очень характерен для русского языка, особенно в экзистенциальных, вопросительных и отрицательных контекстах, ср.: У нас гости (вполне может иметься в виду один человек); Есть ли еще свободные места? (вопрос вполне может задать один человек, имея в виду только себя лично); Где мое письмо? — Яне получал никаких писем (ср.: Не получил твоего/ни одного письма); В вагоне новые пассажиры — молодая женщина с чемоданом (пример из статьи [Ревзин 1969]). В других языках в этой функции может употребляться и единственное число или (как в кушитских языках, см. выше) особая форма имени.
Как и при описании других грамматических категорий со сложной семантической структурой, лингвисты (особенно структуралистского направления) в свое
4* О типологии ассоциативной множественности см. подробнее [Даниэль 1999).
время посвятили много усилий тому, чтобы установить инвариант граммемы множественного числа; поиски этого инварианта шли обычно вне количественной сферы и сводились к абстрактным формулировкам типа «расчлененность» (как, например, предлагал для русского языка А. В. Исаченко). В действительности перед нами, скорее, полисемия с многообразными внутренними связями между значениями, поиск общего компонента которых может и не увенчаться успехом.
1.2. Число как глагольная категория
В составе глагольных словоформ также могут выражаться количественные противопоставления. Мы в данном случае не имеем в виду синтаксическое число (т. е. проявление согласования глагола со своими аргументами, когда данная граммема просто отражает субстантивную категорию числа); для проблематики, затронутой в настоящей главе, представляют интерес граммемы или дериватемы, связанные с количественной характеристикой самой ситуации, обозначаемой глаголом. Таких значений существует два: это выражение множественности участников ситуации (дериватемы мультисубъектности и мультиобъектности) и множественности (= повторяемости) самой ситуации. Второй тип множественности, называемый итеративностью, с нашей точки зрения должен рассматриваться среди элементов аспектуальной семантической зоны (с которыми итеративность тесно связана как диахронически, так и синхронно); значения множественности участников занимают промежуточное положение, примыкая, скорее, к семантической зоне актантной деривации; мы рассмотрим это значение в данном разделе.
Мультисубъектность, выраженная при предикате Р, означает 'большое количество Х-ов совершает Р'; мультиобъектность, соответственно, ‘X совершает Р с/над большим количеством Y-ов'. Эти значения, в принципе, могут сочетаться друг с другом (ср. ситуации типа 'много людей поймало много птиц'). Подчеркнем еще раз, что речь не идет о согласовании с субъектом или объектом по числу: во многих языках с морфологическим выражением данного значения внутреннее согласование отсутствует или имя вообще не имеет грамматической категории числа, но дело даже не в этом, а в том, что у данных показателей имеется собственное специфическое значение «большого количества» глагольных аргументов, которое не тождественно субстантивному множественному числу: напомним, что последнее означает не 'много', а всего лишь 'более одного'.
Интересно, что выражение мультиобъектности встречается несколько чаще, чем выражение мультисубъектности (это объясняется тем известным фактом, что объект вообще более тесно связан с семантикой глагола); оно имеется в том числе и в русском языке, где осуществляется префиксом на- в одном из его значений (ср. накупить книг, наделать долгов, наговорить глупостей и т. п.). Как Мультисубъектность, так и мультиобъектность хорошо представлены в авсгронезийских языках (особенно
типичны они для полинезийских), в эскимосско-алеутских, самодий-ских и многих других языках. Нередко данные показатели полисемичны: в качестве других значений встречаются как типичные значения актант-ной деривации (реципрок, ассоциатив), так и типичные аспектуальные значения (итератив, дистрибутив), что подтверждает их промежуточное положение в универсальном семантическом пространстве.
Для лексем, выражающих множественность аргументов, характерно не только использование морфологических средств, но и супплетивизм, когда значения 'Р с одним участником' (например, 'один человек идет') и 'Р с многими участниками' (например, 'многие люди идут') передаются разными глагольными лексемами: с точки зрения говорящих, при увеличении числа участников тип ситуации настолько изменяется, что возникает уже как бы совсем другая ситуация. Единичные примеры такого рода можно найти и в русском языке, ср. уничтожить ('одного или многих*) vs. истребить ('уничтожить многих или всех'), ср. также субстантивные лексемы болезнь ('одного или многих') vs. эпидемия ('массовая болезнь'), убийство ('одного или многих') vs. резня ('массовое убийство'), эмиграция ('одного или многих') vs. исход ('массовая эмиграция') и т. п. В языках с морфологическим выражением множественности аргументов таких пар, как правило, гораздо больше.
§2. Детерминация
Категория детерминации также связана с некоторыми специфическими особенностями существительного — а именно, с его способностью обозначать конкретного носителя свойства (или совокупности свойств). Напомним, что имя само по себе лишь выделяет некоторый класс объектов, но элементы этого класса остаются недифференцированными, лишенными индивидуальности: на странице словаря слово камень обозначает любой (или все) камни. Между тем, в реальной ситуации использования языка постоянно возникает потребность как-то отличить один из элементов данного класса от других, иначе говоря — соотнести название свойства с одним или несколькими его конкретными носителями. Именно эту двойную функцию и выполняют в языке значения, входящие в семантическую зону детерминации: они «привязывают» свойство к его носителям (эта операция часто называется в лингвистике референцией) и «индивидуализируют» конкретных носителей данного свойства (эта операция называется актуализацией). Показатели детерминации при именной группе X облегчают адресату сообщения задачу установить, какой из объектов, способных иметь имя ‘X’, имелся в виду говорящим.
Из сказанного следует, что значения детерминации являются абсолютно необходимыми для успешного общения и они должны присутствовать в любом языке. По-видимому, это так и есть; но, естественно,
не в любом языке эти значения грамматикализованы: не в любом языке говорящий обязан, употребляя именную группу, сопровождать ее каким-то одним из небольшого закрытого списка показателей детерминации (они обычно называются артиклями). В языке с неграмматикализованной детерминацией в распоряжении говорящего имеется целый набор разнородных средств (лексических, синтаксических, морфологических), которыми он может пользоваться по своему усмотрению. Ср., например, противопоставление, выражаемое в следующей паре русских предложений: (1) а) Работает солярий. Ь) Солярий работает.
Предположим, что каждое из этих предложений является объявлением, висящим на стене здания. В случае (1 а) адресату сообщается, что в здании имеется солярий (о существовании которого, как предполагается, адресат ничего не знает) и что этот солярий к тому же работает. В случае (Ib), напротив, предполагается, что адресат знает о существовании солярия, и сообщается лишь то, что этот известный ему солярий (наконец) работает. Как можно видеть, говорящий по-разному оценивает возможность адресата отождествить объект, называемый словом солярий, и отражает результаты своей оценки с помощью различного порядка слов в предложении. В языке типа английского (где, в отличие от русского, детерминация грамматикализована) эти предложения различались бы в первую очередь артиклем (и, скорее всего, только им): в предложении типа (1 а) был бы употреблен так называемый «неопределенный артикль», в предложении типа (1 Ь) — «определенный артикль». И в русском, и в английском языке, конечно, те же значения детерминации могли бы быть выражены и не столь лаконично — например, с помощью дополнительных лексем, конкретизирующих инструкции, которые говорящий дает адресату для правильного отождествления объекта; в частности, предложение (1 Ь) могло бы выглядеть как Наш солярий опять работает, где и наш, и (отчасти) опять являются лексическими указателями единственности и предполагаемой известности объекта со-лярий. Напротив, предложение (1а) при его распространении должно было бы выглядеть как У нас работает солярий: в случае предполагаемой неизвестности объекта в русском языке употребление притяжательных местоимений избегается.
Перейдем теперь к обсуждению тех значений детерминации, которые могут становиться грамматикализованными в языках мира. Одним из самых важных противопоставлений внутри этой семантической зоны является противопоставление двух типов употреблений существительных. При употреблениях первого типа существительное обозначает один или несколько конкретных объектов (в данном случае не имеет значения, известны ли эти объекты участникам речевого акта или нет). При употреблениях второго типа существительное X вообще не обозначает никакой
конкретный объект: оно обозначает в целом класс объектов с именем X, не производя никакой внутренней «индивидуализации».
Первый тип употреблений обычно обозначается в литературе как референтные (наиболее распространенным английским термином является specific); второй тип употреблений — как нереферентные (англ, generic или non-specific).
Ниже в примерах из (2) слово человек употреблено референтно, в примерах из (3) — нереферентно.
(2) а) Я хочу видеть этого человека.
b) Из дома вышел человек с веревкой и мешком.
c) К вам приходил какой-то человек, пока вас не было дома.
(3) а) Писателей интересует внутренний мир человека.
b) Человек не может долгое время обходиться без воды и пищи.
c) Будь человеком, верни мне второй том Мельчука.
Принципиальное отличие употреблений типа (3) от употреблений типа (2) состоит в том, что первые не предполагают (и даже запрещают) для своей интерпретации использовать отличия одного человека от другого: они апеллируют к свойствам человека «вообще», любого (или эталонного) человека; именно поэтому ни к одному из случаев употребления слова человек в (3) нельзя задать вопрос какой? Это проявляется особенно ярко в употреблениях типа (Зс), где человек выступает в предикативной функции, т.е. является чистым обозначением свойства (будь человеком обозначает, грубо говоря, 'начни иметь свойства <настоящих> представителей класса людей'); употребления типа (За-b) обычно называют родовыми (это понятие уже обсуждалось выше применительно к категории числа). Родовые и предикативные употребления составляют наиболее типичные контексты нереферентных употреблений.
Что касается референтных употреблений, то все они соотносятся с конкретными представителями данного класса объектов, и предполагают апелляцию к каким-то индивидуальным свойствам этих представителей, позволяющим отличить их от всех остальных. Существенно, что ни адресат, ни даже говорящий не обязаны уметь абсолютно точно указать объект, который они называют с помощью референтно употребленного существительного; главное — что такой объект в принципе существует. Иными словами, по поводу референтного употребления всегда можно задать вопрос какой X? — но среди ответов на этот вопрос вполне допустим и «не знаю».
Дальнейшая классификация референтных употреблений как раз и производится на основе того, что знает говорящий о референте существительного X и как он оценивает аналогичные знания адресата. Если говорящий предполагает, что адресат не в состоянии правильно отождествить объект, то такие именные группы называются неопределенными; в противном случае они являются определенными. Показатель неопреде-
ленности предупреждает адресата о неизвестности референта (и часто является сигналом того, что следует ожидать от говорящего пояснений, ср. типичное начало текста: Вчера ко мне приходил один человек [неопределенность: 'я знаю, а ты, я думаю, не знаешь, о ком идет речь']. Этот человек... [определенность: 'ты должен понять, что это тот человек, о котором только что шла речь'; как ни мало адресат пока о нем знает, но существенно, что этот тот же самый человек, а не какой-то еще]).
Возможна и более детальная классификация типов определенности и неопределенности: например, можно различать так называемую слабую неопределенность ('я знаю, а ты, думаю, не знаешь* — ср. вчера один человек сказал мне, что...) и сильную неопределенность ('я не знаю, и ты, думаю, не знаешь* — ср. вчера какой-то человек подошел ко мне и сказал, что...). Такие дополнительные различия, однако, чаше выражаются с помощью лексических или словообразовательных средств, чем с помощью граммем детерминации. Так, русские неопределенные местоимения с кое- обычно выражают слабую неопределенность (ср. Мне нужно еще кое-что сделать и 'я знаю, что именно, но не считаю нужным сообщать*), а местоимения с -нибудь — сильную неопределенность (сделайте же что-нибудь! « 'я не знаю, что, и мне безразлично, что именно').
Системы грамматического выражения детерминации в языках мира в целом можно разделить на два типа. В системах первого типа (они, пожалуй, наиболее распространены) основным является противопоставление референтных и нереферентных употреблений. Именно такие системы имеются в тюркских, иранских и многих африканских языках. В системах этого типа не всегда имеются специализированные морфологические показатели референтности и нереферентности; часто референт-ность передается с помощью других граммем (так, только у референтных существительных маркируются падежные роли или граммемы числа).
Интересный способ выражения референтности встречается в некоторых языках банту, где нереферентные существительные имеют особую форму префиксального (классно-)числового показателя — с так называемым аугментом, или дополнительной начальной гласной (ср. бемба i-ci-tabo 'книга вообще [нереф]' vs. ci-tabo 'конкретная известная или неизвестная книга* [реф]; см. [Giv6n 1984: 6I])S).
Другой тип грамматикализации детерминации менее распространен, зато гораздо лучше представлен в западноевропейских языках. «Западноевропейские» системы различают преимущественно определенность и неопределенность, с тенденцией трактовать и нереферентные употребления — в зависимости от контекста — как определенные либо
5) Следует иметь в виду, что не все языки банту различают две формы именных префиксов, а среди тех, которые различают, не все используют это противопоставление для выражения референтности. Эта проблема подробно исследуется в [Аксенова 1987]; ср. также [Мельчук 1998: 348 и 370].
неопределенные, не выделяя их в специальный класс. (Впрочем, иногда для выражения нереферентное™ используется «нулевой артикль», т. е. отсутствие показателей определенности и неопределенности; это особенно характерно для английского языка, но встречается и в других языках. Следует иметь в виду, что нулевой артикль является также стандартным средством выражения неопределенности во множественном числе.)
Из сказанного следует, что частое в лингвистической литературе отождествление детерминации с противопоставлением по определенности/неопределенности не совсем точно и происходит под имплицитным влиянием западноевропейской модели. С универсально-типологической точки зрения как определенность, так и неопределенность являются частным случаем референтности, а иерархически доминирующее противопоставление по референтности/нереферентности имеет гораздо более важное значение.
Показатели детерминации (артикли) часто выступают в виде кли-тик, а не аффиксов (т. е. являются аналитическими); аналитичность показателей детерминации может сопровождаться их неполной грамма-тикализованностью (в частности, контекстной вытеснимостью). Морфологические показатели детерминации (суффиксальные артикли) имеются в албанском, румынском, армянском, скандинавских, мордовских и других языках (неопределенный артикль при этом либо отсутствует, как в исландском или в мордовских языках, либо является аналитическим, как в албанском, румынском, восточно-армянском, и остальных скандинавских языках; в западно-армянском суффиксальное выражение имеют как определенный, так и неопределенный артикли).
В заключение мы хотели бы коснуться еще одного аспекта категории детерминации — ее особо тесной связи с некоторыми другими категориями имени и глагола как в плане выражения, так и в плане содержания. На первом месте в списке таких категорий стоит, безусловно, число. Показатели числа и детерминации часто выражаются кумулятивно (как, например, в скандинавских языках); более того, само числовое противопоставление может использоваться для выражения граммем детерминации. Один из вариантов такого использования мы наблюдали в тюркских языках, где количественная неохарактеризованность объекта свидетельствует о его нереферентности. Другой вариант представлен в русском языке, где имеется устойчивая связь между нереферентностью и множественным числом (см. выше).
Аналогичная связь в русском языке существует в ряде случаев между нереферентностью прямого дополнения/подлежащего и их генитивным оформлением, а также между нереферентностью аргумента и несовершенным видом глагола, так что в противопоставлениях типа Я получил письмо ~ Я не падучая писем одно и то же семантическое содержание выражается с помощью трех различных именных и глагольных категорий.
В русском языке имеется также корреляция между неопределенностью объекта и ирреальным наклонением глагола (ср. Он ищет девушку, которая знает язык кечуа [может иметься в виду определенная скрывшаяся девушка] ~ Он ищет секретаршу, которая знала бы язык кечуа [но которой, возможно, не существует в природе]); еще более сильной такая корреляция является в современных романских языках (она была отмечена уже в классической латыни).
Ключевые понятия
Базовые (= «количественные») значения граммем категории числа: единичность, двойственность, множественность; тройственное и паукаль-ное число. Связь между количественными значениями и дискретностью существительного. Типы недискретных объектов: вещества, совокупности, свойства. Совокупность и понятие собирательности. «Индивидуализация» (сингулятивность) и «деиндивидуализация» (собирательность) объектов; словообразовательное и лексическое выражение собирательности и сингулятивности. Использование граммем числа для выражения собирательности и сингулятивности.
Другие неколичественные значения граммем числа: родовое, видовое, эмфатическое, аппроксимативное, неопределенное. Грамматический статус числовых противопоставлений и проблема «инварианта» числовых
граммем.
Выражение количественных значений в глагольных словоформах. Значение множественности актантов; мультисубъектность и мультиобъ-
ектность.
Детерминация как указание на тип объекта и на возможность отождествить слово с его конкретным референтом («имя» с «вещью»).
Референтные («конкретные») и нереферентные («обобщенные») употребления. Типы референтных употреблений: определенность, сильная и слабая неопределенность. Типы нереферентных употреблений: родовое
и предикативное.
Грамматические системы выражения детерминации в языках мира. Системы, ориентированные на противопоставление референтность ~ нереферентность и на противопоставление определенность ~ неопределенность. Способы выражения детерминации в языках мира. Артикли (грамматические показатели детерминации).
Связь детерминации с другими грамматическими категориями. Детерминация и число; связь с падежом существительного; видом и наклонением глагола.
| 103ак.40 |
Основная библиография
Существует довольно значительная литература, посвященная проблемам грамматического статуса числовых значений в разных языках, возможности инвариантного описания граммем числа и связанным с этим общим проблемам теории грамматики (для обсуждения которых число всегда было удобным «полигоном»). Одной из первых работ на эту тему является [Есперсен 1924]; отметим также (применительно к русскому языку) [Реформатский 1960; Исаченко 1961; Зализняк 1967: 55-62; Ревзин 1969; Зализняк/Падучева 1974; Булатова 1983]. Особое место в этом ряду занимают работы, посвященные описанию слов pluralia tan-turn и другим проявлениям числовой дефектности; различные взгляды на эту проблему изложены, в частности, в [Мельчук 1985; Поливанова 1983 и Werzbicka 1988] (к анализу и критике концепции Вежбицкой см. также сборник [Фрумкина (ред.) 1990]).
Из работ по типологии числа и собирательности отметим [Меновщиков 1970; Гузев/Насилов 1975; Смирнова 1981; Гак/Кузнецов 1985 и Кибрик 1985]; выражение множественности аргументов в глаголе анализируется в [Lichtenberk 1985; Durie 1986 и Долинина 1998].
Классической работой по теории и типологии детерминации является [Бюлер 1934]. Среди более современных теоретических исследований можно выделить монографии [Krarnsky 1972 и Hawkms 1978]; очень информативный обзор и подробная библиография проблемы, а также анализ русского материала содержатся в статье [Крылов 1984]. Русские и славянские данные являются также предметом анализа в сборнике [Николаева (ред.) 1979] и статье [Chvany 1983]. Обсуждение проблем детерминации в контексте более общих проблем семантики и теории референции можно найти в [Падучева 1985: 79-107 et passim]. Семантика русских неопределенных местоимений обсуждается в [Левин 1973 и Селиверстова 1988], о неопределенных местоимениях в типологическом аспекте см. [Haspelmath 1997]. Специально о противопоставлении по референтности-нереферентности в разных языках см. [Giv6n 1978 и 1984: 387-435], а также [Джусти 1982 и Аксенова 1987].
Взаимодействию категорий числа и детерминации в рамках так называемой «квантификации» имен посвящена довольно большая логико-лингвистическая литература, имеющая отношение в первую очередь к семантике и теории референции (но грамматико-морфологические проблемы в этом круге исследований также затрагиваются). Отметим по крайней мере следующие работы: [Кронгауз 1984; Падучева 1985: 79-107 et passim; Bunt 1985; Talmy 1985; Булыгина/Шмелев 1988; Bach et al. (eds.) 1995].
Для общей ориентации в данной проблематике могут быть полезны следующие статьи из [Ярцева (ред.) 1990]: «Число» и «Собирательность» (В. А. Виноградов), «Референция» (Н.Д.Арутюнова), «Местоимения» (С. А. Крылов и Е. В. Падучева), «Определенность» (Т.М.Николаева), «Артикль» (В. А. Виноградов).
Глава?
Глагольные семантические зоны
В данной главе будет предпринят обзор основных морфологически выражаемых семантических глагольных граммем (и близких к ним дери-ватем). Целесообразно выделять две крупные семантические зоны таких глагольных значений: аспектуально-таксисную и модальную. Значения, принадлежащие к этим двум зонам, противопоставлены друг другу прежде всего как «объективные» (описывающие некоторые реальные параметры ситуации, преимущественно связанные с физическим временем) и «субъективные» (описывающие оценку говорящим реальных ситуаций и/или ситуации, не существующие в реальном мире). Конечно, и между этими двумя типами значений возможно взаимодействие (так, вторичные значения ряда аспекгуальных граммем включает достаточно отчетливый оценочный — т. е. модальный — компонент), но все же если проводить какую-то границу внутри глагольных категорий в целом, то наиболее бесспорной «демаркационной линией» окажется именно та, которая разделяет аспектуально-таксисные и модальные значения.
В первом разделе данной главы будут кратко рассмотрены основные аспектуальные значения (категория таксиса была охарактеризована выше в Л. 5, 4.5, в связи с категорией временного дейксиса); во втором разделе будет дан обзор модальных значений глагола.
За пределами нашего рассмотрения практически полностью остаются значения глагольной ориентации (т.е., прежде всего, значения пространственной модификации действий и производные от них, ср. Гл. 2, 2,3); эта семантическая зона, очень важная для понимания природы многих глагольных категорий, тем не менее относительно слабо грамматикализована в естественных языках и соответствующие значения в большей степени относятся к сфере словообразования, чем к сфере грамматики1*. Последняя важная группа «вербантов» — показателей залога и актантной деривации — также была рассмотрена ранее в Гл. 3, поскольку среди значений этого типа доля синтаксических (и коммуникативно-прагматических) элементов является самой высокой.
Интересным опытом типологии таких значений является работа (Talmy 1985].
§1. Аспект 1.1. Общее представление о глагольном аспекте При всем разнообразии аспектуальных категорий, у них есть одно общее свойство — собственно, то, что и позволяет…Ti to
(1) — + («начаться»)
(2) + — («прекратиться»/«не продолжиться»: «начаться Ф не»)
(3) + + («продолжиться»/«не прекратиться»: «не Ф начаться Ф не»)
(4) - - («не начаться»)
Первая схема такого рода, как принято считать, была еще в 50-х/гг. приведена в работах известного шведского логика Георга фон Вритта; в дальнейшем она использовалась многими авторами логико-философского направления (ср. подробнее [Brinton 1988]). Однако сам фон Вригт полагал, что четвертый элемент этой схемы (со значением «неначала действия», или «продолжения недействия») в естественных языках отсутствует и должен быть исключен из дальнейшего лингвистического анализа схемы. Так открытый было «на кончике пера» четвертый элемент оказался забыт, и логическая традиция сомкнулась с лингвистической.
Между тем, четвертый элемент (для его обозначения можно предложить термин кунктатив, от латинск. cunctari 'медлить, не решаться') в естественных языках, бесспорно, существует. В качестве лексического показателя он даже достаточно распространен: например, этот смысл довольно точно передается в русском языке с помощью так и не (ср. Он так и не ответил на мое письмо), а в английском — с помощью notyett0). Но и грамматические показатели, выражающие именно это значение, существуют, причем по крайней мере в одном лингвистическом ареале они представлены массово: речь идет о языках банту. Действительно, бантуистам хорошо известны так называемые not-yet-формы глаголов, которые аккуратно фиксировались в описательных грамматиках суахили, луганда, рунди, кикуйю и многих других языков банту (см. подробнее, например, [Аксенова 1997: 44 и след.]).
На важность этих форм для грамматической типологии впервые обратил внимание Б. Комри (ср. [Comrie 1985: 53-55], где использован материал языка луганда). Однако интерпретация Комри оказывается, на наш взгляд, несколько искусственной: в данных показателях он видит совмещение двух разных граммем абсолютного времени (что-то типа «настояще-прошедшего»). Теоретический статус таких гибридов весьма сомнителен и ставит исследователя перед многочисленными проблемами; гораздо более естественным и простым решением было бы вывести данные формы из сферы времени и трактовать их как фазовые показатели (но само понятие фазовости в терминологической системе Комри практически не фигурирует); к критике такого подхода см. также [Heine etal. 1991: 192-204].
Таким образом, мы все-таки можем говорить об особой семантической группе фазовых значений, и можем объяснить, почему место этих значений — на периферии аспектуальной семантической зоны,
' Важное семантическое различие между русским так и ней английским not yet состоит в характере ожиданий говорящего относительно ситуации в момент iq . Если в первом случае имеется в виду, что ситуация, не начавшись к to, скорее всего, уже не будет иметь места и в будущем, то во втором случае ожидание говорящего сохраняется (ср. русск. еще не). Параметр «характер ожиданий говорящего» в целом является одним из самых существенных для описания дополнительных разновидностей фазовых значений (см. подробнее ниже).
а не в ее центре. Фазовость характеризует в первую очередь не «внутреннюю структуру ситуации», а сам факт существования/несуществования описываемой ситуации по отношению к более раннему моменту времени; это сближает фазовость с таксисом и (в какой-то степени, как мы увидим ниже) с модальностью.
Из четырех фазовых значений наиболее распространен морфологический инхоатив (он же в наибольшей степени смыкается с выражением линейной аспектуальности); морфологический терминатив в чистом виде (не осложненный дополнительными значениями комплетивного типа) встречается редко. Морфологический континуатив типичен для дагестанских языков (в частности, он имеется в лезгинском и в арчинском языках); континуативные показатели имеются также в эскимосско-алеутских языках, в языках банту (наряду с кунктативными) и др. Дня многих австралийских языков характерны специализированные показатели континуативного императива (со значением 'продолжай/не прерывай Р', ср. англ. keep wonk/ng11*).
Отдельной проблемой, которой мы хотели бы кратко коснуться, является «семантический остаток» в значении тех конкретно-языковых показателей, которые выражают фазовые граммемы. Грамматические показатели, как известно, редко выражают универсальные «грамматические атомы» в чистом виде, и описание случаев кумуляции и совмещения значений может быть крайне поучительным для понимания природы того
или иного значения.
Наиболее частым семантическим спутником фазовости в языках мира является модальное значение вида 'данная ситуации имеет/не имеет место вопреки ожиданиям говорящего'. Проще всего привести примеры лексического выражения этого типа значений: в русском языке чистый инхоатив выражается глаголом нанатъ(ся) (он начал работать), а инхоатив с дополнительным компонентом 'говорящий не ожидал, что в данный момент ситуация имеет место' — наречием уже (он уже работает). Показатели нарушенного ожидания («counterexpecta-tion», cp, [Heine et al. 1991]) известны также под названием показателей «фазовой полярности» («phasal polarity»; им посвящена уже довольно значительная литература, но в основном сосредоточенная на тонкостях лексической семантики этой группы слов).
Существенно, что в тех языках, в которых фазовость выражается грамматическими средствами, показатели фазовости очень часто выступают кумулятивно с показателями нарушенного ожидания, однако для разных фазовых граммем эта частотность разная. В чистом виде чаще всего встречаются инхоатив и терминатив; напротив, морфологический
«) Интересно, что в русском языке это значение также грамматикализовано: оно передается удвоением императивной словоформы глагола и особой интонацией, ср. работай-работай, сидите-сидите 'продолжайте сидеть, не вставайте' и т. п. Удвоение как показатель континуатива распространено и в других языках.
континуатив, как правило, выступает в семантически осложненном виде (т.е. выражая значения типа 'еще'/'все еще')12'. Что касается кун#га-тива, то все известные нам примеры его грамматического выражения представлены только кумулятивными показателями фазы и нарушенного ожидания (т. е. показателями со значением типа 'еще не'/'так и не'). Обратим внимание, что «склеивание» этих двух типов значений происходит у тех показателей фазы, которые выражают не изменение полярности ситуации, а, напротив, ее сохранение (со знаком плюс, как континуатив, или со знаком минус, как кунктатив). Это, конечно, не случайно: нет необходимости специально указывать на сохранение статус-кво, если это сохранение не подвергается сомнению.
Другой интересной модификацией фазовых значений является кумуляция фазового компонента с таксисным. Дело в том, что чистые фазовые показатели оценивают существование ситуации относительно, так сказать, ее самой (но в более ранний момент времени); возможна, однако, и более сложная картина, а именно: описывается некоторая последовательность ситуаций, состоящая из отдельных элементарных ситуаций; говорящий делает утверждение о (не)существовании всей последовательности в целом, но указывает при этом, какова последовательность отдельных элементарных ситуаций внутри этой цепочки. Получаются смыслы вида 'начать с того, что V или 'кончить тем, что V, сочетающие фазовый ('начать'/'кончить') и таксисный ('раньше'/'позже') компоненты. Такие составные значения (их можно было бы называть «внешней фазой», используя в несколько другом значении термин С.Дика) специальным образом выражаются в романских языках (особыми глагольными перифразами типа испанск. или португальск. acabar рог V 'кончить тем, что V; в конце концов, V) и во многих других языках мира (от алеутского до сонинке).
§ 2. Модальность и наклонение 2.1. Общее представление о модальности
Семантическая зона глагольной модальности — одна из самых обширных и разнородных, что делает ее описание особенно трудным. Даже аспектуальные значения, несмотря на их разнообразие, имеют достаточно отчетливый общий компонент (описание «динамики» ситуации); между тем, у модальных значений такого единого понятийного центра, по свидетельству многих специалистов, обнаружить не удается: они связаны друг с другом постепенными переходами, в результате чего у значений,
|2) Но заслуживают внимания и примеры таких языков, как мистекские,в которых имеется префиксальный показатель нарушенного ожидания (а-), маркирующий только ситуации с изменением полярности (т.е. значения типа 'уже начать'/'уже прекратить').
локализованных в противоположных областях модальной зоны, может не иметься практически ничего общего (ср. [Palmer 1986: 4]).
Тем не менее, если не один, то два таких «центра консолидации» внутри зоны модальности указать все же можно. Это, во-первых, отношение говорящего к ситуации (или «оценка») и, во-вторых, статус ситуации по отношению к реальному миру (или «ирреальность»). Как представляется, все многообразие модальных значений (даже при самых широких интерпретациях модальности) так или иначе связано с одним из этих двух понятий (или, нередко, и с обоими сразу). Полемика вокруг понятия модальности во многом возникала именно из-за того, что разные лингвистические теории считали главным то «оценочный», то «ирреальный» компонент в составе модальности; между тем, отказаться от одного из них в пользу другого (без существенного сужения понятия модальности по сравнению с общепринятым), по-видимому, нельзя — поэтому остается считать модальность «двухполюсной» зоной.
Отметим сразу, что мы придерживаемся такого понимания модальности, при котором термины модальность и наклонение семантически не противопоставлены: наклонением считается любая грамматическая категория, граммемы которой выражают модальные значения (в качестве базовых). Таким образом, наклонение — это просто «грамматикализованная модальность» (ср. [Lyons 1977; Bybee 1985; Palmer 1986] и многие другие; менее традиционное решение предлагается в [Мельчук 1998], где «наклонением» и «модальностью» называются две не связанные друг с другом категории глагола).
Оценочная модальность
Различается несколько важнейших типов оценочных значений — в зависимости от того, какой именно параметр ситуации подвергается оценке и по какой… оценка (т. е. по шкапе 'хорошо' ~ 'плохо', 'правильно' ~ 'неправильно' и т.… Грамматикализация интенсивности особенно типична для стативных предикатов, обозначающих постоянные свойства (и…Характерна в этом плане эволюция английского глагола may, восходящего (как и русское .мочь) к корню со значением физической силы (т. е. внутренней возможности), но в современном языке практически всецело перешедшего к обозначению внешней возможности (разрешения) и эпистемической вероятности.
компоненты модальностиlst. Действительно, если Xхочет Р, то это означает, что, во-первых, Р не принадлежит реальному миру (человек, как известно, может хотеть только того, чего не существует16'), а, во-вторых, что X положительно оценивает Р (человек хочет того, что считает хорошим). В отличие от необходимости и возможности, желание способно приписываться как субъекту ситуации (‘X хочет Р'), так и говорящему ('я хочу, чтобы Р'); во втором случае перед нами переход от «нелоку-тивной» модальности к «локутивной» (по Дж. БаЙби), который принято рассматривать как усиление грамматикализации. Это также подтверждает центральный статус желания в сфере модальности.
В какой степени желание принадлежит ирреальной модальности? Как мы видели, в семантике конструкций типа X хочет Р присутствуют как элементы оценки, так и элементы ирреальности; желание является ирреальной модальностью, но в то же время оно занимает среди других ирреальных модальностей особое положение. Лексикографы и специалисты по теоретической семантике прилагали много усилий к истолкованию смысла 'хотеть' (который, как кажется, имеет лексическое выражение во всех известных естественных языках, ср. [God-dard/Wieizbicka (eds.) 1994]); в настоящее время преобладает точка зрения, согласно которой это значение элементарно и принадлежит к базовым элементам общечеловеческого словаря (хотя конкретные глаголы, содержащие смысл 'хотеть', могут существенно различаться в других отношениях, ср., например, анализ русских хотеть, желать и английских want, wish в [Апресян 1994: 478-482]).
Особой проблемой является вопрос о том, присутствует ли элемент 'хотеть* в семантике предикатов возможности (и, следовательно, необходимости). Согласно одной из гипотез (поддержанной, в частности, в ранних работах Анны Вежбицкой), смысл ‘X может Р' представим через смыслы 'хотеть' и 'если': ‘X может Р1 fa 'если X хочет Р, X осуществляет Р'; эта гипотеза принимается и в [Мельчук 1998: 212-213]. Следует заметить, однако, что далеко не все типы ирреальной возможности соответствуют такому толкованию: оно весьма проблематично не только по отношению к внешней возможности, но даже и ко многим случаям внутренней возможности, которые никак не связаны с желаниями субъекта; скорее, желание является распространенным, но отнюдь не единственным условием реализации Р (ср.: с его умом, он может быть президентом ^ 'если он захочет быть президентом, он им будет').
Таким образом, более предпочтительной является такая классификация, при которой сфера ирреальной модальности делится на сферу возможности/необходимости и сферу желания, обладающие значительной семантической самостоятельностью и не сводимые друг к другу.
К значению желания очень близко значение намерения, или «активного» желания (‘X хочет Р и предпринимает усилия, чтобы сделать Р'),
' Объединение ирреальных и оценочных значений- мы наблюдали также в условных конструкциях.
' Пращи, можно хотеть продолжения уже существующей ситуации (хочу, чтоб вечно длился этот миг), но и в этом случае объект желания на саном деле ирреален: это актуальная ситуация Р, перенесенная в будущее.
называемое также интенсиональным. Показатели намерения, как и показатели желания, являются по своей семантике промежуточными между ирреальной и реальной сферой, и это их свойство широко используется в естественных языках: грамматикализация показателей намерения — один из самых распространенных способов получения показателей будущего времени; именно таково происхождение форм будущего времени в английском и в балканских языках. Нередко начало этой эволюционной цепочки — непосредственно значение желания, поскольку само значение намерения имеет тенденцию возникать в качестве вторичного у предикатов «чистого» желания. (Есть такое значение и у русского глагола хотеть'. ср. хотели [= 'собирались*] петь и не смогли', казалось, дождь идти хотел[«Граф Нулин»] и т. п.; подробнее см. [Шатуновский 1996: 298-308]).
2.4. Грамматикализация модальности: наклонение
Показатели «нелокутивной» ирреальной модальности в языках мира могут иметь морфологическое выражение, но никогда не формируют грамматические категории, так как оппозиции вида 'Р ~ хотеть Р' являются привативными и относятся к сфере (продуктивного) словообразования. Существуют морфологические показатели желания (дезидеративы), возможности (поссибилитивы) и необходимости (дебитивы); они широко представлены, например, в самодийских, тунгусо-маньчжурских, эски-мосско-алеутских и других языках.
Дальнейшая грамматикализация показателей модальности возможна при их переходе в сферу оценочной, т. е. «локутивной» модальности, когда они начинают описывать точку зрения не субъекта ситуации, а говорящего. В этом случае возникают показатели целого ряда косвенных наклонений, которые противопоставлены индикативу (прямому, или «изъявительному» наклонению), описывающему реальную и/или достоверную ситуацию.
Эпистемические наклонения (возникающие на базе показателей возможности и необходимости) выражают различные виды эпистемической оценки: эпистемическую невозможность, или сомнение (дубитатив), эпистемическую возможность, или вероятность (пробабилитив), эпистемическую необходимость, или уверенность (ассертив); адмиратив чаще имеет тенденцию выражаться совместно с показателями эвиденциально-сти (см. 2.5). Эпистемическими наклонениями богаты тюркские, само-дийские, дагестанские и другие языки. Как разновидность эпистемичес-кого наклонения можно рассматривать и выражение ирреального условия.
С другой стороны, дезидеративные наклонения возникают на базе показателей желания. Переход от выражения желания субъекта к выражению желания говорящего дает оптатив — одно из наиболее распространенных в языках мира наклонений (засвидетельствованное, в частности, в санскрите и древнегреческом).
Если оптатив выражает желание говорящего, так сказать, в чистом виде, то императив совмещает выражение желания с выражением побуждения: сам факт произнесения императивной словоформы является попыткой говорящего побудить адресата к совершению действия Р (или, в случае прахибитива, к его несовершению, см. ниже).
Императив является одним из примеров того, что произнесение языкового выражения может иметь какую-то иную функцию, чем простая передача информации; иначе говоря, произнесение языкового выражения в данном случае эквивалентно (невербальному) действию. Языковые явления такого рода вызвали всплеск интереса лингвистов после начала «прагматического периода» в изучении языка, ознаменовавшегося работами Якобсона и Бенвениста (ср. выше, Гл. 5). Пионером в изучении «вербальных действий» (или «речевых актов», как их принято называть, ср. англ, speech acts) был английский философ Джон Остин, в конце 50-х гг. предложивший их классификацию в соответствии с «иллокутивной силой», т. е. той функцией, которую данный речевой акт должен по замыслу говорящего выполнять в диалоге. Помимо побуждений (которые интересуют нас в связи с выражением модальности желания), различают речевые акты, содержащие обещания, декларации («объявляю собрание закрытым»), вопросы (т.е. побуждение сообщить говорящему некоторую информацию), и некоторые другие. Из всех этих речевых актов только выражение вопроса может осуществляться с помощью морфологических показателей (ишперрогативов), которые в ряде случаев близки к эпистемическим; впрочем, чаще интеррогативы образуют особую подсистему. О теории речевых актов см. подробнее [Остин 1962; Серл 1976] и др.
Императив является, по-видимому, универсальным грамматическим значением в языках мира. В рамках императива как фа ммати кал и зеванного средства выражения побуждения различается множество подтипов, из которых мы бегло коснемся лишь наиболее важных (подробнее см., например, работу [Володин/Храковский 1986], которая может считаться наиболее полным типологическим описанием императивных значений).
Виды побуждения различаются, во-первых, по степени категоричности, в зависимости от того, высказывает ли говорящий просьбу, совет, предложение, требование или разрешение выполнить действие и т. п. Во многих языках эти значения могут передаваться разными морфологическими показателями императива (часто совмещенными с выражением различных степеней вежливости, ср. выше, Гл. 5, 2.4). О выражении вре-меннбй дистанции в составе показателей императива также говорилось выше (Гл. 5, 4.4).
Во-вторых, побуждение существенно различается по своей семантике в зависимости от того, к какому участнику речевой ситуации оно обращено. Прототипический императив предполагает, что будущим исполнителем действия Р является непосредственный адресат говорящего, т. е. второе лицо. Однако возможны и различного рода «смешенные» (или несобственные) побуждения, которые обращены либо к первому, либо к третьему лицу. Если исполнителем является первое лицо (как
правило, не единственного числа), то побуждение обычно трансформируется в приглашение к совместному с говорящим действию (ср. русск. давай[те); напротив, в случае исполнителя, совпадающего с третьим лицом, прямое побуждение трансформируется в косвенное: на непосредственного адресата говорящего возлагается задача воздействовать на реального исполнителя (ср. русск. пусть он...).
Соответственно, устройство глагольной парадигмы императива в естественных языках будет различаться в зависимости от того, трактуются ли показатели приглашения к действию (гортативы) и показатели косвенного побуждения (юссивы) как морфологически образованные на базе собственно императива, или как полностью самостоятельные. В первом случае в языке будет представлена «расширенная» императивная парадигма [Володин/Храковский 1986], во втором случае — показатели трех самостоятельных наклонений, К языкам с расширенной императивной парадигмой относится, например, венгерский, где во всех лицах в качестве показателя побуждения присутствует суффикс -у-; напротив, для тюркских или дагестанских языков типично морфологическое противопоставление императива, юссива и гортатива. Иногда морфологически противопоставляются только два типа побуждения (например, императив и гортатив, как в японском языке). Во многих языках только императив в узком смысле имеет морфологическое выражение (так обстоит дело и в русском).
Важной разновидностью императива является такая, когда побуждение направлено не на совершение, а на не-совершение действия. Это «отрицательное побуждение» следует отличать от обычного отрицания, которое является утверждением сложности соответствующего высказывания, а не разновидностью побуждения. Семантическая самостоятельность «отрицательного императива» (прохибитива) подтверждается и тем, что специализированный показатель прохибитива (отличный от показателя отрицания) встречается во многих языках мира и в целом является весьма распространенным феноменом.
В плане выражения различается морфологический (аффиксальный) и неморфологический (аналитический) показатели прохибитива. Аффиксальные показатели прохибитива характерны, в частности, для дагестанских языков (ср. леэгинск. -mir, арчинск, -gi), для дравидийских языков (ср. тамильск. -ate-), для языков Нигер-Конго (ср. догон -gu), алгонкинских языков и др. С другой стороны, специализированные аналитические «отрицательные частицы», выражающие запрет и отличные от показателей обычного отрицания, имеются в армянском (mi), новогреческом (m/л), персидском (та), в целом ряде авсгронезийских, нигеро- конголезских, шари-нильских языков и др. Весьма своеобразный аналитический способ выражения запрета характерен для многих финно-угорских языков, использующих конструкции с императивом так называемого «запретительного глагола» (финское а/-, хантыйское о/- и др.), который, как правило, не употребляется за пределами прохибитивных конструкций. Типологически этот способ может быть сопоставлен с менее специализированными аналитическими
прохибитивами, подобными тем, какие представлены, например, в английском (конструкция с don’t) или латинском языке (конструкция с императивом глагола nolle 'не желать' и инфинитивом основного глагола, ср. «о/Г tangere 'не трогай*, букв, 'не-желай трогать' |7>).
Наконец, особой семантической разновидностью прохибитива является адмонитив, выражающий предостережение адресату относительно возможных негативных последствий совершения Р ('лучше бы тебе не...*; 'смотри не...'); специализированные показатели адмонитива характерны, в частности, для австралийских языков. Семантически адмонитив соотносится с прохибитивом примерно так же, как некатегорический императив (или побуждение-совет) — с нейтральным.
Как уже много раз отмечалось, в эволюции грамматических категорий большую роль играют синтаксические правила употребления их граммем; доля таких правил увеличивается пропорционально степени грамматикализации соответствующего значения (и пропорционально его, так сказать, «возрасту» в языке). Граммемы наклонения самым непосредственным образом подтверждают эту закономерность: роль синтаксических употреблений на поздних стадиях эволюции наклонения необычайно велика — вплоть до того, что в глазах целого ряда исследователей (опиравшихся, главным образом, на материал сильно десемантизированных наклонений романских и германских языков) синтаксическая функция оказывалась у граммем наклонения важнейшей (если не единственной); важность синтаксических употреблений для понимания природы наклонения подчеркивается и во всех основных типологических описаниях этой категории (см. [Palmer 1986; Bybee et al. 1994]; ср. также [Мельчук 1998: 153-154 и 313-315]).
Употребление показателей косвенных наклонений в глагольных словоформах, синтаксически подчиненных глаголам желания или ментального состояния (ср. русск. Я хочу, чтобы она пришла/беспокоюсь, как бы него не вышло, и т. п.), на начальных этапах имеет бесспорное семантическое обоснование, поскольку статус синтаксически подчиненной ситуации Р в таких предложениях является ирреальным; более того, аналогичное маркирование (со сходными семантическими эффектами) возможно и в независимых предложениях (ср. Вот бы она пришла; не вышло бы хуже и т. п.). Однако с течением времени семантическая составляющая в таких конструкциях ослабевает, а синтаксическая — усиливается, в результате чего правила употребления наклонения в подчиненных предложениях начинают иметь все более формальную природу, а само наклонение превращается просто в показатель синтаксической зависимости глагола. Ср., например, семантически весьма слабо мотивированное
|7* Парадоксальная форма современного итальянского прохибитива 2 ЕД (обычное отрицание поп + инфинитив глагола: ср. поп parlare 'не говори' vs. поп partate 'не говорите' со стандартным окончанием 2 МН) восходит, скорее всего, именно к этой латинской конструкции.
использование французского косвенного наклонения, так называемого subjonctif (с исходным оптативно-юссивным значением, в современном языке уже маргинальным), после уступительных союзов типа Ыеп que 'хотя' (в семантике которых практически нет компонента ирреальности). Такая эволюция граммем наклонения весьма напоминает эволюцию падежных граммем, также проходящих путь от маркирования конкретной семантической роли к обобщенному маркированию синтаксически зависимого статуса существительного.
2.5. Эвнденцнальиость
Грамматические значения, относящиеся к сфере эвиденциальности, не являются прототипическими модальными значениями; тем не менее, в силу их многообразных связей с модальными категориями (особенно с эпистемическими наклонениями), мы также рассмотрим их в данном
разделе.
До недавнего времени эвиденциальность казалась «экзотической» категорией, свойственной лишь ограниченному кругу языков; однако исследования последних лет (упомянем прежде всего сборники [Chafe/Nichols (eds.) 1986 и Guentcheva (ed.) 1996]) значительно расширили этот круг и позволяют рассматривать эвиденциалъные значения как полноправный элемент Универсального грамматического набора.
Значения, относящиеся к сфере эвиденциальности, выражают эксплицитное указание на источник сведений говорящего относительно сообщаемой им ситуации Р. Для носителей языка типа русского (где подобная информация не грамматикализована) этот тип значений может показаться непривычным: говорящие по-русски указывают на источник сведений о ситуации только в том случае, если эта информация представляется им необходимой: например, если говорящий хочет подчеркнуть, что он лично наблюдал описываемое событие (ср. у меня на глазах; я сам видел, как... и т. п.) или, наоборот, если говорящий хочет снять с себя ответственность за достоверность сообщаемой информации (ср. как говорят; по слухам; за что купил, за то и продаю и т. п.). Между тем, существует достаточно много языков, в которых подобного рода комментарий говорящего встроен в систему грамматических форм глагола, т. е. является обязательным: употребляя глагольную словоформу, говорящий не может уклониться от того, чтобы сообщить, каким образом он узнал об описываемой ситуации.
Сам термин эвиденциальность (англ, evidentially), равно как и описание соответствующей категории, впервые встречается в принадлежащем Францу Боасу очерке языка квакнутль, опубликованном в 1911 г. Данная категория типична для многих индейских языков (и была отражена в их грамматических описаниях), но за пределами узкого круга американистов термин получил известность только после статьи [Якобсон 1957], который использовал в качестве иллюстрации
11 Зак. 40
данные болгарского языка. К болгарскому (а также албанскому) языку термин «эвиденциальность» до этого не применялся, но соответствующие категории также обсуждались в работах специалистов по крайней мере с начала XX в. (в болга-ристике в основном используется термин «пересказывательное наклонение», или ренарратав). Под влиянием Р. О. Якобсона термин «эвиденциальность» стал общепринят и был закреплен, в частности, в исследованиях [Givun 1982; Chafe/Nichols (eds.) 1986; VWUett 1988] и др.; наряду с ним иногда употребляется и описательный термин data-source marking. Во франкоязычной лингвистике с ними конкурирует термин «медиатив» (франц. mediatif), предложенный в 19S6 г. известным французским типологом и иранистом Жильбером Лаэаром в статье о таджикском языке (глагольная система которого богата эпистемическими и эвиденциальными показателями) и использованный затем в [Guentcheva (ed.) 1996].
Максимальная система эвиденциальных значений предполагает прежде всего различение источников информации о ситуации по двум признакам:
(i) имел ли говорящий прямой доступ к ситуации («прямая» vs. «косвенная» информация),
(ii) имел ли говорящий личный доступ к источнику информации о ситуации — не важно, прямому или косвенному (этот признак различает «непосредственную» и «опосредованную» информацию).
Вообще говоря, всякая прямая информация по определению является непосредственной, но косвенная информация может быть получена говорящим как лично (например, если говорящий не видел пожара, но видел его следы), так и через посредников (например, если говорящий не видел ни пожара, ни его следов, но слышал о пожаре от третьих лиц), и это обстоятельство для многих грамматических систем оказывается существенным. Ср. ниже схему (4).
(4) Типы источников информации:
| Прямая информация ('говорящий наблюдал ситуацию') | Косвенная информация ('говорящий не наблюдал ситуацию') | |
| Непосредственная информация ('говорящий имел личный доступ к фактам') | Опосредованная информация ('говорящий не имел личного доступа к фактам') | |
Далее, граммемы э видении ал ьн ости (в зависимости от типа эви-денциальной системы) могут конкретизировать каждый из этих типов информации.
В более распространенных эвиденциальных системах оппозиция имеет простую структуру: как правило, маркируется только какой-то один тип
информации. Это может быть, например, опосредованная информация (т. е. полученная говорящим через третьих лиц); в этом случае в глагольной системе имеется показатель цитатива (англ, quotative), который указывает, что говорящий воспринял информацию от кого-то; отсутствие такого показателя свидетельствует о непосредственном характере информации. Маркирование опосредованной информации свойственно эстонскому и латышскому языкам, лезгинскому, многим диалектам кечуа и др. В немецком языке это значение имеет модальный глагол sollen, выражающий также и необходимость, ср. Er soil krank sein 'говорят, он болен', букв, 'он должен быть больным*.
С другой стороны, в глагольной системе может грамматически маркироваться только косвенная информация, т. е. только тот факт, что говорящий не был свидетелем описываемой ситуации (при этом уже не уточняется, наблюдал ли он ее результат, слышал о ней от третьих лиц или просто предположил, что она могла иметь место). В этом случае в языке имеется граммема так называемой «заглазности» (этот удачный русский термин используется, например, в [Кибрик 1977]; англоязычные эквиваленты — non-attested, non-witnessed и др.). Это очень распространенный тип эвиденциальных систем; как правило, граммемы заглазности несут в таких системах сильную дополнительную модальную нагрузку, выражая значение вида 'говорящий не берет на себя ответственность за истинность передаваемой информации' или 'говорящий не утверждает, что передаваемая информация истинна' (ср. русск, будто бы, выражающее близкий комплекс значений).
Маркирование «косвенной» эвиденциальности свойственно турецкому (показатель -mis,) и другим тюркским языкам, пермским и обско-угорским языкам, многим дагестанским и иранским языкам, армянскому языку и др., образующим так называемый «эвиденциальный пояс Старого Света» (на обширной территории от Балкан до Дальнего Востока, включая тюркские, финно-угорские и самодинекие языки Поволжья, Сибири и Урала, корейский, японский и др.). При этом эвиденциальность, как правило, выражается только в прошедшем времени, и ее показатели восходят к формам перфекта (в некоторых языках они еще могут употребляться как настоящий перфект, как, например в восточно-армянском — в отличие от западно-армянского), почему такие системы и названы в [Guentcheva (ed.) 1996] «перфектоидными». Показатели косвенной эвиденциальности обычно имеют два блока контекстных значений: а) инферентивное — 'говорящий наблюдал не саму ситуацию, а ее результат' (это значение является диахронически исходным, и его связь с перфектом очевидна) и Ь) цитативное — 'говорящий знает о ситуации от третьих лиц'; в балканских языках к этим значением добавляется чисто модальное значение адмиратива, развивающееся из предыдущих (в современном албанском это значение фактически наиболее распространенное);
тем самым, неожиданное обнаружение ситуации в этих языках трактуется как особый способ получения информации о ней. В болгарском языке, имеющем наиболее сложно организованную эвиденциальную систему, выделяются и другие формы (например, со значением сомнения или предположения)|8).
Наконец, относительно небольшое число языков мира различает типы информации более детально: в этих языках может иметься несколько (от двух до шести) различных граммем эвиденциальности. Наиболее дробные эвиденциальные системы имеются в современных тибетских языках, а также в ряде индейских языков Калифорнии (группы помо и др.). По нескольку эвиденциальных показателей имеется также в нивхском, айнском, эскимосских языках, во многих аравакских языках Южной Америки и др.
Прямые источники информации могут подразделяться на визуальные (говорящий зрительно наблюдал ситуацию), прочие сенсорные (говорящий воспринимал ситуацию слухом, обонянием и т.п.)19' и так называемые «эндофорические»: граммемы этого типа (распространенные в тибетских и некоторых индейских языках) маркируют внутренние ощущения говорящего (страх, голод, намерения и т.п.), которые, естественно, говорящий может только ощущать, но не может воспринимать их «со стороны» (т. е. визуально-сенсорным способом).
Косвенные источники информации могут также различаться в зависимости от того, судит ли говорящий о ситуации по тому, что он считает ее результатом, или на основании логических соображений общего характера. Граммемы первого типа называются инферентивом (это значение, как мы видели, выражается и в составе показателей «заглазно-сти»); граммемы второго типа — презумптивом. Так, высказывание типа Здесь, похоже, кто-то побывал (произнесенное при виде взломанной двери) будет содержать показатель инферентива, а высказывание типа Дети, должно быть, уже дома (произнесенное при взгляде на часы) будет содержать показатель презумптива, так как говорящий в данном случае опирался не на конкретные свидетельства о ситуации, а на свои знания о привычках детей, их обычном распорядке дня и т. п. (Русские выражения похоже и должно быть являются довольно близкими лексическими эквивалентами инферентива и презумптива соответственно.)
Наконец, возможна и грамматическая дифференциация опосредованной информации: могут различаться средства передачи слов конкретного
|8' Для болгарских эвиденциальных форм (все они построены на базе ^-перфекта) характерен дополнительный эпистемический компонент 'говорящий не гарантирует достоверности сообщаемого'; употребление данных форм, в частности, обязательно для любого рассказа об исторических событиях (но не в художественных исторических романах!), за исключением абсолютно достоверных.
|9' Граммема с таким значением встречается в самодийских языках, где она называется аудитивом (но выражает все виды прямой не-зрительной сенсорной информации).
лица (*Х сказал, что...*), обобщенного, неспецифицированного или неизвестного говорящего ('говорят', 'слышно') и, наконец, сведения из так называемого общего фонда знаний ('как известно'): говорящий не получил этих сведений лично, но они являются «общими истинами», и этот факт может также специально отмечаться.
Заметим, что в таких «детализированных» системах эвиденциальные показатели не имеют или почти не имеют модальной нагрузки (за исключением презумптива, который по определению является эпистеми-ческим значением): в отличие от бинарных систем, в которых всякая непрямая информация автоматически оказывалась менее достоверной, в «детализированных» системах такой импликации нет. В частности, апелляция к общему фонду знаний может быть более достоверной, чем к личному сенсорному свидетельству говорящего, и т. п.; соответственно, эвиденциальность тибетского или калифорнийского типа максимально удалена от модальной семантической зоны. Тем самым, у лингвистов нет оснований ни объявлять эвиденциальность простой разновидностью эпистемической модальности (как предлагается в [Giv6n 1982 и 1984: 307] или — с некоторыми оговорками — в [Palmer 1986]), ни трактовать эвиденциальность и эпистемическую модальность как ничем не связанные категории (как это делается в [Bybee et al. 1994]).
Ключевые понятия
Аспектуальная семантическая зона как множество способов описания динамики ситуаций («внутреннее время» глагола). Аспект и семантический (= «аспектуальный») тип предиката; аспект и «совершаемость» (Aktionsart).
«Количественные» и «линейные» аспектуальные значения. Основные типы количественного аспекта: итератив, мультипликатив, семельфактив, дистрибутив. Хабитуалис как «стативизация» динамических ситуаций. Количественный аспект и интенсивность.
Понятие «периода наблюдения» и линейная структура ситуации. «Внешние» и «внутренние» фрагменты длительной ситуации. Проспек-тив и результатив как описание внешних фрагментов; дуратив и пунктив как описание внутренних фрагментов, совпадающих с периодом наблюдения. Перфект как «ослабленный» результатив, эволюционирующий по направлению к временнбму дейксису. Дуратив и прогрессив; дуратив и мгновенные ситуации (операция «линеаризации»). Имперфектив как совмещение дуративного, итеративного и хабитуального значений.
Пунктив, инхоатив и комплетив; пунктов и длительные ситуации (операция «свертывания»). Лимитативный пунктив как показатель «вложенности» времени начала и конца ситуации в период наблюдения. Перфектив как совмещение лимитативного и пунктивного значений. Особенности перфектива «славянского» типа.
Фазовость как периферия аспектуальной зоны. Семантика фазовости как утверждение о (не)существовании ситуации по сравнению с предшествующим моментом времени. Четыре фазовых значения: инхоатив, терминатив, континуатив и кунктатив. Фазовость и значение «нарушенного ожидания». Выражение «внешней фазы» ('начать/кончить тем, что...').
Модальность как двуполюсная зона, организованная вокруг оценочных и ирреальных значений.
Типы оценки: качественная (интенсивность), этическая, эпистемиче-ская. Интенсивность, количественный аспект и актантная деривация; выражение абсолютной и относительной интенсивности (сравнения) у ста-тивных предикатов (качественных прилагательных): элатив и компаратив.
Значения «эпистемической гипотезы» и «эпистемического ожидания»; [ад]миратив.
Ирреальная модальность: возможность и необходимость; «аристотелевская эквивалентность», связывающая необходимость с отрицанием возможности. Внутренняя и внешняя возможность/необходимость. Условие и импликативная возможность. Реальное, нереальное и контра-фактическое условие. Модальность желания как объединение оценочной и ирреальной сфер; желание и намерение (интенциональность).
Грамматикализация модальности: от «нелокутивной» к «локутивной» модальности. Наклонение как грамматикализованная локутивная модальность. Эпистемические наклонения: дубитатив, пробабилитив и ассертив; дезидеративные наклонения: оптатив и императив. Императив как соединение желания и речевого акта побуждения. Разновидности императива: юссив, гортатив, прохибитив, адмонитив. «Синтаксические» наклонения.
Эвиденциальносгь как грамматикализованное выражение источника информации о ситуации. Прямые vs. косвенные, непосредственные vs. опосредованные источники информации. Типы прямых источников: визуальный, невизуальный сенсорный, внутренний («эндофорический»); типы косвенных источников: инференция и рассуждение. Типы опосредованных источников: чужая речь, слухи, общий фонд знаний. «Цита-тивные», «заглазные» и «детализированные» эвиденциальные системы.
Модальный компонент эвиденциальных значений: рассуждение как эпистемическая оценка. Эпистемическая оценка других источников информации: «модализованные» и «немодализованные» системы.
Основная библиография
Следует честно предупредить читателя, что аспектологическая литература практически необозрима; даже отсеяв работы по частным проблемам аспектологии и по аспектуальным системам отдельных языков, мы все равно сможем представить лишь малую часть — причем не самого аспек-тологического айсберга, а лишь его вершины.
В области аспектуальной типологии вида одной из первых работ, провозгласивших необходимость отказа от «бинарной» модели вида в пользу более сложного устройства аспектуальной зоны, было исследование [Friedrich 1974]. Следующая по времени написания книга [Comrie 1976] — по-видимому, наиболее часто цитируемая работа по общей аспектологии; это сжатый, ясный и популярный очерк состояния проблемы (но для более глубокого знакомства с аспектологией его необходимо дополнить более новыми работами). Важным этапом для понимания многообразия аспектуальных систем естественных языков было появление сборников [Tedeschi/Zaenen (eds.) 1981; De Groot/Tommola (eds.) 1984; Bache et al. (eds.) 1994 и Vet/Vetters (eds.) 1994] (список отнюдь не исчерпывающий). В этом же ряду следует упомянуть и книгу [Маслов 1984], в которой собраны публикации разных лет (в том числе и по типологии вида) нашего выдающегося аспектолога (очень информативны также написанные Ю. С. Масловым краткие статьи «Аспектология», «Вид», «Перфект» и «Имперфект» в [Ярцева (ред.) 1990]).
Заметной вехой в аспектологии оказался 1985 год, ознаменовавшийся выходом сразу двух монографий: [Bybee 1985 и Dahl 1985]. В обеих аспект не является единственной проблемой (в книге Джоан Байби он не является даже центральной), но в этих работах обоснованы принципы типологического анализа глагольных категорий на основе «пост-структуралистской» идеологии — в работе Даля речь идет об анализе преимущественно синхронном, в работе Байби — об анализе, ориентированном на диахроническое изучение и функциональное объяснение языковых явлений. Близость позиций авторов по многим вопросам (достигнутая независимо) позволила им выступить с совместной статьей, в которой кратко изложены основы их подхода к изучению грамматической семантики глагола, в том числе, конечно, и аспектуальной (см. [Bybee/Dahl 1989]); см. также продолжение диахронических исследований в [Bybee et al. 1994].
Из недавних попыток эмпирического и теоретического синтеза в области типологии вида упомянем еще по крайней мере две работы. Книга [Cohen 1989] продолжает линию Косериу—Фридриха, утверждая многообразие значений внутри аспектуальной семантической зоны; автор (известный французский семитолог) использует материал семитских, славянских, африканских и других языков. С другой стороны, получившее довольно большой резонанс исследование [Smith 1991] (также в своей основе типологическое) является попыткой создания формальной теории
вида (опирающейся на гипотезу о бинарном характере универсальной видовой оппозиции); несмотря на то, что основная гипотеза автора представляется нам достаточно спорной, эта работа содержит много интересных наблюдений и обобщений (следует иметь в виду, что Карлота Смит понимает под «аспектом» как семантический тип предиката, так и грамматическую категорию, почему ее теория и называется «двухком-понентной теорией вида»).
Несколько слов необходимо сказать и о так называемой «дискурсивной теории аспекта», выдвинутой в конце 70-х гг. американским типоло-гом Полом Хоппером (см. [Hopper 1979] и сборник [Hopper (ed.) 1982]; из других работ см. прежде всего сборник [Thelin (ed.) 1990)]. Сторонники этого подхода рассматривают аспект как прежде всего прагматическую категорию, обращая основное внимание на его модальные и коммуникативные употребления — в частности, на то, что перфективные граммемы могут использоваться для обозначения основной линии повествования, «продвижения действия», а имперфективные граммемы — для обозначения фоновых ситуаций, отступлений от основного действия и т. п. Такие употребления (действительно, характерные для многих языков) свидетельствуют, по-видимому, о высокой степени грамматикализации аспекта, но вряд ли должны считаться базовыми; вопрос в значительной степени остается открытым.
«Прагматическая» трактовка категории аспекта во многом напоминает «атемпоральную» трактовку категории времени (ср. Гл. 5, §4), также являясь попыткой найти инвариантное содержание семантически неоднородных граммем не в сфере их (диахронически) исходных употреблений. Напомним, что на важность прагматических употреблений французских аспектуальных форм (практически полностью утративших свою базовую семантику) одним из первых обратил внимание Э. Бенвенист [1959], предложивший различать «деистическии» и «нарративный» режимы («план речи» и «план истории»; последний в письменном французском языке использует только формы серии imparfait — passe simple). Близкие идеи высказывал также немецкий романист и теоретик X. Вайнрих, согласно которому видо-временные формы различают прежде всего «описываемую» и «пересказываемую» действительность (см. [Weinrich 1964]).
Из очень большого количества общих работ по славянским видовым системам (без анализа славянского материала не обходится и практически ни одно типологическое исследование) для специалиста по морфологии и грамматической семантике в первую очередь будут интересны, с нашей точки зрения, [Wierzbicka 1967; Бондарко 1971; Гловинская 1982; Шелякин 1983; Падучева 1996 и Ш ату невский 1996], представляющие различные подходы; полезна также книга [Зализняк/Шмелев 1997], являющаяся очень хорошим кратким введением в проблематику современной русской аспектологии.
Из известных теоретических работ по аспектологии, ориентированных преимущественно на английский материал, укажем [Bennett/Par-tee 1978; Palmer 1988 и Brinton 1988] (последняя — с учетом диахронических данных и подробной библиографией), а также [Binnick 1991]. В области романистики отметим давние, но не утратившие актуальности исследования [Bull 1960] (эта работа предвосхитила многие положения современной аспектологии), [Coseriu 1976 и 1980]; из новейших описаний заслуживает внимания, в частности, [Bertinetto 1986], а также [Franckel 1989].
Специально о перфекте см. [McCoard 1978 и L. Anderson 1982]; о ре-зультативе — [Недялков (ред.) 1983]; о количественном аспекте — [Храковский (ред.) 1989]; о теории и типологии фазовых значений — [Храковский 1980 и 1987; Недялков 1987; Brinton 1988; Dik 1994].
Общие работы по теории языковой модальности относительно менее многочисленны (хотя в логике имеется давняя традиция анализа ирреальной модальности, восходящая к Аристотелю), и в типологическом плане эта семантическая зона изучена существенно хуже. Одним из пионеров изучения оценочной модальности является французский лингвист Шарль Балли (см. [Балли 1932]); понятие «модуса» у Балли охватывает практически всю зону оценочной модальности. Влияние взглядов Балли заметно, в частности, и в концепции модальности В.В.Виноградова [1950], оказавшей большое влияние на отечественную русистику; о современном состоянии проблемы см. в [Булыгина/Шмелев 1990 и Шатуновский 1996: 172-308] (с обширной библиографией); ср. также [Бондарко (ред.) 1990].
Лучшей обзорной работой по типологии модальности на сегодняшний день остается [Palmer 1986]; глубокие теоретические идеи содержатся и в уже многократно упоминавшихся исследованиях [Bybee 1985 и Bybee et al. 1994]. Полезен также недавний сборник [Bybee/Reischman (eds.) 1995], дающий более широкую панораму взглядов. Интересная концепция модальности предлагается в [Dik 1989]. Специально о семантике сравнения см. [Сепир 1944 и Stassen 1985], об условных конструкциях — [Traugott (ed.) 1986 и Храковский 1996а]; об императиве — очень информативное исследование [ Володи н/Храковский 1986] и сборник [Храковский (ред.) 1992].
Основным источником по типологии эвиденциальности является во многих отношениях замечательный сборник [Chafe/Nichols (eds.) 1986] и дополняющая его статья [Willett 1988]; можно рекомендовать также недавний сборник [Guentcheva (ed.) I996], содержащий интересные альтернативные трактовки целого ряда явлений. Практически единственной публикацией на русском языке является обзорная статья [Козинцева 1994]. Специально об адмиративе см. [DeLancey 1997]. Одной из ранних типологических работ по эвиденциальности (отличающейся оригинальной системой взглядов) является монография [Haarmann 1970].
Приложение. Поморфемная нотация
В последнее время в связи с развитием типологических исследований особую актуальность приобрел вопрос о корректном представлении языковых (и в том числе морфологических) данных в работах по типологии. Вопрос этот имеет не только практическое значение (относясь к тому, что можно было бы назвать культурой обращения с языковым материалом), но и до известной степени теоретическое, поскольку способ отражения информации о морфемной структуре словоформ имплицитно характеризует общие взгляды исследователя на то, как устроен морфологический компонент модели языка вообще, и в особенности описываемого им конкретного языка.
В рамках морфологии типологически релевантной информацией является информация о морфемном членении (из каких морфем состоят цитируемые словоформы) и о несегментных средствах выражения грамматических значений. Для обозначения морфемных границ и семантической характеристики морфем в современной типологической литературе применяется достаточно сложная техника, называемая «поморфемной нотацией», или «глиссированием» (англ, «morpheme-by-morpheme glosses»). Знакомство с основными принципами этой техники в рамках вводного курса морфологии представляется весьма желательным (полученные сведения при этом было бы, конечно, полезно дополнить практическими упражнениями с текстами на различных языках); подробнее см. также [Lehmann 1982a.|
В настоящее время поморфемная нотация стала практически обязательной принадлежностью типологических работ, публикуемых в авторитетных международных изданиях (таких как журналы «Studies in language», «Linguistic typology» или описательные грамматики, выходящие в сериях «Сгоот Helm descriptive grammars», «Mouton grammar library» и некоторые другие). Это естественно: ведь типологические работы не рассчитаны на специалиста по данному языку или группе языков, для которого основные морфологические факты являются известными и не нуждаются в специальном пояснении. Напротив, типолог исходит из того, что его потенциальный читатель может ничего не знать об упоминаемом им языке, поэтому вся необходимая для лингвистической интерпретации текста информация должна непосредственно сопровождать приводимые примеры.
Текст с поморфемной нотацией состоит из трех параллельных строк. В верхней строке располагается сам текст на анализируемом языке. Сегментные морфологические показатели отделяются друг от друга дефисом (например, русская словоформа приоткрывшимся будет иметь вид при-от-кры-вш-им-ся (либо приоткры-вш-им-ся, если целью морфологического анализа является только словоизменительная морфология)). Иногда дополнительно обозначается клитический статус морфологических единиц
(например, с помощью знака «=»); в таком случае, последовательность типа русск. в лесу же будет выглядеть как в=лес-у=же.
Во второй строке располагаются сами «глоссы», т. е. поморфемный перевод текста на язык-посредник (тот язык, на котором производится описание), в третьей строке — литературный перевод на тот же язык. Специфика поморфемного перевода состоит, как и показывает его название, в том, что каждая морфема переводится отдельно: лексические значения передаются с помощью своих иноязычных эквивалентов (в исходной форме, как в двуязычном словаре), тогда как грамматические значения — с помощью особых условных обозначений, являющихся сокращенными именами соответствующих граммем; эти «грамматические глоссы» записываются заглавными буквами (в отличие от «лексических глосс»). Так, латинская словоформа pedibusque в поморфемной нотации на русском языке будет обрабатываться следующим образом:
ped-ibus=que
НОГа-АБЛ:МН=И
*и ногами'
Легко видеть, что поморфемная нотация лучше всего подходит для описания агглютинативных языков, соответствующих элементно-комбинаторной модели морфологии; однако и для отражения некоторых явлений неагглютинативной морфологии существуют особые технические приемы. Так, в случае кумуляции или полной фузии (т. е. невозможности провести морфемную границу) переводы соответствующих единиц соединяются не дефисом, а двоеточием (ср. глоссу АБЛ:МН, т. е. «аблатив + множественное число», в приведенном выше латинском примере)». Аналогично обрабатываются и случаи несегментного выражения грамматических значений (т.е. чередования и редупликации):
англ. mice
мышь;МН догон papad-e-m
оставить:КОНТР2) - п рош-1 ед
'я окончательно оставил'
'* При этом не все типы отступлений от «агглютинативного эталона* получают отражение в рамках поморфемной нотации. Не отражается, например, алломорфическое варьирование: так, отделяя русский корень -кры- или латинский ped-, поморфемная нотация ничего не сообщает о том, есть ли у этих корней другие алломорфы и каковы правила их распределения. Специально не отражается, как правило, и факт омонимии/полисемии морфологических показателей: так, из двух равно возможных переводов латинской морфемы -(bus (АБЛ:МН и ДАТ:МН) в поморфемной нотации будет выбран лишь тот, который требуется контекстом. Таким образом, поиорфемная нотация отнюдь не может претендовать на то, чтобы полностью заменить собой морфологическое описание, особенно если речь идет о ярко выраженном флективном языке.
2> КОНТР = контрасте ('именно Р, а не О' или 'Р в полной мере')- В языке догон кон-трастивное значение выражается с помощью частичной редупликации глагольной основы (ср. pada- 'оставлять').
Еслиодной морфологической единице описываемого языка в переводе соответствует более одной единицы языка-посредника, то все элементы перевода соединяются посредством точки:
латинск. ignord-ba-t
не. знать-импФ-зцд
'он не знал'
фула miffe suus-i то
я:прцд не. пугаться-РЕЗ он:ов
'он мне не страшен' (букв, 'я-есть не-испугавшись его')3*
(В приведенных примерах латинский глагол ignorare 'не знать' и глагол фула suusude 'не пугаться; не испытывать страха' являются, соответственно, морфологически элементарными.)
Напротив, если нескольким морфологическим единицам описываемого языка соответствует одна единица языка-посредника, то в по-морфемной нотации используются специальные надстрочные цифровые индексы, ср.:
догон iel pilu2 луна1'2
giney и{ tuma ио дом твой1'2 только 'только твой дом'4'
Аналогичным образом оформляются и разрывные морфемы (хотя, конечно, развитая трансфиксация типа семитской вообще вряд ли может быть удачно отражена с помощью техники подобного рода).
Наконец, нулевые показатели обычно в исходном тексте не обозначаются (чтобы не загромождать его лишними символами), а соответствующие им глоссы просто берутся в круглые скобки:
латинск. риег
мальчик (ИМ:ЕД) fac
делать (ИМП:2ЦД)
'сделай'
В качестве иллюстрации приведем в поморфемной нотации небольшой текст на классическом персидском языке (это начальные строки знаменитой газели Хафеза, написанной во второй половине XIV века):
(1)
agar an /w4”=* fuvz-i be dust ariddel=v ma=nt,
если тот турок=ИЗФ5' Шираз-РЕЛ6' крука прнводить:ПРОШ(ЗЕД) ссрдцс=ИЗФ я=ОБ7>
...'Если бы та ширазская турчанка8' приняла9* мое сердце'.
(2)
be xal=e hendu=8S baxi-am SSmdrqSad’^o Baxant=ra.
за родинка=ИЗФ индийски и=ЗЕД:ПОСС (СОСЛ)даритъ-1ЕДШ) Самарканд=и Бухара=ОБ
'за [одну] ее индийскую родинку я подарил бы [ей] Самарканд с Бухарою'.
(Следует обратить внимание на обилие клитических комплексов при практическом отсутствии многоморфемных словоформ в персидском языке, а также на тот факт, что большинство синтаксических отношений выражается клитиками, а не аффиксами; отметим также частые случаи «групповой флексии». Все это характерные свойства «аналитических» языков, ср. Часть вторая, Гл. 1, 4.1.)
3* Подробнее о глагольном спряжении языка фула см. работу [ Коваль/Нялибули 1997] (откуда заимствован и приведенный пример: с. 107). Следует обратить внимание на при-сутствуюшие в этом предложении две сильные мегаморфы: так называемая «предикативная форма» (mide) местоимения 1 ед. mi (используемая для образования аналитических форм результатива) и прямообъектная форма (то) местоимения 3 ед. о.
4* В этом примере ограничительная частица Шта 'только' вставляется между двумя компонентами аналитической притяжательной конструкции и wa, выражающей принадлежность 2-му лицу ед. числа.
5* Показатель изафета (см. Часть вторая, Гл. 2, §3).
*) Суффикс-«релятивизатор», образующий относительные прилагательные от существительных; Шираз — город на юге Ирана, где жил Хафез.
7* Клитический показатель (референтного) объекта (см. Часть вторая, Гл. 6, §2).
** Грамматический род в персидском языке морфологически не выражается.
*' Букв, 'привела к руке'; форма прошедшего времени при союзе 'если' выражает ирреальное условие.
'°) Форма сослагательного наклонения, выраженного в данном случае нулевым префиксом при основе презенса.
– Конец работы –
Используемые теги: Общая, Морфология0.042
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ОБЩАЯ МОРФОЛОГИЯ
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
| Твитнуть |
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?







Новости и инфо для студентов