рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры
- Раздел Лингвистика
- /
- ОБЩАЯ ЛИНГВИСТИКА
Реферат Курсовая Конспект
ОБЩАЯ ЛИНГВИСТИКА
ОБЩАЯ ЛИНГВИСТИКА - раздел Лингвистика, ...
 Эмиль Бенвенист
Эмиль Бенвенист
ОБЩАЯ ЛИНГВИСТИКА
Под редакцией, с вступительной статьей и комментарием Ю. С. Степанова
Издательство «Прогресс» Москва 1974

|
| ЭМИЛЬ БЕНВЕНИСТ И ЛИНГВИСТИКА НА ПУТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ Вступительная статья |
Перевод с французского Ю. Н. Караулова (гл 1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 29, 30); В. П. Мурат (гл 2* 9, 14, 15, 17, 18, 24, 25); И. В. Барышевой (гл. 11 13* 19, 26, 27, 28, 31); И. Н. Мельниковой (гл. 20, 21', 22, 23)
Эмиль Бенвенист не является лидером какого-либо лингвистического кружка или направления. И вместе с тем, а может быть, благодаря этому, имя французского лингвиста наилучшим образом представляет современный этап науки о языке — лингвистику 70-х годов нашего века.
Не входя в лагерь ни «структуралистов», ни «традиционалистов», Э. Бенвенист сумел выработать единую концепцию языка, свободную от крайностей как того, так и другого. Он принадлежит к числу тех немногих лингвистов — среди них надо обязательно упомянуть также польского лингвиста Е. Куриловича,— труды которых сами по себе— целое направление. Когда к середине 60-х годов структурализм, во многом обогатив языкознание и превращаясь в «традиционный, или догматический, структурализм», склонился к закату, стало ясно, что непреходящие лингвистические ценности связаны не с ответвлениями и ветвями, а с центральным стволом лингвистики. Если ветви — это лингвистика с каким-либо ограничивающим определением («прикладная»; «математическая»; «инженерная»; «семиотическая»; «системная»; «бионическая» и т. д.), то ствол — это лингвистика просто, лингвистика в собственном смысле слова. Как бы ни были важны ответвления сами по себе, они невозможны без ствола. Его-то во многом и образует личное научное творчество Э. Бенвениста. Именно в рамках центрального русла лингвистики сохраняются и шлифуются фундаментальные понятия науки о языке; но в нем также и ставятся новые проблемы, разработкой которых некоторое время спустя начинает заниматься та или иная специальная ветвь1.
 ) Перевод на русский язык Издательство «Прогресс» 19 7» р.
) Перевод на русский язык Издательство «Прогресс» 19 7» р.
Ограничимся одним примером. Проблема так называемого перформативного типа высказывания, ставшая в последнее время одним из центральных пунктов специального логико-математического изучения языка и перерастающая теперь
© Издательство illpoepecn 197d », В
Труды Э. Бенвениста, как и Е. Куриловича, представляют европейскую лингвистическую школу. Слово «школа» здесь надо понимать и в том смысле, в каком мы говорили раньше и снова начинаем говорить теперь — «пройти хорошую лингвистическую школу», и как течение лингвистической мысли, в том более конкретном и специальном языковедческом значении, разъяснить которое и является целью настоящей статьи.
Способ работы с материалом прежде всего характеризует всякую лингвистическую школу, и в особенности ту, которую представляет Э. Бенвенист,— именно потому, что она требует тщательной работы с материалом и скрупулезного знания текстов. Каждый раз, идет ли речь об именном предложении или о значении слова «цивилизация», мы находим у Бенвениста полные или почти полные перечни соответствующих языковых явлений из поэм Гомера, од Пиндара, истории Геродота, иранских текстов, первых английских словарей и т. д. Работая над латинскими предлогами и падежами, Бенвенист обследует, а по возможности и цитирует «все случаи употреблений предлога ргае уПлавта» (статья о предлогах); приводит полный список употреблений «родительного падежа восклицания» «во всей латыни» (статья о падежах); перечисляет все классы употреблений родительного-местного падежа (там же); дает «исчерпывающий список» употреблений слова «ритм» rythmos у древнегреческих авторов (статья о ритме), не говоря уже о богатейших материалах его «Словаря индоевропейских социальных терминов».
Только в результате подобной начальной работы над материалом, путем постепенного обобщения Бенвенист смог прийти к таким значительным выводам, как его известная формулировка первичных и вторичных функций родительного падежа, которая, заметим, совпадает с аналогичной и полученной одновременно формулировкой Е. Куриловича и которая составляет вместе с последней краеугольный камень современной теории падежей. Сказанное — лишь один пример. При чтении его работ возникает впечатление необычайной легкости, с какой получаются замечательные обобщающие результаты. Между тем эта легкость — отражение естественности обобщения, а вовсе не его быстроты. Бенвенист никогда не употребляет слова «постулируем» или «задаем», глагол poser у него почти всегда синоним reconnaitre — «опознавать или распознавать в материале».
Глубочайшую филологическую традицию такого отношения к материалу Бенвенист непосредственно воспринял от своего учителя
 в еще более общую проблему «семиотического закона операционности знака», первоначально была поставлена как вопрос об особенностях глаголов типа «клянусь», «обещаю» и т. п. (см. здесь ниже, стр. 299, 301—310).
в еще более общую проблему «семиотического закона операционности знака», первоначально была поставлена как вопрос об особенностях глаголов типа «клянусь», «обещаю» и т. п. (см. здесь ниже, стр. 299, 301—310).
А Мейе. Достаточно раскрыть любой научный словарь французской школы, будь то толковый словарь французского языка Лит-тре или латинский этимологический словарь Эрну — Мейе, чтобы почувствовать, что такое эта традиция, позволяющая провести историю слова или грамматической формы через всю историю культуры на соответствующем языке. Мейе имел полное основание утверждать, что научная реконструкция формы должна воссоздать весь окружающий фрагмент системы языка, а этимологические словари должны давать не сближения корней, а историю слов. Когда речь идет о таких ценностях культуры, как лексика индоевропейских социальных установлений, как понятие о «протекании вещей» в философии Демокрита, или понятие «цивилизации», всякое иное, чем у Бенвениста, отношение к материалу выглядело бы просто варварским.
Все это очень близко к тому, чему учили у нас академик Л. В. Щерба и академик В. В. Виноградов. «История слова должна воспроизводить все содержание, всю цепь его смысловых превращений, все его «метаморфозы». ...Она определяет исторические закономерности изменения значений, связывающие судьбу отдельного слова общим ходом развития всей семантической системы языка или тех или иных его стилей./ История слова всегда жизненнее, динамичнее и реальнее его этимологии»2.
Широко представляя, как уже было сказано, европейскую языковедческую традицию, Бенвенист остается вместе с тем ярким выразителем идей именно французской школы. Он сумел воспринять лучшие черты французской научной мысли — картезианскую ясность и контовскую позитивистскую уклончивость перед слишком .общими теориями. Совсем не случайно при огромном диапазоне своих научных работ Бенвенист никогда не предпринимал общих компендиумов под названиями типа «Язык», «Система...» и т. п. и явно холодно относился к тем течениям в лингвистике, которые начинали претендовать на слишком широкие обобщения. К творчеству Бенвениста до известной степени могут быть отнесены слова Конта, которыми он характеризовал свою философию: «Всячески стремясь как можно более сократить число общих законов, необходимых для позитивного объяснения естественных явлений, что в действительности и является целью науки, мы считаем неоправ-; данно дерзким рассчитывать на то, что когда-нибудь, хотя бы в са-. мом отдаленном будущем, их удастся свести к строго одному»; необходимо единство метода, «что же касается доктрины, то в ее единстве нет никакой необходимости, достаточно, чтобы она была однородна»3.
 В. В. Виноградов, Чтение древнерусского текста и историко-этимоло-гические каламбуры, ВЯ, 1, 1968, стр. 19.
В. В. Виноградов, Чтение древнерусского текста и историко-этимоло-гические каламбуры, ВЯ, 1, 1968, стр. 19.
A. Comte, Cours de philosophie positive, t. I. Gamier Freres, Paris, 1949, CTPi °?ДрУсскии перевод: О. Конт, Курс положительной философии в 6 томах, * • * i ->i 10, 1У00).
Начиная со своей знаменитой «теории индоевропейского корня», сформулированной в 1935 г. (в книге «Индоевропейское именное словообразование»), и до цикла статей 60-х годов, вошедших в настоящий сборник, Бенвенист остается новатором лингвистического метода. Только не искушенному в «основной лингвистике» взгляду, привыкшему к резкой специализации «ответвлений», может показаться, что Бенвенист работает в материале так, как могли работать, говоря его собственными словами, «и в 1910 году». Когда, например, он разыскивает первые контексты со словом «цивилизация» в английском и французском языках, он ищет не просто первые употребления слова, а стремится открыть «позиции нейтрализации» старого и нового значений, т. е. такие места в текстах, которые человеком сегодняшнего дня воспринимаются как двусмысленности, а с исторической точки зрения свидетельствуют о переходе от одной семантической системы к другой. Длинные ряды примеров у Бенвениста — не самоцель, а средство для того, чтобы нащупать в них или «позиции нейтрализации», или иное, но всегда узловое место. Тем самым метод Бенвениста, требующий столь же обширной документации в материале, как и «атомарный» метод младограмматиков, решительно отличается от него.
Вместе с тем Бенвенист никогда не был сторонником «глобального» описания языка в духе дескриптивизма или порождающей грамматики; такие описания, по его словам, демонстрируют скорее «метод ради метода». Бенвенист обычно выбирает узловое м е с то ,.с Ж. с т е м ы, радиально продвигаясь от него в разных направлениях. Не случайно в книге так широко представлена проблема перфекта (в статьях «Пассивное оформление перфекта переходного глагола», «Активный и средний залог в глаголе», «Глаголы «быть» и «иметь» и их функции в языке», «Отношения времени во французском глаголе», «Именное предложение», «О некоторых формах развития индоевропейского перфекта»). Эта глагольная категория интересует Бенвениста не сама по себе, а в силу того, что она является ключевым пунктом в системе индоевропейских и некоторых других языков, будучи точкой скрещения временных категорий настоящего и прошедшего, а вследствие этого и категорий активного процесса и состояния, далее номинативности и посессивности и, наконец, глагольного и именного типов предложения. В связи с последними стоит различие 3-го и 1-го лица, различие же 3-го и 1-го лица есть центр нового круга проблем — «субъективности языка» и т. д. Естественно, что мы, как читатели, могли бы начать и с «проблемы субъективности» в языке, чтобы затем прийти к перфекту, как с любой другой из узловых проблем сборника (они подчеркнуты в Комментарии). Таким образом, все статьи сборника образуют полное описание системы языка, развитое в соответствии
с единой концепцией и обозримое с одной точки. Но при этом описание не повторяет схемы самого языка, оно не «иерархическое», а «радиальное».
Здесь мы приходим к другой особенности концепции Бенвени
ста. Бенвенист четко различает то, что не удалось разграничить
Соссюру__ структуру описания (она у Бенвениста обычно «кон
центрическая» и «радиальная») и онтологическую структуру объек
та — самого языка (последней, ее «иерархическому» принципу,
в настоящем сборнике посвящены специально лишь две статьи —
«Понятие структуры в лингвистике» и «Уровни лингвистического
анализа»). Структура описания у Бенвениста скорее напоминает
структуру словарных определений, где каждое следующее опреде
ление не вытекает из предыдущего, а связано прямыми и обратными
связями с рядом других.
И здесь также Бенвенист далек от стремления протянуть процедуру описания в одном необратимом направлении и «непротиворечиво» переходить от простейшего элемента языка к описанию единиц все более высоких ярусов, к чему так настойчиво и часто тщетно стремились американские дескриптивисты и школы, выросшие на основе дескриптивизма. И напротив, Бенвенист очень близок здесь к русской лингвистической школе, которая уже во второй половине 50-х годов устами П. С. Кузнецова провозгласила отказ от стремления к однонаправленной непротиворечивости .метода, от пути последовательного определения единиц низшего "порядка с переходом затем.к единицам высшего порядка: «Таким путем мы не можем построить внутренне непротиворечивую систему, так как на определенных этапах нашего пути будем наталкивать-, ся на порочные круги (в логическом смысле). Это объясняется тем, что система единиц любого одного порядка требует для своего построения определенных понятий, лежащих за пределами ее»4. Примером такого подхода П. С. Кузнецов называл трактовку фонемы в Московской фонологической школе, где понятие фонемы определяется как от низшего яруса — системы понятий из области фонетики, так и от высшего — системы понятий из области морфологии.
Четко сформулированное здесь П. С. Кузнецовым, а на деле уже широко применявшееся русскими и французскими лингвистами понятие кругового метода заслуживает дальнейшего теоретического объяснения. Здесь осознается, что линейная последовательность определений неизбежно окажется порочным логическим кругом и, напротив, кажущийся круг лингвистических определений будет логически непротиворечив. Тем самым по сути дела предпринимается попытка— фундаментальной важности для теории метода —
 П. С. Кузнецов, О последовательности построения системы языка, «Гезисы конференции по машинному переводу (15—21 мая 1958 г.)», изд. 1 МГПИИЯ, М.,1958, стр. 17,
П. С. Кузнецов, О последовательности построения системы языка, «Гезисы конференции по машинному переводу (15—21 мая 1958 г.)», изд. 1 МГПИИЯ, М.,1958, стр. 17,
эксплицировать «логический круг», превратив его тем самым из недостатка в достоинство и сделав его краеугольным камнем теории. Здесь делается также важный шаг к формализации «филологического круга» — специфического метода гуманитарных наук, осознанного уже на заре научного языкознания и литературного романтизма, в начале XIX века, философом, переводчиком и комментатором Платона Ф. Д. Шлейермахером6.
В радиальном методе Бенвениста четко прослеживаются две основные опорные линии анализа — семантическая и формальная. Каждое анализируемое явление исследователь стремится поставить в две линии соответствий — с одной стороны, в ряд «языковых категорий» (например, в проблеме перфекта это категории «времени», «активного залога», «среднего залога», «переходности», «но-минативности», «посессивности» и т. д.), что у Бенвениста всегда оказывается связанным в той или иной степени с содержательным, семантическим анализом, с другой стороны — в ряд «синтаксических функций», что в понимании Бенвениста приближается к формальному анализу. Последнее обстоятельство указывает на известное сходство метода Бенвениста (точнее, его «метаязыка», не всегда эксплицитного) с пониманием метаязыка абстрактного типа, когда понятия «синтаксический» и «формальный» полностью совпадают. По этой причине мы не стали бы прямо сопоставлять две названные опорные линии анализа у Бенвениста с соответственно «парадигматикой» и «синтагматикой» в общепринятом смысле терминов. Суть синтаксического учения Бенвениста состоит в разработке понятия «синтаксической функции». Последняя оказывается одновременно и наиболее общим типом, «инвариантом» определенной группы языковых синтаксических функций в общепринятом смысле слова («функции определения», «функции отождествления», «функции предицирования» и т. п.), с одной стороны, и, с другой стороны, логической функцией, т. е. поддается формулировке в логических терминах. Так обнаруживается связующее звено между логическим и языковым и удается в значительной степени преодолеть неоднократно отмечавшийся разрыв между понятием функции в современной логике и понятием языковой функции, которым на каждом шагу пользуется всякий лингвист и которое казалось до сих пор просто «омонимом» первого (см. «Именное предложение», «Относительное предложение как проблема общего синтаксиса» и особенно «Синтаксические основы именного сложения» и коммента-
 5 Ueber den Begriff der Hermeneutik mit Bezug auf F. A. Wolf Andeutungen und Ast's Lehrbuch (1829 г.), Friedrich Schleiermacher's Samtliche Werke, HI Abt., Ill Bd., Berlin, 1835: «Всякий элемент (einzelnes) может быть понят только как часть целого (ganzes), и всякое объяснение элемента уже предполагает понимание целого» (стр. 366 указ. соч.). Это положение Шлейермахер ставил в основу герменевтики, которую он мыслил как общее учение об интерпретации любого содержательного словесного произведения, от античных классиков и священного писания до дружеской беседы.
5 Ueber den Begriff der Hermeneutik mit Bezug auf F. A. Wolf Andeutungen und Ast's Lehrbuch (1829 г.), Friedrich Schleiermacher's Samtliche Werke, HI Abt., Ill Bd., Berlin, 1835: «Всякий элемент (einzelnes) может быть понят только как часть целого (ganzes), и всякое объяснение элемента уже предполагает понимание целого» (стр. 366 указ. соч.). Это положение Шлейермахер ставил в основу герменевтики, которую он мыслил как общее учение об интерпретации любого содержательного словесного произведения, от античных классиков и священного писания до дружеской беседы.
рий к ним). У Бенвениста намечается и переход к еще более общему понятию функции, которое объединило бы и названное выше понятие «синтаксической функции» и понятие «падежной функции» (ср. названные статьи и статью «К анализу падежных функций: латинский генитив»), но этот переход остается, по-видимому, незавершенным.
Еще одной, может быть важнейшей, чертой метода является у Бенвениста генетический способ описания. Этот способ необходимо возникает из самого обращения с материалом: «узловые пункты» бенвенистовских рядов всегда оказываются узловыми не только в системном, синхронном, плане, но и в плане историческом. С ними всегда связан тот или иной ключевой исторический момент в развитии рассматриваемого явления, а чаще целого фрагмента системы языка. При этом генетический метод Бенвениста отличается от традиционного исторического метода младограмматиков не менее, чем отличается от их атомарного подхода его отношение к материалу. Бенвенист не ограничивается непременно односторонним движением — от засвидетельствованной в текстах или гипотетически устанавливаемой начальной точки к нашему времени. Даще он предпочитает^ двигаться_J^f^arj^i^^arv^Bmnm^^j^^ji^ioc^' бедственно наблюдаемого факта существующей сжггщы^в^щгдщлое. Нередко он привлекает для сравнения соответствующие фрагменты сосуществующих во времени языковых систем, например америка-ноиндейских, тюркских и других языков — в параллель к индоевропейским или, внутри индоевропейской семьи, индоиранских — в параллель греческим и т. д., последнее — как это делалось обычно в классическом сравнении. Однако при этом часто оказывается, что сравниваемые факты, принадлежащие одновременно существующим системам, располагаются не одновременно, а последовательно с точки зрения типологической перспективы. Так, «пассивное оформление» армянского перфекта оказывается не параллелью своеобразных синтаксических конструкций кавказских языков, а одной из ступеней развития индоевропейского перфекта в связи с категорией посессивности. Таким образом, и генетический подход у Бенвениста оказывается не линейным, как у младограмматиков, а значительно более сложным. Это—генетический рринщци, обогащенный и существенно измененный новой типологической и общефилософской точкой зрения.
При таком генетическом принципе по-новому, в частности, освещается и вековая проблема «смысла и значения»: средством различения «значения» («денотации», «денотата», у Бенвениста здесь designation) и языкового «смысла» («десигната», или «сигнификата», у Бенвениста здесь signification) является диахронический подход: «задача заключается в том, чтобы средствами сравнения и диахронического анализа вскрыть сигнификат там, где в начальной точке наблюдения нам дан лишь денотат. Параметр времени становится при этом параметром системного описания (la dimension temporelle
этом
devient ainsi une dimension explicative)»". Зная в начале анализа лишь то, с какими вещами соотносимы слова, лингвист в процессе глубокого диахронического анализа вскрывает их языковой смысл. Так построено последнее капитальное исследование Бенвениста — двухтомный «Словарь индоевропейских социальных терминов».
Мы говорили здесь о методе как «логике открытия» у Бенвениста, о практическом применении теоретических принципов. Что касается метода в «чистом теоретическом» виде, то он кратко изложен в специальной статье Бенвениста «Уровни лингвистического анализа». Но там Бенвенист говорит скорее о результатах и общих принципах метода, а вряд ли какой лингвист применял когда-нибудь на деле свой теоретически описанный метод в неприкосновенно чистом виде.
* *
Течение, к которому принадлежит Бенвенист, характеризуется также способом введения и определения теоретических понятий. В отличие от структурализма с его априорным и скачкообразным введением новых понятий, в силу чего очень часто следующее понятие не имеет ничего общего с понятиями предшественников и вытесняет их,1 Бенвенист применяет эволюционный, генетический и апостериорный способ введения норых понятий. Блестящим образцом этого способа служит статья о понятии структуры в лингвистике. Последнее определяется не дедуктивно, а генетически — последовательным раскрытием этапов его становления в лингвистике, так что исторические этапы становления понятия соответствуют ступеням его логического определения. Благодаря этому Бенвенист уже в 1962 г. смог дать такое определение структуры, к которому повсеместно приходят лишь шестью-семью годами позже. Замечательно, что общая модель такого способа определений имеется в самом языке, и Бенвенист мастерски вскрывает («распознает») ее в ряде исследований. Оказывается, что именно так развиваются понятия в их естественной форме— в лексической системе языка (в настоящем сборнике см. статьи «Свободный человек», «Раб, чужой», «Цивилизация (к истории слова)»).
Этот способ, как и некоторые другие названные выше категории глубинного метода, не получил у самого автора эксплицитного выражения и названия, но Бенвенист последовательно шел к их обобщению. Этапы этого движения в наиболее полном виде представлены в статье «Категории мысли и категории языка», и несколько уже в работе «Аналитическая философия и язык». Особенно знаменательно и глубоко закономерно появление первой статьи, посвященной «Категориям» Аристотеля. Если, как справедливо
 6 Е. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-europeennes, Paris, 1970, стр. 12, см. в настоящем сборнике перевод «Предисловия» автора к этой работе (гл. XXVIII).
6 Е. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-europeennes, Paris, 1970, стр. 12, см. в настоящем сборнике перевод «Предисловия» автора к этой работе (гл. XXVIII).
! полагает Бенвенист, модель понятий тер^етаче£жоА,лингвистики за-! ложена в: самом языке, то естественно обратиться к самым истокам европейской лингвистической традиции — к греческой науке и к Аристотелю, и там проверить в материале это положение. Блестящий анализ Бенвениста полностью его подтвердил: категориями Аристотеля оказывается то, и только то, что уже категоризовано самим греческим языком. Но Аристотель здесь не просто объект лингвистического исследования, он и само начало европейской филологической традиции. Таким образом, связываются воедино три опорных положения лингвистической концепции .Бенвениста, а вместе с тем и всего рассматриваемого течения лингвистической мысли: 1) генетический способ работы с материалом и объяснения категорий языка; 2) генетический способ введения и определения теоретических^понятий лингвистики; 3) глубокая связь с филологической и лингвистической традицией.
Следование традиции у Бенвениста — не стихийная привязанность, она требуется рационально, она вытекает как следствие из самых глубоких теоретических основ его концепции.
Еще одна особенность характеризует течение, представляемое
Бенвенистом. В настоящем сборнике она возникает сначала как
простое наблюдение: имеются глаголы «клясться», «обещать», «обя
зываться» и т. п., произнесение которых в первом лице настоящего
времени — «клянусь», «обещаю», «обязуюсь» — и есть сам акт клят
вы, обещания, принятия обязательства. У этих глаголов, следова
тельно, означаемое, денотат, существует именно в тот момент и
ровно столько времени, сколько длится произносимое означающее.
Это небольшое открытие влечет за собой далее обнаружение целого
универсального, существующего в разных языках, класса глаголов
и речений (статья «Делокутивные глаголы»). Поиски тех же семио
тических свойств — совпадения по времени означаемого и означаю
щего в других классах языковых элементов — позволяют присоеди
нить сюда же и местоимение первого лица «я». Обнаруживается,
что это местоимение является первичным и основным носителем
свойства, открытого раньше у глаголов (статья «О природе местои
мений»). Появляется необходимость—и возможность—уточнить и
самое свойство, которое оказывается фундаментальным качеством
языка в процессе его реализации (langage en exercice) и получает
особое наименование «субъективность в языке». Субъективность в
42M способность.хошрящегр.. присв.аива1ь^себе-язьш_в1 щэо-
Рименения, отражающаяся в^самом «зыке в,виж„Р.собой_ его устройства: в том, что целые классы языковых элементов — местоимения первого лица, названные глаголы, и др.— имеют особую референтную соотнесенность, или, если пользоваться специальным термином, являются «аутореферентными»,
М
За субъективностью вскрывается, таким образом, еще более общее свойство языка: язык есть семиотическая система, основные референционные точки которой непосредственно соотнесены с говорящим индивидом. С присущей ему простотой Бенвенист называет это свойство «человек в языке» и делает это названием целого раздела своей книги. Иначе все эти черты лингвистической концепции можно назвать антропоцентрическим принципом.
Тот же принцип Бенвенист утверждает и в лингвистическом анализе. Определяя, например, «субфонематический уровень», или уровень дифференциальных признаков фонем (в статье «Уровни лингвистического анализа»), он подчеркивает: «Здесь — предел лингвистического анализа. Все данные ниже этого предела, получаемые при помощи современной специальной техники, относятся к физиологии или акустике и являются внелингвистическими».
На этом примере, между прочим, хорошо видно, что значит отмеченная выше черта — не примыкать ни к одному из двух крайних лагерей, «структуралистов» и «традиционалистов». Казалось бы, приведенное положение Бенвениста отделяет его концепцию только от «неограниченно машинного» подхода. Однако по существу это лишь одна сторона более общего принципа, другая сторона которого отделяет эту концепцию от «неограниченно семантического» подхода. Как данные о звуковом и фонемном составе языка, полученные с помощью машинной техники за порогом естественного восприятия человека, лежат вне языка и вне лингвистики, так — аналогично и симметрично — данные о специальных областях семантики («Язык в культуре» и «Культура через язык»), лежащие за порогом естественного и обычного пользования языком у культурного человека, лежат вне языка и вне лингвистики. Как ни трудно еще в настоящее время провести гщщщу_между историей слов и исто-Одр-й пдщггой, мещщ^емантикой языка и семаатшадй^льтуры, она должна быть проведена, и лингвистам" предстоит упорно работать в этом направлении. Эти ограничения с двух сторон позволяют дать еще одну формулировку антропоцентрического принципа: язык лежит BjtHanaaoEe естественного^восприятия человека, це_переходя порогов_этого восщшятия ни со стороны плана выражения, ни со стороны план^асодержания^^ с§мантикйТ '
И это опять-таки такой принцип, по которому сближаются французская и русская лингвистические школы. Во Франции антропоцентрический принцип с большой определенностью утверждал, например, Г. Гийом, значение работ которого только сейчас начинает осознаваться во всей полноте. Указывая на противопоставленность его собственного структурализма копенгагенскому, Г. Гийом писал: «Противопоставление справедливо, и различие двух струк-турализмов, если свести его к самому основному, заключается в том, что_копенгагенский структурализм считает язык объектом внешнего наблюдения, путь к познанию которого д§жит через построение
теории, как это имеет место во всех науках, где объектом наблюдения является объективный мир «вне меня». Копенгагенская школа приписывает языку ложную объективность как вне-субъективность, а между тем язык не имеет иной объективности, кроме той, которая устанавливается в самых глубинах субъективного» (Г. Гийом, лекция 17 октября 1955 г.)7.
Разумеется, концепция Бенвениста и доктрина Гийома совершенно различны. Несомненно также, что антропоцентрический принцип находит в современной лингвистике различные индивидуальные формулировки (например, в нашем языкознании близкую к гийомовской, но совершенно независимую концепцию развил применительно к грамматике Н. С. Поспелов; иное выражение находит тот же принцип у некоторых психолингвистов). Но несомненно и то, что в своей концепции «человека в языке» Бенвенист воплощает определенную и глубокую традицию европейского языкознания, в особенности отчетливую во французской и русской лингвистических школах. Подобный принцип на материале лексикологии утверждал у нас еще в 1940 г. академик Л. В. Щерба: «Слово золотник (в машине) всем хорошо известно, но кто из нас, не получивших элементарного технического образования, знает как следует, в чем тут дело? Кто может сказать, что вот это золотник, а это нет? Поэтому в общем словаре приходится так определять слово золотник: «одна из частей паровой машины». Прямая (линия) определяется в геометрии как «кратчайшее расстояние между двумя точками». Но в литературном языке это, очевидно, не так. Я думаю, что прямой мы называем в быту «линию, которая не уклоняется ни вправо, ни влево (а также ни вверх, ни вниз). (Не следует думать, что здесь скрыт circulus viciosus: в основе наших обывательских понятий прямо, направо, налево лежит, я думаю, линия нашего взгляда, когда мы смотрим перед собой)»8. Вслед за тем Л. В. Щерба делал вывод, что логически строго определетные потетия_<ше являются какими-либо факто|>а~шГв процессе речевого рбщещш».
Здесь мы подошли к тому главному положению всего этого направления, которое служит его отличительной чертой: язык создан по мерке человека, и этот масштаб запечатлен в самой организации языка; в соответствии с ним язык и должен изучаться.
Поэтому в своем главном стволе лингвистика всегда будет наукой о языке в человеке и о человеке в языке, наукой гуманитарной, словом такой, какой мы находим ее в книге Бенвениста, не столько завершающей пройденный, сколько открывающей новый этап — 70-е годы нашего века.
 7 См. издательский проспект: G. G u i 11 а и m e, Lecons de Iinguistique, publiees par Roch Valin, Klincksieck, Paris, 1971.
7 См. издательский проспект: G. G u i 11 а и m e, Lecons de Iinguistique, publiees par Roch Valin, Klincksieck, Paris, 1971.
__„ Л. В. Щерба, Опыт общей теории лексикографии, «Известия АН СССР, ОЛЯ», № 3, 1940, стр. 100.
Осталось сказать несколько слов о самом авторе. Эмиль Бенве-нист — профессор парижской Школы высшего образования (Ёсо-le des Hautes Etudes) с 1927 г., доктор филологических наук с 1935 г., профессор Коллеж-де-Франс (College de France) по кафедре, оставленной ему А. Мейе, с 1937 г., секретарь французского Азиатского общества (Societe Asiatique) с 1927 по 1937 г., второй секретарь (пост, который занимал в свое время Ф. де Соссюр), затем первый секретарь Парижского лингвистического общества (Societe de Linguistique de Paris) с 1945 г., почетный член академий и научных обществ многих стран.
Родился Эмиль Бенвенист в 1902 г., и таким образом в 1972 г. ему исполнилось 70 лет. Русское издание его книги становится юбилейным.
Предисловие автора французскому изданию «Проблем общей лингвистики» 1966 г,
О составе настоящей книги. В нее вошли следующие работы: «О некоторых формах развития индоевропейского перфекта» (1949), большая часть сборника автора «Проблемы общей лингвистики» (Е. В е n v e n i s t e, Problemes de linguistique generate, Paris, NRF, Gallimard, 1966), «Синтаксические основы именного сложения» (1967), «Семиология языка» (1969), «Формальный аппарат высказывания» (1970) и извлечения из двухтомного исследования «Словарь индоевропейских социальных терминов» (1970). Состав и композиция книги в принципе были согласованы с автором. Как и парижское издание 1966 г., эта книга образует единое целое, и поэтому мы сочли возможным предпослать ей предисловие автора к указанному французскому изданию. В конце дается «Библиография работ Э. Бенвениста».
Читателю следует иметь в виду, что ряд важных вопросов рассматривается автором в главах, название которых ничего не говорит об этих вопросах. Так, проблема антонимии затрагивается в главе «Заметки о роли языка в учении Фрейда»; проблема референции — в главе «Аналитическая философия и язык»; принципы семантики — в главах «Уровни лингвистического анализа» и «Семиология языка»; теория индоевропейского корня — в главе «О некоторых формах развития индоевропейского перфекта» и т. д. Комментарий поможет ориентироваться во внутренней композиции книги,
Ю. Степанов
Работы, составившие настоящую книгу, отобраны из числа многих других, более специальных, опубликованных автором на протяжении последних лет. Они названы здесь «проблемами», потому что все они в целом и каждая в отдельности являются определенным вкладом в фундаментальную проблематику науки о языке. Эта проблематика представлена основными темами книги: отношение ■ между биологическим и культурным аспектами языка, между субъективным и социальным, между знаком и предметом, между символом и мыслью, а также приемы и методы внутреннего анализа языка. Представители других наук, осознавшие важность языка для их области знания, увидят, как лингвист подходит к некоторым вопросам, возникшим и перед ними, и, возможно, заметят, что организация языка определяет все семиотические системы.
Для таких читателей некоторые страницы, вероятно, покажутся трудными. Пусть же они убедятся в том, что язык действительно сложное явление и что анализ языковых фактов достигается нелегкими путями. Прогресс в языкознании, как и в других науках, прямо связан с тем, насколько оно способно увидеть сложность -^своего объекта; этапы в развитии науки о языке и есть ступени в осознании этого. Следует, впрочем, всегда помнить ту истину, что рассуждения о языке плодотворны только тогда, когда они опираются на данные конкретных_языков. Изучение этих реальных, j данных нам в опыте исторических "систем, какими являются от-! дельные языки,— единственно возможный путь к пониманию общих механизмов языка и его функционирования.
В первых главах мы нарисовали в общих чертах панораму исследований, осуществленных в последнее время в области теории языка, и отметили перспективы, которые они открывают. Далее мы переходим к центральной проблеме коммуникации и ее различным
аспектам: природа языкового знака; отличительные свойства человеческого языка; соотношение между категориями языка и категориями мышления; роль языка в изучении подсознания. Последующие разделы посвящены понятиям структуры и функции, в них рассматриваются,.разновидности-стр.уктуры. виазьшах, а также внутриязыковые проявления некоторых функций; в частности, категории формы и значения поставлены в связь с уровнями языка и анализа. Ряд статей посвящен синтаксическим явлениям: здесь на материале языков различных типов исследуются некоторые синтаксические константы и устанавливаются специфические модели некоторых синтаксических конструкций, являющихся универсалиями: именное предложение, относительное предложение и др. Название следующего раздела — «Человек в языке»; здесь речь идет об отражении человека в языке, которое определяется языковыми формами «субъективности» и категориями лица, местоимения и времени. Напротив, в последних главах в центре — роль семантики и культуры; здесь рассматриваются методы семантической реконструкции, а также происхождение некоторых важных терминов современной культуры.
Из этого краткого обзора можно видеть, что книга представляет собой единое целое. Мы намеренно воздерживались от какого-либо вмешательства задним числом в изложение или в выводы, заключающие те или иные главы. В противном случае нам пришлось бы к каждой главе добавлять постскриптум, зачастую весьма пространный: как в отношении библиографии, чтобы осветить, в частности, новейшие тенденции в развитии теоретической мысли, так и в отношении истории наших собственных, публикуемых здесь исследований, чтобы указать, какой прием был оказан каждому из них, отметив, например, что «Природа языкового знака» вызвала оживленную полемику, в ходе которой появилось много статей на ту же тему; что наша работа об отношениях времени во французском глаголе была продолжена и подтверждена статистическими исследованиями употребления времен у современных писателей, проведенными А. Ивоном, и т. д. Но в результате этого каждый раз получалась бы новая работа. Мы надеемся, что у нас еще будет возможность вернуться к этим важным вопросам и рассмотреть их заново.
ЛИНГВИСТИКА НА ПУТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
I В течение последних лет исследования языка и языков претерпели значительные… Полезно поэтому по возможности просто, насколько позволяет сама сложность вопроса, выяснить, как и почему лингвистика…II
Языковая форма — не единственное, что подлежит анализу: необходимо параллельно рассматривать и функцию языка.
Язык вос-производит действительность. Это следует понимать вполне буквально: действительность* производится заново при посредничестве языка. Тот, кто говорит, своей речью воскрешает событие и свой связанный с ним опыт. Тот, кто слушает, воспринимает сначала речь, а через нее и воспроизводимое событие. Таким образом, ситуация, неотъемлемая от использования языка, есть ситуация' обмена и диалога, и она придает акту речи двойную функцию: ^для говорящего акт речи заново представляет действительность, ;а для слушающего он эту действительность воссоздает. Это и делает язык орудием коммуникации между индивидами.
Здесь сразу же возникают серьезные проблемы, которые мы предоставим решать философам, в частности проблема адекватности сознания — «реальности». Лингвист, со своей стороны, считает, что не может существовать мышления без языка и что, следовательно, познание мира обусловлено способом выражения познания. Язык воспроизводит мир, но подчиняя его при этом своей собственной организации. Он есть логос — речь и разум в единстве, как понимали это древние греки. И он является таковым потому, что язык — это членораздельный язык, заключающийся в совокупности органически упорядоченных частей и формальной классификации предметов и процессов. Следовательно, передаваемое содержание (или, если угодно, «мысль») расчленяется в соответствии с языковой схемой. «Форма» мысли придается ей структурой языка. Й язык ТГсйстеме своих категорий также обнаруживает свою посредническую функцию. Каждый говорящий может выступать в качестве субъекта лишь в противопоставлении другому — партнеру, который владеет тем же самым языком и имеет в своем распоряжении тот же самый набор форм, тот же синтаксис высказывания и тот же способ организации содержания. На основе языковой функции и в силу противопоставления я~ты индивид и общество перестают быть противоречащими терминами и становятся терминами дополнительными.
Именно в языке и через язык индивид и общество взаимно детерминируют друг друга. Человек всегда ощущал, а поэты часто воспевали основополагающее могущество языка, который создает воображаемую реальность, одушевляет неодушевленное, позволяет видеть то, что еще не возникло, восстанавливает то, что исчезло. Поэтому во многих мифологиях, там, где требовалось объяснить, как на заре времен нечто могло возникнуть из ничего, в качестве созидающего принципа мира избирали нематериальную и суверенную сущность — Слово. В самом деле, нет силы более высокой, и, по сути дела, все без исключения могущество человека проистекает из нее. Общество возможно только благодаря языку, и только
благодаря языку возможен индивид. Пробуждение сознания у ребеЫ ка всегда совпадает с овладением языком, который постепенно вводит его в общество как индивида.
Но каков же источник этой таинственной силы, которая заклк
чена в языке? Почему существование и индивида и общества не
ходимо основано на языке? i
Потому что язык представляет собой наивысшую форму способ-j ности, неотъемлемой от самой сущности человека,— способности к символизации.
Под этим мы в самом широком смысле понимаем способность представлять (репрезентировать) объективную действительность с помощью «знака» и понимать «знак» как представителя объективной действительности и, следовательно, способность устанавливать отношение «значения» между какой-то одной и какой-то другой вещью. Рассмотрим сначала эту способность в наиболее общей форме, вне языка. Употребить символ — значит зафиксировать характер-] ную структуру какого-либо объекта и затем уметь идентифици-! ровать ее в различных других множествах объектов. Именно эта! способность свойственна человеку и делает его существом разумным.' Способность к символизации делает возможным формирование понятия как чего-то отличного от конкретного объекта, который вы-; ступает здесь лишь в качестве образца. Она является одновременно ■ принципом абстракции и основой творческой фантазии. Эта символическая в своей сущности репрезентативная способность, лежащая в основании образования понятий, появляется только у человека. У ребенка она пробуждается очень рано, еще до начала речевой деятельности, на заре его сознательной жизни. Но она отсутствует у животного.
Здесь следует все же сказать, что есть одно замечательное исключение: оно касается пчел. По наблюдениям К- фон Фриша, когда пчела-разведчица в своем одиночном полете находит источник пищи, она возвращается в улей, чтобы сообщить о своей находке, и исполняет на сотах особый виляющий танец, описывая определенные фигуры, которые оказалось возможным проанализировать. Выяснилось, что таким образом она указывает другим пчелам, повторяющим за ней ее движения, направление и расстояние до источника пищи. Затем эти пчелы улетают и безошибочно направляются к цели, которая зачастую находится очень далеко от улья. Это очень важное наблюдение заставляет предположить, что пчелы общаются между собой с помощью особой символики и передают настоящие сообщения. Нет ли связи между этой системой коммуникации и столь замечательным функционированием улья? Предполагает ли жизнь социально организованных насекомых определенный уровень символических отношений? Это всего лишь вопрос, но и вопрос этот — уже большой шаг вперед. Как зачарованные, мы стоим в нерешительности перед великой проблемой: не здесь ли впервые сможет человек, преодолев биологический барьер,. загля-£8
" уть во внутреннюю жизнь общества животных и открыть принцип его организации?
Сделав эту оговорку относительно пчел, мы можем более точно показать, где проходит грань, разделяющая человека и животное. Прежде всего, будем четко различать два понятия, которые очень часто смешивают, когда говорят о «языке животных»: сигнал и символ.
Сигнал — это физическое явление, связанное с другим физическим явлением естественным или конвенциональным отношением: молния возвещает о грозе, колокол возвещает об обеде, крик возвещает об опасности. Животное воспринимает сигнал и способно адекватно на него реагировать. Можно научить животное распознавать различные сигналы, то есть научить его связывать два ощущения с помощью сигнала. Это хорошо видно на знаменитых условных рефлексах Павлова. Человек, как и животное, тоже реагирует на сигнал. Но кроме того, он использует символ, который ^щоиов-лен~£ймим человеком. Смысл символа нужно выучить, символ нужно уметь интерпретировать в его значащей функции, а не только воспринимать его как чувственное впечатление, так как символ не имеет естественной связи с тем, что он символизирует. Человек изобретает и понимает символы, животное — нет. Все остальное вытекает из этого. Пренебрежение этим различием приводит ко всякого рода путанице и псевдопроблемам. Часто говорят, что дрессированное животное понимает человеческую речь. На самом же деле животное повинуется слову, поскольку научено узнавать в нем сигнал, но оно Никогда не сумеет интерпретировать его как символ. По той же причине животное выражает свои эмоции, но оно не может их называть. В средствах выражения, существующих у животных, нельзя видеть ни зачатки языка, ни нечто приближающееся к языку. Между сенсорно-моторной функцией и функцией репрезентативной существует порог, преодолеть который смог лишь человек. Ибо человек не был создан дважды, один раз без языка, а другой разе языком. Возникновение homo sapiens из разряда животных могло быть облегчено строением его тела или его нервной организацией, но обязано это появление прежде всего его способности к символической репрезентации, которая является общим источником мышления, языка и общества.
; Способность к символизации лежит в основе мыслительных функций.Мышление — не что иное, как способность создавать представления вещей и оперировать этими представлениями. Оно по яриродесвоей символично *. Символическое преобразование эле-
| у ютпитп Ие ° самого начала символично, поскольку образы, посредством ввемя пп«Г ох°атывает гРУппы вещей, являются их символами, поскольку она все р**я оперирует символами, и вещи, которыми она оперирует,— хотя и кажется, |
^^«Лышление в символах и есть само мышление. Суждение порождает символы. создает врптя адКая мысль. Всякая мысль создает знаки в то самое время, как она ««двегвици. мысль в своем становлении неизбежно приходит к символу, посколь-^»,«Л!.__-_Ование с самог° начала символично, поскольку образы, посредством
ментов действительности или опыта в понятия — это процесс, рез который осуществляется логизирующая способность раз) Мысль не просто отражает мир, она категоризует действительнс и в этой организующей функции она столь тесно соединяется с яз ком, что хочется даже отождествить мышление и язык с этой точ зрения.
В самом деле, способность к химводизации у человека достига своего наивысшего выражения в языке, который является симвс ческим по преимуществу; все другие системы коммуникации — гр фические, жестовые, визуальные и т. д.— производны от язь и предполагают его существование. Но язык — это особая симвс ческая система, организованная в двух планах. С одной сторону язык — физическое явление: он требует посредства голосового парата при своем производстве и посредства слухового аппарат для восприятия. В этом материальном виде он поддается наблюл нию, описанию и регистрации. С другой стороны, язык—^н рйальная структура, передача означаемых, которые замещают яц ления окружающего мира или знание о них их «напоминание!»* Такова двусторонняя сущность языка. Вот почему языковой симвс имеет посреднический характер. Он организует мысль и реализуе ся в специфической форме, он делает внутренний опыт одного лиц доступным другому в членораздельном и репрезентативном выра> нии, а не с помощью такого сигнала, каким является простой дулированный крик; он реализуется в определенном данном язык^ присущем отдельному обществу, а не в общем для всего биологу ческого вида голосовом проявлении.
Язык представляет собой модель структуры отношений в само буквальном и в то же время самом широком смыслеТОн устанавл» вает отношения слов и понятий в потоке речи и тем самым, воспр изводя объекты и ситуации, порождает знаки, отличные от их ма териальных референтов. |Он осуществляет переносы наименован» по аналогии, что мы называем метафорой,— мощный фактор '" гащения понятий. Он связывает суждения в умозаключение и новится орудием логического мышления.
Наконец, язык являет собой самый экономичный образец симв^ лизации. В отличие от других репрезентативных систем он требует ни физических усилий, ни перемещения тела в пространс ве, ни трудоемких операций. Представим себе, какого труда стой; бы изобразить «сотворение мира» в живописных, скульптурнь или иных образах, и сравним это с тем, как та же история воплои на в рассказе, в цепочке звуков голоса, которые исчезают, едв только произнесены и восприняты, но каждая душа восторгает ими, а поколения повторяют их, и всякий раз, как слово разверт
 что она оперирует непосредственно вещами,—по сути только символы. И символы мысль упорядочивает в мир символов, в систему знаков в соответствии с < ношениями и законами» (Н. Delacroix, Le langage et la pensee, стр.
что она оперирует непосредственно вещами,—по сути только символы. И символы мысль упорядочивает в мир символов, в систему знаков в соответствии с < ношениями и законами» (Н. Delacroix, Le langage et la pensee, стр.
вает это событие, мир возникает снова. Никакая сила не сравнится с этой, которая столь малым достигает столь многого.
Существование системы символов раскрывает нам одну из основных, может быть самую глубокую особенность человеческого бытия: нет естественного, непосредственного и прямого отношения Ни между человеком и миром, ни между одним человеком и другим. Необходим посредник — тот символический аппарат, который сделал возможным мышление и язык. За пределами биологической сферы способность к символизации — самая характерная способность человеческого существа.
Остается лишь сделать выводы из этих размышлений. Говорить об отношении человека с природой или об отношении человека с человеком через посредство языка — значит говорить об обществе. И это неслучайное историческое совпадение, а необходимая связь. Ибо язык вообще всегда реализуется в каком-либо отдельном языке, в определенной конкретной языковой структуре, неотделимой от определенного конкретного общества. Нельзя представить себе язык и общество друг без друга. И то и другое есть данное. Но в то же время и то и другое познается человеком, так как он не обладает врожденным знанием о них. Ребенок рождается и развивается в обществе людей. Взрослые, его родители, учат его пользоваться речью. Овладение языком у ребенка идет параллельно с формированием символа и конструированием объекта. Он познает вещи через их имена; он обнаруживает, что у всего есть свое имя и что знание имен дает ему возможность распоряжаться вещами. Он узнает также, что и у него самого есть имя и что с помощью этого имени он общается с окружающими. Так пробуждается в нем осознание социальной среды, в которой он живет и которая будет постепенно формировать его разум через посредство языка.
По мере того как он становится способен ко все более сложным мыслительным операциям, он включается в культуру, которая его окружает. Я называю культурой человеческую среду, все то, что помимо выполнения биологических функций придает человеческой жизни и деятельности форму, смысл и содержание. Культура неотъемлема от человеческого общества, каким бы ни был уровень цивилизации. Она заключается во множестве понятий и предписаний, а также специфических запретов (табу); то, что какая-либо культура запрещает, характеризует ее не в меньшей степени, чем то, что она предписывает. Животный мир не знает запретов. Этот человеческий феномен — культура — целиком символичен. Культура определяется как весьма сложный комплекс представлений, организованных в кодекс отношений и ценностей: традиций, религии, законе», политики, этики, искусства — всего того, чем человек, где ы он ни родился, пропитан до самых глубин своего сознания и что направляет его поведение во всех формах деятельности. Что
, как не мир символов, объединенных в специфическую структуру, которую язык выявляет во внешних формах и передает? Через
язык человек усваивает культуру, упрочивает ее или преобразую И как каждый язык, так и каждая культура использует специ<] ческий аппарат символов, благодаря которому опознается соотв ствующее общество. Разнообразие языков, разнообразие культу! их изменения свидетельствуют о конвенциональной природе сш» лизма, который придает им форму. В конечном счете именно сил устанавливает эту живую связь между человеком, языком и кул турой.
Такова в основных чертах перспектива, которую открывает ременный этап лингвистических исследований. Углубляясь в npif роду языка, вскрывая его связи как с мышлением, так и с поведение человека и основами культуры, эти исследования начинают пролц вать свет на глубинное функционирование сознания в разнообра ных мыслительных операциях. Смежные науки следуют за эти* успехами лингвистики, в свою очередь содействуют им, использу^ лингвистические методы, а зачастую и лингвистическую термине логию. Все это позволяет предвидеть, что такие параллельнь исследования породят новые дисциплины и будут сообща спосс ствовать развитию подлинной науки о культуре, которая заложи фундамент теории символической деятельности человека. Кро того, известно, что формальные описания языков имеют непосре ственное применение при конструировании логических машин, спс собных делать переводы, и наоборот — от теории информации мож| но ожидать некоторой помощи в выяснении вопроса о том, ^ мысль кодируется в языке. В развитии этих исследований и методов отличающих нашу эпоху, мы видим результат постоянно развива| ющейся и все более абстрактной символизации, первоначальная необходимая основа которой лежит в символизме языка. Возрас тающая формализация мышления, быть может, ведет нас к боле глубокому проникновению в реальную действительность. Но не могли бы даже представить себе этих понятий, если бы структура языка не заключала в себе их начальной модели и как бы отдален^ ного их предчувствия.
ГЛАВА И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЩЕЙ ЛИНГВИСТИКЕ
В течение последних десятилетий лингвистика развивалась такими быстрыми темпами и так расширила свою сферу, что даже самый общий обзор проблем, с которыми она имеет дело, разросся бы до размеров самостоятельной работы или свелся бы к сухому перечислению статей и книг. Простое резюме ее достижений заняло бы много страниц, и, однако, существенное, возможно, было бы упущено. Количественный прирост лингвистической продукции таков, что целого тома ежегодной библиографии уже недостаточно. Крупные страны имеют в настоящее время собственные печатные органы, свои издательские серии, а также и свои лингвистические методы. Описательные исследования получили широкое развитие и распространились на все языки: недавно переизданный сводный труд «Языки мира» дает представление как об уже осуществленной работе, так и о той, еще более значительной, которую предстоит выполнить. Множится число лингвистических атласов и словарей. Накопление фактов приводит во всех областях к появлению все более монументальных трудов: четырехтомное описание детской речи У. Ф. Леопольда (W. F. Leopold) и семитомное описание французского языка Дамуретта и Пишона (D amourette et P i с h о n) — пример этого. Стало возможным посвятить отдельный журнал исключительно изучению языков американских индейцев. В Африке, Австралии, Океании применяется анкетирование, что значительно обогащает инвентарь известных лингвистам языковых форм. Наряду с этим последовательно изучается языковое прошлое человечества. Обнаружилось, что целая группа древних языков Малой Азии связана с индоевропейским языковым миром, и это ведет к изменению соответствующей теории. Успешное восстановление протокитайского, общемалайско-полинезийского, ряда прототипов американоиндейских языков позволит, вероятно,
2 Бенвенист 33
создать новые разделы генетической классификации языков. ЦЩ
если бы и можно было рассмотреть все эти исследования боле|
детально, то обзор показал бы, что работа идет весьма неравномер
но: одни авторы продолжают изыскания, которые были бы такими
же и в 1910 году; другие отвергают даже само название «лингвисти|
ка» как устаревшее; третьи посвящают целые тома единственному!
понятию «фонема». Увеличение числа работ отнюдь не выявляет!
а скорее скрывает глубокие сдвиги, которые происходят в методе
лингвистики и умонастроении лингвистов в течение последний
десятилетий, и те противоречия, которые разделяют лингвистику!
сегодня. Когда осознаешь, что поставлено на карту и какие nocij
ледствия современные споры могут иметь также и для других наук|
то возникает мысль, что дискуссии по вопросам метода в лингвис!
тике, может быть, только прелюдия к общему пересмотру ценно-|
стей, который охватит в конечном итоге все науки о человеке!
Вот почему мы остановимся главным образом и не в специальных!
терминах на проблемах, являющихся сейчас центральными для|
общей лингвистики,— на понимании лингвистами своего объекта!
и на направлении, которое принимают их поиски.
Опубликованный в 1933 году редакцией «Journal de Psycho-logie» сборник под названием «Психология языка» («Psychologie du langage») возвестил уже о решительном обновлении теоретических воззрений и установок. Здесь впервые были изложены принципы, которые, подобно принципам «фонологии», широко проникли теперь даже в педагогическую практику. Вместе с тем здесь обнаружились и противоречия, которые в последующие годы привели к перестройке теории, например к разделению синхронии и диахронии, фонетики и фонологии, которое снимается, когда соответствующие термины получают более точное определение. У некоторых независимых теорий выявились точки соприкосновения. Когда, например, Сэпир показал психологическую реальность фонем, он со своей стороны открыл то понятие, которое Трубецкой и Якобсон уже деятельно внедряли в языкознание. Но тогда еще нельзя было предвидеть, что в лингвистике все шире будут появляться исследования, идущие, по крайней мере внешне, против тех целей, которые наука о языке преследовала до сих пор.
Неоднократно подчеркивалось, что отличительной чертой языкознания в течение всего XIX века и в начале XX века был его исключительно исторический характер. История как необходимая перспектива и смена фактов во времени как принцип объяснения, членение языка на изолированные элементы и исследование законов эволюции, присущих каждому из них,— таковы были основные положения лингвистической теории. Признавались, правда, закономерности и совершенно иной природы, как, например, действие аналогии, могущей, как полагали, нарушать регулярность эволюции. Но в обычной научной практике грамматика языка сводилась к описанию происхождения каждого звука и каждой формы. Это 34
было следствием одновременно и эволюционистского духа, которым были проникнуты тогда все науки, и особых условий, в которых зародилось языкознание. Новизна соссюровской точки зрения, одной из тех, которые оказали глубочайшее влияние на лингвистику, заключалась в осознании того, что язык сам по себе лежит вне всякого исторического измерения, что он есть синхрония и структура и что он функционирует лишь в силу своего знакового характера. Этим взглядом отвергается не столько исторический подход, сколько «атомизирование» языка и «механизирование» его истории. Время не есть фактор эволюции языка, оно лишь рамки эволюции. Причины изменения, затрагивающего тот или иной элемент языка, лежат, с одной стороны, в природе элементов, которые составляют язык в каждый данный момент, с другой стороны — в структурных отношениях между этими элементами. Прямолинейная констатация факта изменения и его выражение в виде формулы соответствий уступают место сравнительному анализу двух последовательных состояний и двух различных, характеризующих каждое состояние взаимоотношений элементов. Диахрония, таким образом, оказывается восстановленной в своих законных правах как последовательность синхронии. Уже из этого вытекает первостепенная важность понятия системы и постоянно восстанавливаемой гармонии между всеми элементами языка.
Эти взгляды уже не новы, они ощущаются, в частности, во всем научном творчестве Мейе, и, хотя они не всегда применяются на деле, их не оспаривает уже больше никто. Если бы мы захотели исходя из этого охарактеризовать одним словом направление, в котором эти взгляды, по-видимому, развиваются в лингвистике сейчас, мы могли бы сказать, что они ознаменовали начало лингвистики, понимаемой как наука, в силу ее системности, автономности и тех целей, которые перед ней ставят.
Эта тенденция проявляется прежде всего в отказе от постановки некоторых типов проблем. Никто больше не занимается всерьез вопросом о моногенезе или полигенезе языков, как и, в общей форме, вопросом об абсолютном начале языка. Теперь уже не поддаются так легко, как прежде, соблазну возвести особенности какого-либо языка или типа языков в универсальные свойства языка вообще. Это объясняется тем, что горизонты лингвистики раздвинулись. Все типы языков приобрели равное право представлять человеческий язык. Ничто в прошлой истории, никакая современная форма языка не могут считаться «первоначальными». Изучение наиболее древних засвидетельствованных языков показывает, что они в такой же мере совершенны и не менее сложны, чем языки современные; анализ так называемых примитивных языков обнаруживает У них организацию в высшей степени дифференцированную и упорядоченную. Индоевропейский тип языков отнюдь не представляется больше нормой, но, напротив, является скорее исключением. С еще большим основанием лингвисты отказываются теперь от исследова-
2' 36
ния той или иной избранной категории, обнаруженной у всех языков и долженствующей иллюстрировать якобы сходное предрасположение «человеческого духа», поскольку стало ясно, как трудно описать полностью даже систему одного отдельного языка и насколько рискованны структурные аналогии, установленные с помощью одних и тех же терминов. Следует придавать важнейшее значение этому расширению наших знаний о многообразии языков мира. Лингвисты извлекли из него ряд уроков. Так, первоначально казалось, что условия развития языка не различаются существенно в зависимости от уровней культуры и что при сравнении беспис-менных языков можно применять методы и критерии, оправдавшие себя для языков с письменной традицией. При новом подходе оказалось, что описание некоторых типов языков, в частности американоиндейских, ставит такие проблемы, которые не могут быть разрешены традиционными методами. Следствием этого явилось обновление методов анализа, что рикошетом отразилось и на языках, описанных, казалось бы, раз и навсегда: при описании новыми методами они обнаружили иной облик. Второе следствие: выяснилось, что набор морфологических категорий, каким бы обширным он ни казался, отнюдь не безграничен. Можно поэтому представить себе некоторую логическую классификацию этих категорий, которая показывала бы их соотношение и законы трансформации. Наконец — и здесь мы затрагиваем вопросы, значение которых выходит за пределы лингвистики, — начали осознавать, что «категории мысли» и «законы мышления» в значительной степени лишь отражение организации и дистрибуции категорий языка. Мы мыслим мир таким, каким нам оформил его сначала наш язык. Различия в философии и духовной жизни стоят в неосознаваемой зависимости от классификации, которую осуществляет язык в силу одного того, что он язык и что он знаковое явление. Таковы некоторые проблемы, встающие перед ученым, который знаком с многообразием языковых типов, но, по правде говоря, ни одна из них не исследована еще достаточно глубоко.
Сказать, что лингвистика становится наукой,— значит не только подчеркнуть ее стремление к точности — это свойственно всем наукам. Дело заключается прежде всего в изменении ее отношения к своему объекту, которое можно определить как стремление к его формализации. Эта тенденция возникла под влиянием работ двух лингвистов: Соссюра в Европе и Блумфилда в Америке. Впрочем, их влияние осуществляется столь же различными путями, сколь несходны были книги, от которых оно исходило. Трудно себе представить более разительный контраст, чем различие между двумя трудами: «Курс общей лингвистики» Соссюра (1916)— книга, составленная после смерти автора на основе записей его учеников, совокупность гениальных идей, каждая из которых требует толкования, а некоторые до сих пор вызывают научные споры, она переносит язык в плоскость универсальной семиологии и открывает перспек-
тивы, которые современная философская мысль только начинает ощущать; и «Язык» Блумфилда (1933), ставший настольной книгой американских лингвистов, до конца продуманный и зрелый «text-book» — учебник, примечательный как полным отказом от философии, так и строгостью исследовательских приемов. Хотя Блумфилд и не' упоминает Соссюра, он тем не менее, несомненно, подписался бы под положением Соссюра о том, что «единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя». Этот принцип объясняет тенденции, проявляющиеся в лингвистике повсеместно, хотя он и не говорит еще ничего о причинах, по которым она стремится к автономности, и о целях, которые она при этом преследует.
Несмотря на различия школ, перед теми лингвистами, которые пытаются привести свои научные позиции в систему, возникают сходные проблемы, которые можно сформулировать в виде трех основных вопросов. 1) Какова задача лингвиста, с чем он имеет дело и что будет он описывать под названием языка? Речь идет, таким образом, о самом объекте лингвистики. 2) Как описывать этот объект? Нужно создать приемы, которые позволили бы охватить совокупность характерных черт одного языка в совокупности реально существующих языков и описать их в идентичных терминах. На каком принципе должны быть основаны эти приемы и эти определения? Отсюда видно, какое важное значение приобретает техника лингвистического исследования. 3) По наивному представлению говорящего, как, впрочем, и для лингвиста, функцией языка является «сказать нечто». Что, собственно, представляет собой это «нечто», ради которого приводится в действие язык, и как определить его границы по отношению к самому языку? Возникает, таким образом, проблема значения.
Уже сами эти вопросы говорят о стремлении лингвистов освободиться от опоры (или равнения) на предвзятые принципы или положения смежных наук. Они отвергают все априорные взгляды на язык и создают понятия своей науки, исходя непосредственно из своего объекта. Такой подход должен положить конец зависимости, сознательной или бессознательной, в которой лингвистика находилась по отношению к истории, с одной стороны, и той или иной психологической теории — с другой. Если уж наука о языке должна выбирать себе образец для подражания, то им будут науки математические или дедуктивные, которые представляют свой объект в полностью рациональной форме, сводя его к совокупности объективных свойств, получающих постоянные определения. Из этого следует, что лингвистика будет становиться все более и более «формальной», по крайней мере в том смысле, что язык предстанет как некоторая совокупность всех своих наблюдаемых «форм». Беря за отправную точку естественное языковое выражение, лингвисты путем анализа производят точное расчленение каждого высказывания на составляющие его элементы, затем, с помощью дальнейших
последовательных операций, членение каждого элемента на все более простые единицы. Цель этой процедуры состоит в выделении дистинктивных (различительных) единиц языка, и уже в этом заключается радикальное изменение метода. Если раньше объективность исследователя состояла в глобальном описании, что влекло за собой одновременно принятие графической нормы для письменных языков и скрупулезную фиксацию всех произносительных деталей для устных текстов, то теперь стремятся выделить те элементы, которые являются дистинктивными на всех уровнях анализа. Для того чтобы их установить, а это всегда трудная задача, руководствуются принципом, который гласит, что в языке есть только различия, что язык приводит в действие систему различительных средств. Выделяют только те признаки, которые наделены смысло-различительной функцией, опуская — после того как они определены — те явления, которые представляют собой лишь варианты. Благодаря этому достигается большое упрощение и становится возможным обнаружить внутреннюю организацию и законы взаимодействия этих формальных элементов. Каждая фонема и морфема оказывается существующей относительно каждой другой, будучи одновременно и отличной от всех других и зависимой от них; каждая ограничивает другие и ограничивается ими в свою очередь, взаимное различие и взаимная зависимость с необходимостью предполагают друг друга. Элементы образуют ряды и обнаруживают особый в каждом языке порядок. Это и есть структура, каждая часть которой существует лишь благодаря целому, в свою очередь существующему лишь в совокупности своих составных частей.
Структура — один из важнейших терминов современной линг
вистики, один из тех терминов, которые продолжают сохранять
программное значение. Для тех, кто употребляет этот термин со
знанием дела, а не просто следуя моде, он может означать две раз
ные вещи. В частности, в_^в^юпе_под_стр_у_ктурой понимают целое,
fi и взаш4о^г^си^о^ьмежду частями целого,
ЛШИ^^?¥ШС для большинства аме-
риканских~лингвистов структура — это наблюдаемая расстановка элементов и их способность к взаимосвязи или взаимозамене. Выражение «структурная лингвистика» получает поэтому различную интерпретацию, во всяком случае настолько различную, что операции, которые при этом имеются в виду, приобретают неодинаковый смысл. Лингвист-«блумфилдианец» под названием «структура» будет описывать фактически встретившееся ему в речи явление, которое он будет членить на составляющие элементы и давать определение каждому из этих элементов, исходя из того места, которое этот элемент занимает в составе целого, и того варьирования и взаимозамен, которые допустимы в том же месте речевой цепи./Понятия равновесия системы и тенденций системы, которые Трубецкой добавил к понятию структуры и которые доказали свою плодотвор-
ность, он отвергнет, как запятнанные телеологией. Между тем это
единственный принцип, позволяющий понять развитие языковых
систем. К£ждо^да^ное_срстоян^«язь1ка др,едстав.ляет„собой. прежде
всего результат извшшэго^равновесия междуЛЩТЯМ^с^щтуды,
равновесия, которое, однако, никогда не приводит к полной симмет
рии, возможно потому,310„ас,имметрия лежит в самой основе языка
в силу асимметрии произносат.едь_щх, Органов. Взаимосвязь всех
элементов приводит к тому, что всякое повреждение, нанесенное
в одной точке, нарушает всю систему отношений и влечет за собой
рано или поздно ее перестройку в новую систему. Поэтому диахро
нический анализ состоит в определении двух^порледовательных
структур и устаномении ОЩОМШЩ_ межд^ьщщ, а„хакже,.в опре
делении того, какие части предшествующей ,систе,мь1_подаедышсь
изменению__или_находились под угрозой. .етл.кадсщдао.хавдивалось
решение, осуществившееся в последующей, системе. Благодаря это
му оказывается разрешенным противоречие между синхронией и
диахронией, которое столь горячо отстаивал Соссюр. Эта концеп-1
ция общей структуры дополняется понятием иерархии между эле- |
ме1щщи_структуры. ^Докую иллюстрацию этому мы находим в ис- !
следовании усвоения иуграты звуков языка детьми и больными-
афатиками, проведенном Р. Якобсоном: те звуки, которые ребенок
усваивает в последнюю очередь, афатик утрачивает в первую оче
редь, а те звуки, которые при афазии забываются последними,
оказываются первыми, которые ребенок научается артикулировать,—"
то есть последовательность, в которой звуки исчезают, обратна
той, в которой звуки усваиваются. ,
Как бы то ни было, подобный анализ возможен только тогда, когда лингвист в состоянии полностью наблюдать, контролировать или варьировать по своей воле функционирование описываемого языка. Только живые языки, письменные или бесписьменные, предоставляют достаточно широкие возможности и достаточно надежный материал для проведения такого исследования с исчерпывающей точностью. Предпочтение отдается разговорным~языкам. Некоторые ученые считают это условие необходимым по эмпирическим соображениям. Для других лингвистов, например американских, толчком к пересмотру методов описания, а затем и общей теории послужила прежде всего необходимость записывать и анализировать индейские языки, языки сложные и многообразные. Но постепенно пересмотр принципов распространяется и на описания Древних языков. Появляется даже возможность дать иную интерпретацию, в свете новых теорий, данным, которые были добыты сравнительно-историческим методом. Такие труды, как работы *ЦДх£й£125ича. посвященные реконструкции стадий общеиндоевропейского языка, показывают, чего можно ожидать от подобным образом ориентированного исследования. Признанный специалист в области исторической лингвистики, Ж- Вандриес выступает в защиту и лингвистики «статической», понимаемой как сравнительное
описание средств, предоставляемых различными языками для одних и тех же потребностей выражения.
Понятно теперь, что преобладающим в последние годы типом исследования было системное описание, частичное или полное, того или иного конкретного языка, выполняемое с невиданным ранее вниманием к технике анализа. Лингвист ощущает необходимость обосновывать всю процедуру своего анализа, от начала до конца. Он предлагает аппарат определений с целью узаконить статус, который он находит у каждого из определяемых им элементов, а все операции излагаются эксплицитно, так чтобы они были доступны проверке на всех этапах анализа. Результатом этого явилась коренная перестройка терминологии. Используемые термины настолько специфичны для каждого направления, что начитанный лингвист с первых же строк узнает, к какому именно принадлежит то или иное исследование, а ход рассуждений иной раз становится понятным для представителей того или иного метода лишь тогда, когда они изложат его в своей собственной терминологии. К описанию предъявляются требования эксплицитности и последовательности,
а "также отказа при анализе от использования значения,"с привлечением только формальных критериев. Эти принципы получили широкое распространение особенно в Америке и послужили там поводом для продолжительных дискуссий. В своей книге «Методы в структурной лингвистике» (1951) 3. С. Харрис * свел эти принципы в своего рода кодекс. В этой работе автор подробно, шаг за шагом излагает приемы выделения фонем и морфем на основе формальных
■ признаков их распределения в тексте или речи: дистрибуции, окружения, субституции, взаимодополнительности, сегментации, корреляции и т. д., причем каждая из операций иллюстрируется конкретными задачами, которые автор рассматривает с помощью квазиматематического аппарата графических символов. Думается, что трудно было бы пойти дальше по этому пути. Но удалось ли по крайней мере выработать единый и постоянный метод? Автор готов первым согласиться, что возможны и другие приемы и что некоторые из них были бы даже более экономичны, особенно если до-пустеть_использ£1вание значения. Возникает вопрос: не становится ли самоцелью вся эта демонстрация строгости метода? Но, что еще
- более важно, мы видим, что лингвист занимается, по существу, только речью, которую он молчаливо приравнивает к языку. Это обстоятельство, имеющее принципиальное значение, следует обсудить в связи со своеобразной концепцией структуры, принятой у сторонников этого метода. Схемы дистрибуции, как бы строго они ни были установлены, не образуют структуры, точно так же как ] перечни фонем и морфем, выделенных путем сегментации речевой / цепи, не являются описанием языка. Здесь нам дается, по существу, 1 лишь метод записи и членения материала, применяемый к языку,
 1 Z. S. Harris, Methods in structural linguistics, N. Y., 1951.
1 Z. S. Harris, Methods in structural linguistics, N. Y., 1951.
который представлен рядом устных текстов и семантики которого лингвист, как предполагается, не знает.
Подчеркнем еще раз это обстоятельство, которое даже больше чем особая тщательность исследовательской техники, харак-тер'но для данного метода: принципиально утверждается, что лингвистический анализ, чтобы быть подлинно научным» должен абстрагироваться от.значений и ограничиться исключительно~6п-ределением и дистрибуцией элементов. Требование строгости, предъявляемое к процедуре анализа, с необходимостью приводит к отказу от такого неуловимого, субъективного, не поддающегося классификации элемента, каким является значение, или смысл. Все, что возможно сделать,— это лишь удостовериться, что такое-то высказывание соответствует такой-то объективной ситуации, и, если повторение ситуации вызывает появление того же высказывания, между ними устанавливают корреляцию. Отношение между формой и смыслом сведено, таким образом, к отношению между языковым выражением и ситуацией, в терминах бихевиористской теории, причем выражение может быть одновременно и реакцией и стимулом. Значение фактически сводится к некоторой внешней обусловленности речи. Что касается отношения между языковым выражением и действительностью, то эту проблему предоставляют решать специалистам в области естественных наук. «Мы определили значение (meaning) языковой формы,— говорит Блумфилд,— как ситуацию, в которой говорящий ее произносит, и как реакцию, которую она вызывает у слушающего» («Язык», стр. 142)*. Харрис также настойчиво подчеркивает трудность анализа ситуаций: «В настоящее время не существует никакого метода для измерения социальных ситуаций и для непротиворечивого представления социальных ситуаций как состоящих из элементарных частей, так чтобы языковое высказывание, появляющееся в той или иной социальной ситуации или ей соответствующее, можно было бы расчленить на сегменты, которые соответствовали бы частям ситуации. Мы вообще не можем в настоящее время опереться ни на какое естественное или научно проверяемое членение семантического поля культуры того или иного народа, потому что пока не существует методики подобного исчерпывающего анализа культуры путем разложения на дискретные элементы; напротив, язык является одним из основных источников наших знаний о культуре (или о «мире значений») данного народа и о различиях или членениях, которые там существуют» (цит. соч., стр. 188)уМожно только опасаться, что если этому методу суждено всеобщее применение, то лингвистика никогда уже не сможет сотрудничать с другими науками, изучающими человека и культуру. Сегментация высказывания на дискретные элементы ведет к анализу языка не более, чем сегментация вселенной ведет к созданию теории физического мира.
 * Цит. Щ) изданию: Л. Блумфилд, Язык, М., 1968,
* Цит. Щ) изданию: Л. Блумфилд, Язык, М., 1968,
Формализация частей высказывания таким спосооом угрожает сно* ва привести к атомизации языка, потому что естественный язык представляет собой результат процесса знаковой символизации на нескольких уровнях, а анализ этого процесса еще даже не начат. Наблюдаемый языковой «материал» не есть поэтому первичная данность, которую остается лишь расчленить на составные части, это уже сложное целое, значимости которого возникают либо из индивидуальных свойств каждого элемента, либо из условий их соотношения, либо, наконец, из объективной ситуации. Поэтому возможны различные типы описания и различные типы формализации, но всё они должны с необходимостью исходить из того, что их объект, язык, наделен значением, что именно благодаря этому OH^Hjcrb структура ji что это — основное условие функционирования язь1ка_сЕеди других знаковых систем. Трудно представить себе, что д'ала бы сегментация культуры на дискретные элементы. В культуре, ка_к и в _языке^.мь1-.имеем Х9Щку1шай1Ь,„знаков,. и задача состоит ^-19^к51^§М..93£Ш^лМт:ьмшош&1щя между ними. До сих пор наука о культуре остается решительно и намеренно «наукой о субстанции». Окажется ли возможным выделить в системе культуры формальные структуры, подобные тем, которые Леви-Стросс ввел в системы родства? Будущее покажет. Во всяком случае, очевидна необходимость — для всех наук, оперирующих символическими формами,— изучения_свож1В,„ана.ка. Исследования, начатые Пирсом (Ре i гее), не были продолжены, о чем приходится только сожалеть.Д5едь именно прогресс в изучении знаков может способствовать лучшему пониманию сложных семантических процессов в языке, а возможно также, и за пределами языка. И поскольку_ф„унк-ционидование М3№в-~*яыяеэжт,^££ошахеаь#ыых как бессодна_-
психологи, социологи и лингвисты
^yj^ajj , ц
могли бы с пользой объединить свои усилия в этой работе.
| Црль ной идеей в ней, говоря в общих чертах, выступает идея соссю-ровского «знака», выражение и содержание которого (соответствующие «означающему» и «означаемому» у Соссюра) понимаются как два соотносительных плана, имеющих каждый «форму» и «субстанцию». Здесь происходит сближение лшгвисгакидигюгикой, В связи с этим намечается известное схождение наук, еще плохо знакомых друг с другом, В то время как те лингвисты, которые |
Кроме направления, которое мы охарактеризовали выше, сле
дует упомянуть и другие. Получили распространение и иные тео
рии, не менее последовательные. В психолингвистике Г. Гийома
(G. G u i I I a u m e) языковая структура понимается как имма
нентная по отношению к реальному языку, и эта упорядоченная
структура обнаруживается на основе выражающих ее фактов
употребления. Теория, которую под названием «глоссематика»
стремится утвердить Л. Ельмслев в Дании, представляет собой
скорее построение .логической!^модели».языка..и_свод определений,
чЖ языковой действительности. Централь-
б
стремятся к строгости анализа, стараются заимствовать приемы и даже аппарат символической логики для своих формальных операций, оказывается, что и логики со своей стороны обратились к языковому «значению» и вслед за Расселом и Витгенштейном все больше интересуются проблемой языка. Их пути скорее пересекаются, чем совпадают, и логики, занимающиеся языком, не всегда могут завязать диалог £^шнгви£1ами. По правде говоря, лингвисты, которые хотели бы сделать изучение языка наукой, предпочитают об- / раздаться к математике, они ищут скорее приемы записи материала, j чем аксиоматический метод, и слишком легко поддаются соблазну ■ некоторых новых исследовательских методик, например кибер- ' нетики или теории информации. Полезно было бы подумать о том, как применить в лингвистике некоторые из операций символической логики. Логики исследуют условия истинности, которым должны удовлетворять высказывания, составляющие основу науки. Они отвергают «обычный» язык, как двусмысленный, неточный и неустойчивый, и стремятся создать полностью символический язык. Но предмет изучения лингвистов — как раз этот «обычный язык», его они рассматривают как данный и структуру его исследуют во всей полноте. Для них представляло бы интерес попытаться использовать в анализе языковых классов всех порядков, которые они определяют, приемы, разработанные логикой множеств, для того чтобы выяснить, возможно ли установить между этими классами отношения, поддающиеся логической символизации. Тогда можно было бы получить хоть какое-то представление о типе логики, которая лежит в основе организации языка; стало бы ясно, одинаковы.ли.по„лрироде,„типь1_дхнощенийх щойсхвенные обычному языку, и типы отношений,. ха$штШЗШШ£, я,з.щ„ла,учного рпи-Здия, или, иными словами, как взаимно соотносятся ^зьпоюступ-дГов и язык^эазума. Недостаточно просто констатировать, что один поддается записи в системе логических символов, а другой не поддается или не поддается сразу и прямо; ведь факт остается фактом: тот и другой ведут свое происхождение из одного и того же источника и в основе их лежат в точности те же самые элементы. Эту проблему ставит сам язык.
Подобные размышления весьма далеко на первый взгляд уводят нас от проблем, которыми лингвистика занималась несколько десятилетий назад. Но в действительности эти проблемы вечны, хотя вплотную к ним подошли только сейчас. Напротив, в том, что касается контактов, которые лингвисты стремились тогда установить с другими областями науки, мы сталкиваемся сегодня с такими трудностями, о которых они и не подозревали. Мейе писал в 1906 году: «Предстоит выяснить, какой социальной структуре соответст- вует данная языковая структура и как, в общей форме, изменения ] социальной структуры отражаются в изменениях структуры языка». ( Несмотря на несколько попыток, например Соммерфельта, эта I программа не была осуществлена, потому что по мере того, как
пытались последовательно сопоставлять язык и общество, стали обнаруживаться разногласия. Выяснилось, что соответствие языка и общества постоянно нарушается из-за диффузии как в языке, так и в социальной структуре,— диффузии, в силу которой общества, характеризующиеся одной и той же культурой, могут обслуживаться гетерогенными языками, в то время как языки очень близкие могут быть формой выражения совершенно несхожих культур. Развивая эти наблюдения, лингвисты столкнулись с неизбежно возникающими проблемами анализа—языка, .с одной стороны, культуры— с другой,— а также с проблемами «значения», общими для того и другого, короче говоря, с теми самыми проблемами, которые были названы выше. Из этого не следует, что программа исследований, указанная Мейе, невыполнима. Задача состоит скорее в том, чтобы jiafira общую основу языка и общества, принципы, управляющиё~этимй"■даумя""сг^уТаураШГопределив сначала единицы, которые в языке и обществе соответственно поддаются сопоставлению, и отсюда попытаться вывести взаимозависимость.
Можно, конечно, подойти к этому вопросу более просто, но при этом, по существу, происходит подмена проблем; так, например, можно изучать следы воздействия культуры на язык. На практике, однако, в этом случае занимаются только словарным составом. Речь, следовательно, идет уже не о языке, но о составе его словаря. Впрочем, это материал весьма богатый и, несмотря на первое впечатление, довольно мало изученный. Мы располагаем теперь обширными лексиконами, которые послужат источником для многих работ,— таковы сравнительный словарь Ю. Покорного (J. Р о к о г п у) или, например, словарь понятий К. Д. Бака (CD. Buck) для индоевропейских языков. Другая столь же многообещающая область — изучение исторических изменений зна-.аен^ий. Значительные исследования были посвящены «семантике» словаря в теоретическом, а также социальном и историческом аспекте (Стерн, Ульман). Трудность состоит в том, чтобы из все возрастающей массы эмпирических фактов выделить некоторые константы, которые позволили бы построить теорию лексического значения. Эти факты как бы постоянно бросают вызов всякой возможности предвидения. С другой стороны, воздействие «верований» на языковое выражение также ставит многочисленные вопросы; некоторые из них были освещены: значение языкового табу (Мейе, Хаверс [Haver s]), варьирование языковых форм для передачи отношения говорящего к тому, о чем он говорит (Сэпир), иерархия выражений при различных обрядах,— все это обнаруживает сложное взаимодействие социального поведения и психологической обусловленности в употреблении языка.
Здесь мы подходим к проблемам «стиля» во всех его пониманиях. В течение последних лет стилистическим приемам были посвящены работы, связанные с разными направлениями, но равно значительные,— работы Балли, Крессо (С г е s s о t), Марузо,
Шпитцера, Фосслера. В той мере, в какой автор подобного исследования прибегает, сознательно или бессознательно, одновременно к эстетическим, лингвистическим и психологическим критериям, он затрагивает одновременно и структуру языка, и его способность служить средством воздействия, и реакции, которые он вызывает. Хотя критерии эти еще слишком часто носят «импрессионистический» характер, тем не менее наблюдается стремление уточнить метод, применяемый для изучения и эмоционального содержания и лежащего в его основе намерения, а также для изучения языка, который служит средством выражения этого эмо- , ционального содержания. Путь к этому лежит через изучение порядка слов, качества звуков, ритма и просодии, а кроме того, лексических и грамматических средств языка. Здесь также широко используют данные психологии, не только потому, что в анализе постоянно подразумеваются эмоциональные оценки, но и потому, что психология дает методики для их объективации: тесты на запоминание, исследования в области цветового слуха, в области тембра гласных, и т. д. Все это область символизма, который мало-помалу начинают расшифровывать.
Таким образом, можно констатировать повсеместно стремление подчинить лингвистику строгим методам, изгнать из нее всякую приблизительность суждений, субъективные построения, философский априоризм. Лингвистические исследования становятся все более трудными в силу самих этих требований, а также и потому, что лингвисты увидели, что язык — это сложный комплекс специфических свойств и описывать его нужно методами, которые еще предстоит создать. Свойства языка настолько своеобразны, что можно, по существу, говорить о наличии у языка не одной, а нескольких сгрукхур, каждая из которых могла бы послужить основанием для возникновения целостной лингвистики. Осознание этого факта, быть может, поможет разобраться в существующих противоречиях. Язык характеризуется прежде всего тем, что имеет всегда два плана: означающее и означаемое. Исследование уже только этого конституирующего свойства языка и отношений регулярности или дисгармонии, которые оно порождает, напряжений в системе" и изменений, которые из этого проистекают в любом конкретном языке, могло бы послужить основанием для особой лингвистики. Но язык — также феномен человеческий. В человеке он связующее зйено жизни психической и жизни общественно-культурной и в то же время орудие их взаимодействия. Но основе этой триады терминов — язык, культура, человеческая личность — могла бы быть создана другая лингвистика. Язык можно также рассматривать как существующий целиком в совокупности членораздельных звукоиспуеканий, которые составляют материал строго объективного изучения. Язык будет здесь объектом исчерпывающего описания, которое заключается в сегментации непосредственно наблюдаемых фактов. Можно, напротив, считать язык, реализованный в
регистрируемых высказываниях, необязательной манифестацией некоторой скрытой внутренней структуры. В таком случае предметом лингвистики будет обнаружение и исследование этого недоступного непосредственному наблюдению механизма. Язык допус-* кает также представление в виде «структуры игр», как набор «фигур», образованных имманентными отношениями постоянных элементов. При таком подходе лингвистика будет теорией возможных комбинаций этих элементов и теорией управляющих этими комбинациями универсальных законов. Можно представить себе как возможное исследование языка в качестве отрасли общей семиотики, покрывающей одновременно область психической жизни и жизни общественной. Тогда лингвист должен будет определить специфическую природу языковых знаков с помощью строгой формализации и особого метаязыка.
Этот перечень не исчерпывающий, он и не может быть таким. На свет могут появиться и другие концепции. Мы хотели здесь лишь показать, что за дискуссиями и провозглашениями того или иного принципа, краткий обзор которых мы дали, часто и не для всех лингвистов осознанно стоит заранее сделанный выбор — общие взгляды, определяющие отношение к объекту и природе метода. Не исключено, что все эти различные теории будут сосуществовать — хотя в той или иной точке их развития они неизбежно должны сомкнуться — вплоть до того момента, когда утвердится статус лингвистики как науки,— науки не об эмпирических фактах, но науки об отношениях и дедуктивных выводах, вновь обретающей единство своего внутреннего плана в бесконечном разнообразии языковых явлений.
ГЛАВА III СОССЮР ПОЛВЕКА СПУСТЯ*
Фердинанд де Соссюр скончался 22 февраля 1913 года. Через 60 лет в тот же день мы собрались здесь, в его городе, в его университете, чтобы торжественно почтить его память. Личность этого человека обретает теперь подлинные черты и предстает перед нами в своем истинном величии. Ныне нет лингвиста, который не был бы хоть чем-то ему обязан. Нет такой общей теории, которая не упоминала бы его имени. Его с ранних лет уединенную жизнь окружает некоторая тайна. Мы будем говорить здесь о его творчестве. Такому творчеству подобает лишь хвалебная речь, которая объяснит его истоки и его всеобщее влияние.
Сегодня мы воспринимаем Соссюра совсем иначе, чем его современники. Целая сторона его творчества, без сомнения самая важная, стала известна только после его смерти и мало-помалу преобразила всю науку о языке. Что же внес Соссюр в лингвистику своего времени и в чем проявилось его воздействие на лингвистику наших дней?
Для ответа на этот вопрос можно было бы, разбирая одно его сочинение за другим, анализировать, сравнивать, обсуждать. Подобный критический разбор, несомненно, нужен. Превосходное капитальное исследование г-на Годеля 1 уже внесло существенный вклад в эту работу. Но у нас иная цель. Оставляя другим
 * Эта глава воспроизводит основное содержание лекции, прочитанной по приглашению Женевского университета в Женеве 22 февраля 1963 года в ознаменование пятидесятой годовщины со дня смерти Фердинанда де Соссюра. Несколько вводных фраз личного характера здесь автором опущены. Не следует, забывать, что доклад был сделан не для лингвистов, а в расчете на более широкую публику, и это обстоятельство исключало всякую дискуссию и даже всякие слишком специальные выражения.— Прим. автора.
* Эта глава воспроизводит основное содержание лекции, прочитанной по приглашению Женевского университета в Женеве 22 февраля 1963 года в ознаменование пятидесятой годовщины со дня смерти Фердинанда де Соссюра. Несколько вводных фраз личного характера здесь автором опущены. Не следует, забывать, что доклад был сделан не для лингвистов, а в расчете на более широкую публику, и это обстоятельство исключало всякую дискуссию и даже всякие слишком специальные выражения.— Прим. автора.
1 R. Go del, Les Sources manuscrites du Cours de linguist ique generate de Ferdinand de Saussure, Geneve — Paris, 1957,
детальное описание его трудов, мы попытаемся выделить в них главное — тот принцип, который составляет их внутреннюю необходимость и даже их сущность.
У каждой творческой личности есть какая-то скрытая постоянная потребность, которая и служит этому человеку опорой и поглощает его, которая направляет его мысли, указует ему задачу, поддерживает его в неудачах и не дает ему покоя, если порой он старается от нее освободиться. Ее не всегда сразу видишь в разнообразных порывах соссюровской мысли, идущей иной раз ощупью. Но, однажды распознанная, эта потребность объясняет смысл его устремлений и позволяет определить его место как по отношению к предшественникам, так и по отношению к нам.
Соссюр — прежде всего и всегда человек, ищущий первоос-^говы^В своих размышлениях он инстинктивно стремится открыть основные признаки, которые определяют все разнообразие эмпирических данных. В том, что касается языка, он предчувствовал такие его особенности, которые нельзя обнаружить более нигде. С чем бы его ни сравнивать, язык всегда предстает как нечто отличное. Но в чем его отличия? Рассматривая язык как речевую деятельность, в которой соединяется столько факторов — биологических, физических и психических, индивидуальных и социальных, исторических, эстетических, прагматических,— он задается вопросом: где же, собственно, сам язык?
Этому вопросу можно придать более точную форму, сведя его к двум следующим проблемам, которые мы ставим в центр соссюровской доктрины:
1. Каковы те главные данные, на которых будет основываться
лингвистика, и как мы можем установить их?
2. Какова природа языковых явлений и какой тип отношений
лежит в основе их связи?
Мы находим эти проблемы у Соссюра уже с момента его вступления в науку, в работе «Мемуар о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках» *, опубликованной, когда автору был двадцать один год, и составляющей до сих пор одну из ступеней его славы. Гениальный дебютант в науке берется здесь за одну из труднейших проблем сравнительной грамматики, за вопрос, который, говоря точнее, еще не существовал и который он первым сформулировал в собственных терминах. Почему в столь обширной и многообещающей области он выбрал такую трудную тему? Перечитаем еще раз его предисловие. Он говорит здесь, что в его намерения входило изучить многочисленные формы индоевропейского а, но он пришел к необходимости рассмотреть «систему гласных как целое». Это приводит его к анализу «ряда проблем фонетики и морфологии, одни из которых только ждут своего решения, а некото-
 * Memoire sur le systeme primitif des voyelles dans Ies langues indo-europeen-nes», 1878, в: «Memoires de la Societe de linguistique de Paris», 1879,
* Memoire sur le systeme primitif des voyelles dans Ies langues indo-europeen-nes», 1878, в: «Memoires de la Societe de linguistique de Paris», 1879,
пые еще даже не были поставлены». И как бы извиняясь за «вторжение в наименее разработанные области индоевропейского языкознания», он добавляет весьма знаменательные слова: «И если мы все же отваживаемся на это, хотя заранее убеждены, что наша, неопытность будет не раз заводить нас в тупик, то это потому, что для всякого, кто предпринимает подобные исследования, браться за такие вопросы — не дерзость, как часто говорят, а необходимость; это первая школа, которую надо пройти, потому что дело здесь касается не трансцендентных рассуждений, а поисков первичных элементов, без которых все зыбко, все произвольно и недостоверно».
Эти строки могли бы послужить эпиграфом ко всему его творчеству. Они содержат программу его будущих исследований, предвещают их направление и цель. До конца своей жизни — и чем дальше углублялась его мысль, тем все более упорно и, можно сказать, мучительно — он шел к разысканию «первичных данных», которые образуют язык, шел, постепенно отдаляясь от науки своего времени, в которой он видел лишь «произвольность и недостоверность», к эпохе, когда индоевропеистика, обеспечив себе надежные методы, с возрастающим успехом стала осуществлять сравнительно-исторические исследования.
Речь идет о получении именно первичных данных, даже тогда (хотелось бы сказать: в особенности тогда), когда их требуется восстанавливать, восходя от некоторого исторического состояния языка к состоянию доисторическому. Иначе нельзя разумно обосновать историческое становление, ибо если есть история, то это история чего-то. Что изменяется, а что остается? Как можем мы ■' утверждать о каком-либо языковом факте, рассматриваемом в разные моменты его эволюции, что это один и тот. же факт? В чем заключается это тождество, и если лингвист полагает его данным между двумя объектами, то как мы его определим? Необходима система определений. Нужно сформулировать логические отношения, ус-; танавливаемые нами между исходными данными, признаками или/ позициями, с которых мы воспринимаем эти данные. Следовательно, доходить до первооснов — это единственное средство (но средство надежное) для того, чтобы истолковать конкретный и случайный факт. Чтобы уловить явление в его исторической.„конкретности, чтобы понять необходимость случдшюго, мы должны поместить каждый элемент в сеть определяющих его отношений и эксплицитно
О
постулировать,
| ко |
ур, ^^^.^W^^^^^^^y^^e^i торое мы ему дали. Такова очевидность, открывшаяся Соссюру с самого начала его научной деятельности, и всей его жизни будет ,j мало, чтобы ввести ее в лингвистическую теорию. л Но даже если бы он уже тогда мог сформулировать то, чему учил позднее, он только увеличил бы непонимание и враждебность, которыми были встречены его первые опыты. Маститые ученые того времени, уверенные в своей правоте, не желали внять его
строгим доводам, и уже самая трудность восприятия «Мемуара» была достаточна для того, чтобы оттолкнуть большинство. Соссюр мог бы пасть духом. Необходимо было новое поколение, чтобы постепенно его идеи получили признание. Счастливая судьба привела его тогда в Париж. Он вновь обрел некоторую уверенность в себе благодаря тому исключительному стечению обстоятельств, когда ему удалось одновременно найти и доброжелательную опеку со стороны Бреаля и встретиться с группой молодых лингвистов, таких, как А. Мейе и М. Граммон, на которых его учение произвело глубокое впечатление. С этого времени начинается новая фаза сравнительной грамматики, когда Соссюр, завершая создание своей доктрины, одновременно излагает ее некоторым из тех лингвистов, кому в дальнейшем суждено было ее развить. Вот почему — не только для того, чтобы показать личное влияние Соссюра, но-и для того, чтобы оценить преемственность идей,— мы хотим напомнить слова посвящения, сделанного Мейе своему учителю Соссюру в 1903 г. в книге «Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков»: «По случаю 25-летия со времени выхода в свет «Мемуара...» (1878—1903)». И если бы это зависело только от Мейе, это событие было бы отмечено еще более: из одного неизданного письма Соссюра мы узнаем, что Мейе хотел сначала написать: «К годовщине опубликования...», от чего Соссюр его дружески отговорил.
Но даже в 1903 г., по прошествии двадцати пяти лет, нельзя было еще понять всего, что с такой проницательной интуицией предвосхищено в «Мемуаре» 1878 года. Приведем один разительный пример. Соссюр подметил, что индоевропейская вокалическая система имела-,несколько_ а. С точки зрения чистого знания различные индоевропейские а — объекты столь же важные, как элементарные частицы в ядерной физике. Одно из ..этих а обладало особым свой-гтппм ft"nfrro шбя HHaTjYJTPM n.F_g,.frf> гласных собрата. С подобных наблюдений — отсутствие равновесия в системе, возмущения в поле, янрмяль^op ^mgPH^^jipTTHTp"^^' н£""ря;Г нячиня лигт, под-линные открытия. Соссюр охарактеризовал это а двумя специфическими чертами. С одной стороны, оно не родственно ни е, ни о; с другой — оно является сонантическим коэффициентом, то есть способно играть ту же двоякую роль, вокалическую и консонанти-ческую, как носовые_и_плавные, и сочетается с гласными. Отметим, что Соссюр рассуждает оёГэтом а как о фонеме, а не как о каком-то звуке или какой-то артикуляции. Он не говорит нам ни о том, как произносилась эта фонема, к какому звуку могла она приближаться в определенной наблюдаемой системе, ни даже о том, была ли она гласной или согласной. Звуковая субстанция & расчет не принимается. Перед нами алгебраическая единица, член системы, то, что позднее он назовет различительной и оппозитивной сущностью. Нельзя сказать, чтобы даже через 25 лет после того, как это наблюдение было сделано, оно пробудило большой интерес, Потребова-
лось еще 25 лет, чтобы эта мысль заставила признать себя при обстоятельствах, которые не смогло бы себе представить самое смелое воображение. В 1927 г. в только что дешифрованном тогда мертвом хеттском языке Е. Курилович обнаружил в звуке, обозначаемом на письме h, ту самую, фонему, которую за 50 лет до этого Соссюр определил как индоевропейскую сонантическую фонему. Это замечательное открытие заставило признать реальной теоретическую единицу, постулированную на основе умозаключений в 1878 г.
Естественно, фонетическая реализация этой единицы как h в хеттском языке внесла в споры новый момент, но другого порядка. Начиная с этого времени наметилось два направления исследований. Для одних лингвистов задача заключалась прежде всего в том, чтобы, развивая дальше теоретические изыскания, вскрыть, в частности в области индоевропейской морфологии, следы и комбинации этого «сонантического коэффициента». Ныне известно, что эта фонема не единична, что она является одним из представителей целого класса неравномерно наличествующих в исторических языках фонем, называемых «ларингалами». Другие лингвисты, напротив, делают упор на дескриптивный анализ этих звуков; они пытаются определить их реальный фонетический характер, а поскольку количество этих ларингалов все еще составляет предмет дискуссии, то их интерпретации из года в год умножаются, что дает основания для новых споров. Сегодня эта проблема находится в центре индоевропеистики; она в равной мере увлекает и диахронистов и дескрип-тивистов. Все это свидетельствует о плодотворности предвидений Соссюра, которые сбылись лишь в последние десятилетия, через полвека после того, как были высказаны. Даже те современные лингвисты, которые не читали «Мемуара», обязаны ему многим.
Вот так, с печатью гения, совсем молодым вступил Соссюр на научное поприще. Его с симпатией принимают и в Высшей школе, где он сразу находит учеников, которых восхищают и воодушевляют его идеи, и в Лингвистическом обществе, где вскоре Бреаль возлагает на него обязанности второго секретаря; перед ним открывается легкая карьера, и все, кажется, возвещает много дальнейших открытий. Нельзя сказать, что ожидания были обмануты. Напомним хотя бы его фундаментальные статьи:_о ба.лтийс,кой..днтонации, которые демонстрируют глубину его анализа и остаются образцом для тех, кто предпринимает подобные исследования. Тем не менее остается фактом, который был замечен и о котором сожалели те, кому приходилось говорить о Соссюре в те годы, что вскоре в его научной деятельности наступает спад. Время от времени, и все реже, он публикует одну-другую статью, и то делает это лишь по настоянию друзей. Вернувшись в Женеву, чтобы занять университетскую кафедру, он почти совсем перестает писать. И однако, он никогда не переставал работать. Что же удерживало его от публикаций? Теперь мы начинаем понимать это. За этим молчанием скрывается Драма, которая, по-видимому, была мучительной, которая обостря-
лась с годами, которая так никогда и не нашла выхода. С одной стороны, она связана с обстоятельствами личного порядка, на которые могли бы пролить некоторый свет свидетельства его близких и друзей. Но главным образом это была драма мысли. В той самой мере, как Соссюр постепенно утверждался в своей собственной. истине, он отдалялся от своей эпохи, ибо эта истина заставляла его отвергать все, что писалось и говорилось тогда о языке. Но, колеблясь перед этим радикальным пересмотром идей, который ощущался им как необходимый, он не мог решиться опубликовать хотя бы самую маленькую заметку, пока фундаментально не обоснованы сами исходные положения теории. Какой глубины достигало в нем это противоречие и как иногда он почти готов был пасть духом, показывает единственный в своем роде документ — отрывок из письма к Мейе (от 4 января 1894 г.), в котором, касаясь своих этюдов о балтийской интонации, он сообщает ему доверительно: «Но мне порядком опротивело все это, как и вообще трудность написать десять строчек о языке с точки зрения здравого смысла. С давних пор занимаясь в особенности логической классификацией языковых явлений, классификацией точек зрения, с которых мы их рассматриваем, я все отчетливее вижу и необъятность того труда, какой был бы нужен, чтобы показать лингвисту, что он делает, сводя каждую операцию к ее предустановленной категории, и в то же время тщетность всего, что можно в конце концов сделать в лингвистике.
Ведь при анализе в конечном счете только живописная сторона того или иного языка, та сторона, которая отличает его от всех других как принадлежащий определенному народу и имеющий определенные истоки, эта почти этнографическая сторона и сохраняет для.меня интерес: и вот как раз для меня больше не существует удовольствия заниматься ею, предаваясь без всякой задней мысли ее изучению и получая наслаждение от рассмотрения определенного факта в его определенной среде.
Полная нелепость современной терминологии, необходимость реформировать ее, а для этого показать, что за объект представляет собой язык, взятый вообще, беспрестанно портят мне это наслаждение от моих исторических занятий, хотя мое самое заветное желание — не быть вынужденным заниматься языком, взятым вообще.
Против моего желания это кончится, вероятно, книгой, в которой я без энтузиазма и страсти объясню, почему среди употребляемых лингвистических терминов нет ни одного, в котором я нашел бы хоть какой-то смысл. И только после этого, признаюсь, я смог бы возобновить свою работу с того места, на котором ее оставил.
Вот каково настроение, быть может глупое, которое объяснило бы Дюво, почему, например, я более года тянул с публикацией одной статьи, не представлявшей в отношении материала никакой трудности, да так и не сумел избегнуть выражений, одиоз-152
ных с точки зрения логики, потому что для этого нужна была бы решительная и радикальная реформа» 2.
Мы видим, в какую борьбу вступил Соссюр. Чем глубже исследует он природу языка, тем меньше могут удовлетворить его установившиеся понятия. Он хочет отвлечься тогда изысканиями в области этнолингвистической типологии, но его снова и снова влечет к его первой всепоглощающей идее. Быть может, именно для того, чтобы от нее избавиться, позднее он отдается неисчерпаемой теме—поискам анаграмм... Но мы видим сегодня, какой была ставка в этой игре: драме Соссюра суждено было преобразить лингвистику. Препятствия, на которые наталкивается его мысль, вынудят его выработать новые точки зрения, и они упорядочат представления о фактах языка.
С этого момента Соссюру стало ясно, что изучение какого-либо конкретного языка неизбежно приводит к изучению языка вообще. Мы думаем, что можем постичь языковой факт непосредственно, как некую объективную реальность. На самом же деле мы постигаем его лишь на основе некоторой точки зрения, которую прежде надо определить. ЭДы доджны перестать видеть в языке простой объект, который существует сам по себе и который можно охватить сразу целиком. Первая задача — показать лингвисту, «что он делает», какие предварительные операции он бессознательно производит, когда приступает к рассмотрению языковых данных.
Ничто так не отдаляло его от его эпохи, как эта озабоченность логической строгостью. Лингвисты были тогда поглощены напряженными историческими • исследованиями, введением в научный обиход сравнительных материалов и установлением этимологии. Эти грандиозные предприятия, хотя и весьма полезные, не оставляли места теоретическим интересам. Соссюр со .своими, проблемами. . был одинок. Огромность дела, которое нужно было свершить, радикальный характер необходимой реформы могли порой поколебать его, иногда приводили в уныние. Но он не отступал. Он мечтает о "книге, в которой выскажет свои взгляды и предпримет полное преобразование теории.
Этой книге не суждено было родиться, но она существует у него в набросках, в форме подготовительных заметок, замечаний, черновиков; и когда он, выполняя университетские обязанности, должен будет читать курс общей лингвистики, он снова примется за те же темы и доведет их до той степени разработки, в какой мы их знаем.
В самом деле, у зрелого лингвиста 1910 года мы вновь находим то же стремление, которое воодушевляло начинающего ученого
 * Этот текст приведен у Р. Годеля (цит. соч., стр. 31), но по неверной копии, которую нужно было исправить в нескольких местах. Здесь отрывок воспроизведен по оригиналу. См.: Е. Benveniste, Lettres de Ferdinand de Saussure u Antoine Meillet, в: «Cahiers Ferdinand de Saussure», 21 (1964), стр. 92—135.
* Этот текст приведен у Р. Годеля (цит. соч., стр. 31), но по неверной копии, которую нужно было исправить в нескольких местах. Здесь отрывок воспроизведен по оригиналу. См.: Е. Benveniste, Lettres de Ferdinand de Saussure u Antoine Meillet, в: «Cahiers Ferdinand de Saussure», 21 (1964), стр. 92—135.
в 1880 году: обосновать начала лингвистики. Он отвергает привычные рамки и понятия, которые в ходу повсюду, они кажутся ему! чуждыми собственной природе языка. Какова эта природа? СЫ разъясняет это кратко в нескольких приводимых ниже заметках, фрагментах размышлений, которых он не может ни прекратить, ни] довести до конца:
«В других случаях прежде даны „вещи, объедты, которые затем! человек волен рассматривать с различных точек зрения. Здесь же.< сначала даны точки зрения, истинные или_лржные. но исключи-! тельно точки зрения, с помощью которых вторично создаются :> объекты. Эти вторично созданные вещи соответствуют" реальный:,' если отправная точка истинна, или не соответствуют им в случае« противного; но в обоих этих случаях никакая вещь, никакой объект! ни на одно мгновение не даны сами по себе; даже когда речь идет о самом что ни на есть материальном явлении, которое на первый взгляд самым очевидным образом определенно само по себе, как, например, некоторая последовательность звуков голоса» 8.
«Вот наше лингвистическое кредо: в других областях можно S говорить о вещах с той или другой точки зрения, будучи уверенными, что мы найдем твердую почву для этого в самом объекте. В лингвистике мы в принципе отрицаем, будто имеются данные объекты, будто имеются вещи, которые продолжают существовать, когда мы переходим от идей одного порядка к идеям другого порядка, и будто можно, следовательно, допустить рассмотрение «вещей» в нескольких аспектах, как если бы эти вещи были даны сами по себе» 4.
Эти размышления объясняют, почему Соссюр считал столь важным показать . лингвисту, «что он делает». Он хотел заставить понять то заблуждение, в котором пребывала лингвистика, с тех пор как она изучает язык как вещь, как живой организм или как некий материал, подлежащий анализу с помощью технических средств, или как свободную и непрерывную творческую деятельность человеческого воображения. Нужно вернуться к первоосновам, открыть язык как. объект, который не „может.Jjbnb сравним__ни_с чем.
Что же это за объект, который Соссюр воздвиг, сметя все при
нятые и установившиеся понятия? Здесь мы подошли к главному
в соссюровской концепции — к принципу, который предполагает
интуитивное глобальное понимание языка, глобальное и потому,
что в нем целиком содержится его теория языка, и потому, что
оно целиком охватывает свой объект, /©тот принцип заключается
в том, что язык, с какой бы точки зрения он ни изучался, всегда
есть_^бъект двойственный, сжвддщди из _двух сторон, из которых
одна существует лишь в силу й
Это, как мне кажется, центральный пункт учения Соссюра, тот принцип, из которого вытекает весь аппарат понятий и различий, образующий опубликованный позднее «Курс». В самом деле, все в языке необходимо определять в двояких терминах: на всем' лежит печать onnp3jjraBHorg дуализма:
— дуализм артикуляторно-акустический;
_ дуализм звука и значения;
_ дуализм индивида и общества;
— дуализм языка и речи;
._ дуализм материального и несубстанциального;
__ дуализм «ассоциативного» (парадигматики) и синтагматики;
__ дуализм тождества и противопоставления;
— дуализм синхронического и диахронического, и т. д.
И, подчеркнем еще раз, ни один из противопоставленных таким образом терминов не имеет значимости сам по себе и не соотно- сится с субстанциальной реальностью; значимость каждого из них является следствием его противопоставленности другому.
«Конечный закон языка ~Ш1~ЩШёысЖЪЩрмуШрЪватъ~ в таком виде: никогда нет ничего, что могло бы заключаться в каком-либо одном термине, в силу прямого следствия из того, что у языковых символов нет связи с тем, что они призваны обозначать; в силу того, следовательно, что а неспособно ничего обозначить без помощи Ь, и это последнее— без помощи а, иначе говоря, или оба они имеют яначиюсть__только .благодаря,. взаимному„.р.азличию, или ни один из них ничего не значит даже в какой-то своей части (я имею в виду «корень» и т. п.), кроме как на основе этого переплетения вечно негативных различий» 5.
«Поскольку язык ни в одном из своих проявлений не выявляет субстанцию, а лишь комбинированное или изолированное действие физиологических, психических, умственных факторов и поскольку, несмотря на это, все наши определения, вся наша терминология, все наши способы выражения сформировались при невольном допущении, что существует субстанция языка, нельзя не признать, чхо важнейшая задача-теории ~.языка_—„ рдзо-бр,аться,- .в_ том, ках- -об£холх_дела~х_л!шш^
определениями. Для нас невозможно согласиться, что ученые имеют ripalo возводить теорию без этой работы с определениями, хотя такой удобный способ, по-видимому, и удовлетворял лингвистов вплоть до нынешнего времени» в.
Разумеется, можно взять в качестве объекта лингвистического анализа какой-нибудь материальный факт, например отрезок высказывания, с которым не связывалось бы никакого значения, и рассматривать его как простой результат функционирования речевого аппарата; можно даже взять изолированный гласный.

 8 «Cahiers Ferdinand de Saussure», 12 (1954), стр. 67 и 58. 4 Там же, стр. 58.
8 «Cahiers Ferdinand de Saussure», 12 (1954), стр. 67 и 58. 4 Там же, стр. 58.
? «Cahiers F. de Saussure», 12 (1954), стр. 63. 6 Там же, стр, 55—56.
Б4
Но было бы иллюзией полагать, что мы имеем здесь субстанцию: ведь только сяомошыо„одерации абстрагирования и обобщения мы поможем вычленить подобный объект изучения. Соссюр настаивал на том", '"что" единственно точка зрения создает эту субстанцию. Все аспекты языка, которые мы считаем непосредственно данными, являются результатом бессознательно проделываемых нами логических .рдераций. Осознаем же это. Откроем глаза на ту истину, что нет ни одного аспекта языка, который был бы дан помимо j других, который можно было бы поставить над другими как исход-/ ный и главный. Отсюда следует такой вывод:
«По мере того как мы углубляемся в материал, данный нам для • лингвистического изучения, мы все более убеждаемся в той истине, .которая — бесполезно закрывать на это глаза — заставляет глу-|боко задуматься: связь, которую мы устанавливаем между вещами, 1в данной области существует до самих вещей и служит их определению» 7.
...... Это кажущееся парадоксальным положение способно удивить
еще и теперь. Некоторые лингвисты упрекают Соссюра за то, что он любит подчеркивать парадоксывфункционировании языка. Но язык и есть как раз самое парадоксальное в мире, и жаль тех, кто этого не^видит. Чем дальше, тем больше будет чувствоваться контраст между единством как категорией нашего восприятия объектов и двойственностью, модель которой язык навязывает нашему мышлению. Чем дальше мы будем проникать в механизм значения, тем лучше будем видеть, что вещи имеют значение не в силу их субстанциального бытия^ а в силу отличающих их_от других вещей того" же класса формальных признаков, выявлять которые нам ТГ" надлежит.
Из этих положений и вытекает то учение, которое ученики Соссюра оформили и опубликовали. Теперь скрупулезные комментаторы стремятся восстановить точное содержание лекций Соссюра с помощью всех тех материалов, которые они смогли найти. Благодаря их стараниям у нас будет критическое издание «Курса общей лингвистики», которое не только даст нам верное представление об этом учении, передававшемся в устной форме, но и позволит со всей строгостью установить соссюровскую терминологию.
Это учение в том или ином отношении питает всю теоретическую лингвистику нашего времени. Ее воздействие усиливается в результате слияния соссюровских идей с идеями других теоретиков. Так, в России Бодуэн де Куртенэ и его ученик Крушевский независимо от Соссюра предложили в то время новую концепцию фонемы. Они различали лингвистическую функцию фонемы и ее артикуляторную реализацию. Их учение, хотя и в меньшем масштабе, соответствовало соссюровскому различению языка и речи и придавало фонеме дифференциальную значимость. Это был за-
родыш того, что позднее развилось в новую дисциплину — фонологию, теорию различительных функций фонем, теорию их структурных отношений. Ее основатели,' Н. Трубецкой и Р. Якобсон, прямо указывали на Соссюра и Бодуэна де Куртенэ как на своих предшественников.
Таким образом, структуральная тенденция, наметившаяся с 1928 г. и затем выдвинувшаяся на первый план, берет свое начало от Соссюра. Хотя он никогда не употреблял в теоретическом смысле термин «структура» (который, впрочем, став знаменем весьма различных течений, в конце концов лишился всякого точного содержания), для нас очевидна связь с Соссюром всех тех; кто ищет в отношениях между фонемами общую модель структуры языковых
систем.
* Полезно, пожалуй, в этой связи вспомнить об одной из структуральных школ, национальный характер которой наиболее ярко выражен,— об американской школе, постольку, поскольку она заявила о своей приверженности идеям Блумфилда. Не все знают, что Блумфилд написал хвалебный отзыв о «Курсе общей лингвистики»; в конце своей рецензии, ставя в заслугу Соссюру то, что он ввел различение языка и речи, Блумфилд говорит: «Он дал нам теоретическую основу науки о человеческой речи» 8 . При всем своеобразии своего дальнейшего пути американская лингвистика сохраняет связь с Соссюром.
Как все плодотворные идеи, соссюровская концепция языка порождала следствия, которые были замечены не сразу. Даже целая сторона его- учения в течение длительного времени почти не находила применения. Это касается трактовки языка как системы знаков и разложения знака на, означающее и означаемое. Здесь содержался новый принцип — принцип двустороннего единства. В последние годы понятие знака стало обсуждаться лингвистами: до какой степени две стороны знака соответствуют друг другу, как это единство сохраняется или распадается в диахронии, и т. д. Предстоит обсудить еще многие пункты теории. В частности, для всех ли уровней пригодно понятие знака в качестве принципа анализа. Мы указывали в другом месте, что предложение, как таковое, не допускает сегментации на единицы типа знаков.
Но здесь мы хотим отметить важность самого этого принципа, согласно которому единица языка — знак. Отсюда следует, что язык — семиотическая система. «Задача лингвиста,— говорит Соссюр,— определить, что делает язык особой системой во множестве семиологических явлений... Для нас лингвистическая проблема есть прежде всего проблема семиологическая»9. Теперь же мы видим, как этот принцип, выйдя за рамки лингвистических дисциплин, проникает в науки о человеке, которые начинают осознавать
 7 «Cahiers F. de Saussure», 12 (1954), стр. 57.
7 «Cahiers F. de Saussure», 12 (1954), стр. 57.
8 «Modern Language Journal», 8 (1924), стр. 319.
" F. de Saussure, Cours de linguistique generale, 1-е изд., стр. 34 и 35.
свою семиотическую природу. И при этом понятие языка вовсе не! растворяется в понятии общества, напротив, само общество начи-* нает рассматриваться как «язык». Социологи задаются вопросом, не следует ли рассматривать определенные социальные структуры или, в другом плане, те сложные высказывания, какими являются мифы, как некие означающие, означаемые которых предстоит найти. Эти новаторские исследования дают основание думать, что присущая языку знаковая природа есть общее свойство всей совокупности социальных феноменов, которые составляют культуру. Нам кажется, что следует установить фундаментальное различие между явлениями двух разных порядков: с одной стороны, физическими и биологическими данными, обладающими «простой» природой (какова бы ни была степень их сложности), потому что они целиком лежат в той области, в которой они проявляются, а все их структуры формируются и развиваются по уровням, последовательно достигаемым в системе одних и тех же отношений, и с другой стороны — явлениями, присущими человеческой среде, которые характеризуются тем, что их никогда нельзя принять за простые данные и нельзя определить в рамках их собственной природы; их всегда следует рассматривать как двойственные, поскольку они соотносятся с другой вещью, каков бы ни был их «референт». Факт культуры является таковым лишь постольку, поскольку он отсылает к какой-то другой вещи. Когда Hayjia о щшахщае,,оформится, она, вероятно, будет основываться на этом главном принципе и разрабатывать свои собственные двусторонние сущности, отправляясь от той их модели, какую дал Соссюр для двусторонних сущностей языка, хотя и не обязательно во всем с ней сообразуясь. Никакая гуманитарная наука не избегнет этих раздумий о своем объекте и своем месте внутри общей науки о культуре, ибо. человек 4юждаехся„ не.в природной среде, а в среде определенной культуры.
Причудлива судьба идей, и кажется иногда, что они живут . своей собственной жизнью, утверждая или опровергая своего творца или во всем величии воссоздавая его облик. Поразителен контраст, который представляет преходящая жизнь Соссюра по сравнению со счастливой судьбой его идей. Одинокий в своих размышлениях в течение всей почти жизни, не соглашаясь учить тому, что считал ложным или лишь видимостью истины, чувствуя, что все надо переделать, и все меньше желая переделывать, и наконец, после многочисленных попыток уйти с этого пути и не уйдя от мучительных открытий истины, он сообщает нескольким слушателям свои идеи о природе языка, идеи, никогда не казавшиеся ему достаточно зрелыми для публикации. Он умер в 1913 году, мало кому известный, кроме узкого круга учеников и нескольких друзей, уже почти забытый современниками. Мейе в прекрасной, посвященной ему тогда заметке сожалеет, что эта жизнь окончилась незавершенным трудом: «По прошествии более чем 30 лет
идеи, которые высказал Фердинанд де Соссюр в своей первой работе, не потеряли актуальности. И тем не менее его ученики сознают, что в лингвистике своего времени он далеко не занял места, которое соответствовало бы его гениальному дарованию» 10. Мейе заканчивал словами глубокого сожаления: «Он создал самую превосходную книгу по сравнительной грамматике из всех, какие были написаны, посеял идеи и возвел прочные теории, воспитал многочисленных учеников — и все же не осуществил всего, предначертанного ему судьбой» ".
Через три года после смерти Соссюра вышел в свет «Курс общей лингвистики», составленный Балли и Сеше по конспектам студентов. В 1916 году среди грохота орудий кого могло заинтересовать какое-то сочинение по языкознанию? Как никогда справедливы оказались слова Ницше о том, что великие события приходят на голубиных лапках.
Что видим мы сегодня, через 50 лет после смерти Соссюра, когда нас отделяет от него два поколения? .Лингвистика стала фундаментальной наукой среди наук о человеке и обществе, одной из самых активных как в теоретических изысканиях, так и в развитии метода. И эта обновленная лингвистика берет свое начало от Соссюра, именно в учении Соссюра она осознала себя как наука и обрекла свое единство. Роль Соссюра как зачинателя признана всеми течениями, существующими в современной лингвистике, всеми школами, на которые она делится. Искра, подхваченная несколькими учениками, засияла великим светом, и в озаренной им картине мы ощущаем присутствие Соссюра.
Мы говорим теперь, что Соссюр принадлежит истории европейской мысли. Провозвестник теорий, которые в течение 50 лет преобразили науку о языке, он пролил яркий свет на высшую и самую загадочную способность человека и в то же время, введя в науку и философию понятие «знака» как двусторонней единицы, внес вклад в формализацию метода в науке об обществе и культуре и в создание общей семиологии.
Окидывая взглядом истекшие полстолетия, мы можем сказать, что Соссюр выполнил свое предназначение. Его земная жизнь окончилась, но его идеи получили такое широкое признание, какое он вряд ли мог себе представить, и эта посмертная судьба стала его второй жизнью, которая теперь сливается с нашей.
 10 A. Meillet, Linguistique historique et linguistique generate, II, Paris,
10 A. Meillet, Linguistique historique et linguistique generate, II, Paris,
1936 стр. 174.
11 Там же, стр.183.
Г Л А В А IV ПОНЯТИЕ СТРУКТУРЫ В ЛИНГВИСТИКЕ
За последние двадцать лет, с тех пор как термин «структура» приобрел теоретический и в некотором роде программный смысл, он получил широкое распространение в лингвистике. Однако важнейшим понятием, которое определенным образом характеризует лингвистику, стал не столько сам термин структура, как образованное от него прилагательное структурный или структуральный. А оно быстро вызвало появление терминов структурализм и структуралист. Так возник целый комплекс названий 1, которые теперь и другие науки заимствуют из лингвистики, вкладывая в них свое собственное содержание 2. Сегодня, листая любой лингвистический журнал, обязательно встретишь один из этих терминов, часто в самом заглавии работы. Нетрудно видеть, что такому их распространению отчасти способствует желание быть «совре-. менным» и что за некоторыми декларациями «структуралистов», скрываются работы сомнительной новизны и ценности. Но цель данной статьи не в разоблачении злоупотреблений этим термином, а в разъяснении его употребления. Речь идет не о том, чтобы предписывать структуральной лингвистике ее сферу и ее границы, а о том, чтобы выяснить, каким потребностям отвечал и какой смысл имел термин структура у тех лингвистов, которые первыми применили его в точном значении 8.
 1 Однако ни один из этих терминов еще не фигурирует в словаре Ж- Марузо
1 Однако ни один из этих терминов еще не фигурирует в словаре Ж- Марузо
(J. Marouzeau, Lexiquedela terminologie linguistique, 3*ed., Paris, 1951. Рус
ский перевод: «Словарь лингвистических терминов», М., 1960). См. также истори
ческий, впрочем слишком общий, обзор Дж. Р. Фёрса (J. R. Firth, Structural
Linguistics, «Transactions of the Philological Society», 1955, стр. 83—103).
2 Но термины структурировать, структурирование в лингвистике не при
вились.
3 Мы рассмотрим здесь только работы на французском языке; это тем более
необходимо подчеркнуть, что указанная терминология стала ныне интер-
Принцип «структуры» как объекта исследования выдвинула в самом конце 20-х годов небольшая группа лингвистов, выступивших тем самым против господствовавшей тогда исключительно исторической точки зрения на язык и против такого языкознания, которое расчленяло язык на изолированные элементы и занималось изучением их исторических преобразований. Принято считать, что истоки этого течения связаны с учением Фердинанда де Сос-сюра. в том виде, как оно было обобщено его женевскими учениками и опубликовано под заглавием «Курс общей лингвистики» 4. Соссюра по праву называют предтечей современного структурализма 6. И он действительно является таковым — во всем, кроме самого термина. При описании этого идейного течения нельзя подходить к вопросу упрощенно и следует подчеркнуть, что Соссюр никогда не употреблял слова «структура» в каком бы то ни было смысле. Для него самым существенным было понятие системы. Новизну его учения составляет именно идея о том, что язык образует систему, из этой идеи вытекают далеко идущие следствия, которые в течение долгого времени постепенно осознавались и развивались лингвистами. «Курс» представляет язык именно как систему, и эти формулировки следует напомнить: «Язык есть система, которая подчиняется только своему собственному порядку» (стр. 43); «Язык — это система произвольных знаков» (стр. 106); «Язык — это система, все части которой можно и должно рас- I сматривать в их синхроническом единстве» (стр. 124). Соссюр в особенности утверждает примат системы по отношению к составляющим ее элементам: «Большое заблуждение рассматривать слово просто как соединение какого-то звучания с каким-то понятием. Определять слово подобным образом — значит изолировать его от системы, часть которой оно составляет; это означало бы, что, отправляясь от отдельных слов, можно построить систему как их сумму, тогда как на самом деле, ндоборот*.следует.„исходить из--сложного единства, чтобы путем анализа дойти^ до составляющих ^его элементов» (стр. Г57у7ТТослёдняя~фра2Га содержит в зародыше всю суть «структуральной» концепции. Но Соссюр во всех своих рассуждениях оперирует понятием системы.
 национальной, но покрывает не одни и те же понятия в литературе на разных языках. (См. стр. 65 в конце этой главы.) Мы также не будем принимать в расчет неспециальное употребление термина «структура» у некоторых лингвистов, например у Д. Вандриеса (J. Vendryes, Le langage, 1923, стр. 361, 408: «Грамматическая структура», Русский перевод: «Язык», М., 1937, стр. 313).
национальной, но покрывает не одни и те же понятия в литературе на разных языках. (См. стр. 65 в конце этой главы.) Мы также не будем принимать в расчет неспециальное употребление термина «структура» у некоторых лингвистов, например у Д. Вандриеса (J. Vendryes, Le langage, 1923, стр. 361, 408: «Грамматическая структура», Русский перевод: «Язык», М., 1937, стр. 313).
4 Напомним, что эта книга, вышедшая в свет в 1916 году, является посмертной публикацией. Здесь она цитируется по 4-му изданию, Париж, 1949. О происхождении данной редакции книги см. R. Go del, Les Sources manuscrites du Cows de linguistique generate de F. de Saussure, Geneve, 1957.
«Предтеча пражской фонологии и современного структурализма» (В. Malm-Derg, Saussure et la phonetique moderne, «Cahiers F. de Saussure», XII, 1954, стр. 17). См. также A. J. Greimas, L'actualite du saussurisme, «Le francais moderne», 1956, стр, 191 и ел.
Это понятие было знакомо парижским ученикам Соссюра задолго до появления «Курса общей лингвистики». Его нескольк раз употребил Мейе, не преминув связать его с теорией свое учителя, о котором говорил, что «на протяжении всей своей жизн он всегда стремился установить систему в тех языках, которы он исследовал» 7. Говоря, что «каждый язык представляет собой строго упорядоченную систему, где все взаимообусловлено» (о tout se tient) s, Мейе подчеркивает заслугу Соссюра, показавше это на примере индоевропейского вокализма. К этой мысли M возвращается снова и снова: «Всегда неправомерно объясня отдельный факт вне системы данного языка в целом» 9; «Яз (представляет собой сложную систему средств выражения, где все ^взаимообусловлено...» 10. Граммон также отдает дань уважений Соссюру за то, что он показал, «что каждый язык образует систему, в которой все взаимообусловлено, в которой факты и явления определяют друг друга и потому не могут быть ни изолированными, ни противоречащими друг другу» а. Рассматривая вопрос о «фо-= нетических законах», он утверждает: «Изолированного фонетиче-ского изменения не существует... Совокупность артикуляций
б систему, в которой все взаимо-
й И
обусловлено, все находится в"тесной взаимосвязи. Из этого сле-1 дует, что если в какой-то части системы возникает изменение, достаточно велика вероятность, что оно отразится на всей системе в целом, поскольку для последней сохранение целостности естыЦ непременное условие» 12.
Таким образом, понимание языка как системы было давно уже1! усвоено теми, кто воспринял теорию Соссюра, сначала на мате-{ риале сравнительной грамматики, затем — общей лингвистики 1S.| Если к этому добавить два других соссюровских принципа, а| именно, что язык есть фррм_а, ^jje субстанция, и .что единицы языка! можно шpeдeлш'ь_JroлмoшЧJe^eз^иx,Q^;нoJцeния, то тем самым мы*; укажем основные положения той доктрины, которая несколько! лет спустя привела к появлению понятия структуры языковых» систем.
Впервые эти взгляды были высказаны в изложенной по-фран-Ц цузски программе по исследованию фонематических систем, кото-,|
 6 Соссюр (1857—1913) преподавал в Высшей школе (l'Ecole des Hautes Etudes) в Париже с 1881 по 1891 г.
6 Соссюр (1857—1913) преподавал в Высшей школе (l'Ecole des Hautes Etudes) в Париже с 1881 по 1891 г.
* A. Meillet, Linguistique historique et lingulstique generate, II, Paris,. 1936, стр. 222.
8 Там же, стр. 158.
8 «Linguistique historique et linguistique generate», I, Paris, 1921, стр. П.
10 Там же, стр. 16.
11 М. Grammont, Traite de phonetique, Paris, 1933, стр. 153.
12 Там же, стр. 167.
18 На идеи Соссюра опирается и Г. Гийом в своей статье: Q. Guillaume, La langue est-elle ou n est-elle pas un systeme?, «Cahiers de linguistique structural* de rUniversite de Quebec», I (1952).
рую три русских лингвиста — Р. Якобсон, С. Карцевский и Н. Трубецкой— представили 1-му Международному конгрессу лингвистов в Гааге в 1928 г.14. Эти ученые-новаторы заявили, что своими предшественниками они считают Соссюра и Бодуэна де Куртенэ. Но их взгляды приняли вполне самостоятельное развитие и в 1929 г. были изложены (на французском языке) в опубликованных в Праге тезисах к I Съезду славистов 16. Эти тезисы без личного авторства, ставшие настоящим манифестом, положили начало деятельности Пражского лингвистического кружка. В тезисах и появляется термин структура, содержание которого можно иллюстрировать несколькими примерами. В заглавии сказано: «Проблемы метода в связи с пониманием языка как системы», а в подзаголовке: «^..сравнение структурное и сравнение гедедщеское». Выдвигается требование «метода, позволяющего открыть законы структурной организации языковых систем и законы их эволюции»16. Понятие «структура» тесно связывается с понятием «отношение» внутри системы: «Физическое содержание этих фонологических элементов не столь существенно, как их взаимные отношения в системе {структурный принцип фонологической системы)» 17. Отсюда выводится следующее правило метода: «Характеризовать фонологическую систему следует... обязательно определяя отношения между вышеуказанными фонемами, т. е. намечая схему структуры в рассматриваемом языке» 18. Эти принципы пригодны для исследования любой стороны языка, в том числе и для «лексических категорий, представляющих собой систему, объем которой, ее точное определение и внутреннюю структуру (взаимоотношения ее элементов) нужно выявлять для каждого языка в отдельности» 19. «Нельзя определить место какого-либо слова в лексической системе, не исследовав структуру данной системы» 20. Термин «структура» употребляется и в некоторых других статьях чешских лингвистов (Матезиус, Гавранек), напечатанных на французском языке в том же сборнике, что и тезисы 21. Отметим, что в тех из приведенных
 14 «Actes du 1-er Congres international de Linguistes», 1928, стр. 36—39, 86.
14 «Actes du 1-er Congres international de Linguistes», 1928, стр. 36—39, 86.
15 «Travaux du Cercle Hnguistique de Prague», I, Prague, 1929.
16 Там же, стр. 8.
17 Там же, стр. 10.
18 Там же, стр. 10—11.
19 Там же, стр. 12.
2° Там же, стр. 26.
Поскольку названные выше лингвисты активно участвовали в работе Пражского лингвистического кружка (между прочим, и по инициативе В. Матезиуса), это направление в языкознании часто называют Пражской школой. Для исследования его истории одним из важнейших источников служит собрание выпусков урудов Пражского лингвистического кружка» — «Travaux du Cercle linguistique ae Prague». См., в частности: R. Jakobson, La scuola linguistica di Praga, «La ом! i 2*' ХП (1933)- CTP- 633—641; его же, Die Arbeit der sogenannten „Prager jKnuie «Bulletin du Cercle linguistique de Copenhague», III, (1938), стр. 6—8; ВИе К Франц- изДанию «Основ фонологии» Н. С. Трубецкого, Paris, 1949,
—лл V11.
нами цитат, где определения сформулированы наиболее полно, «структура» понимается как «структура^системы». Именно в таком смысле этот термин употребляет несколько позже Н. С. Трубецкой в статье о фонологии, написанной по-французски 22. «Определить фонему — значит указать ее место в фонологической системе, а это можно сделать", только приняв во внимание структуру этой _£В£гешл.7. "Фонология, будучи по природе универсальной, при изучении структуры данной системы отправляется от этой системы как от органического целого» 23. Из этого следует, что можно и должно сопоставлять различные системы: «Применяя принципы фонологии к большому количеству совершенно различных языков с целью выявить их фонологические системы и исследуя структуру этих систем, сразу можно заметить, что одни комбинации корре-1->- ляций равно встречаются в совершенно несхожих языках, тогда как другие не существуют ни в одном. В этом и проявляются законы структуры фонологических систем...» 24 «Фонологическая система представляет собой не механическую сумму отдельных фонем, а некую органическую целостность, членами которой являются фонемы и структура которой подчиняется определенным законам» 26. В этом отношении развитие фонологии находится в соответствии с развитием естественных наук: «Современная фонология отличается прежде всего своим последовательно структурным характером и систематическим универсализмом, эпоха же, в которую мы живем, характеризуется свойственной всем научным дисциплинам тенденцией к замене атомистического подхода^ структуральным, ^"индивидуализма — универсализмом (разумеется, в философском смысле этих терминов). Эта тенденция наблюдается и в физике, и в химии, и в биологии, и в психологии, и в экономической науке, и т. д. Следовательно, современная фонология — не изолированная наука. Она составляет часть широкого научного течения» 26.
Итак, речь идет о том, что трактовать язык как систему — значит анализировать era структуру. Поскольку каждая система состоит из единиц, взаимно обусловливающих друг друга, она отличается от других систем внутренними отношениями между, этими единицами, что и составляет ее структуру 27. Одни комбинации встречаются чаще, другие реже, существуют, наконец, и такие ком-
22 N. Troubetzkoy, La phonologie actueile, «Psychologie du langage», Pa
ris, 1933, стр. 227—246.
23 Там же, стр. 233.
24 Там же, стр. 243.
26 Там же, стр. 245.
28 Там же, стр. 245—246.
27 Эти два термина — «структура» и «система» — трактуются по-другому в
статье А. Мирам-беля (A. Mirambel, Structure et dualisme de systeme en grec mo-
derne, «Journal de Psychologie», 1952, стр. 30 и ел.). Еще иначе понимает их
В. С. Аллен (W. S. Allen, Structure and System in the Abaza Verbal Complex,
«Transactions of the Philological Society», 1956, стр. 127—176).
бинации, которые теоретически возможны, но никогда не реализуются. Исследовать язык (или каждую часть языка: фонетику, морфологию и т. д.) с целью обнаружить и описать структуру, организующую его в определенную систему, значит принять «структуралистскую» точку зрения 28.
Идеи первых фонологов, опиравшиеся на точное описание самых разнообразных фонологических систем, за короткое время завоевали большое число сторонников за пределами Пражского лингвистического кружка, так что стало возможным основать в 1939 г. в Копенгагене журнал «Acta Linguistica», который имел подзаголовок «Revue internationale de linguistique structurale». В написанной по-французски вступительной статье датский лингвист Вигго Брёндаль обосновывал принятую журналом ориентацию той важной ролью, которую понятие «структура» приобрело в языкознании. При этом он ссылался на определение структуры у Лаланда, «чтобы в противоположность простой комбинации элементов обозначить этим термином некую целостность, образованную взаимосвязанными явлениями, каждое из которых зависит от других и может быть.тем, чем оно является, только в своих отношениях с ними» 2в. Он указывает также на параллелизм структуральной лингвистики и «гештальт»-психологии, ссылаясь на данное Клапаредом (С 1 а р а г ё d е) определение «гештальт-теории»30: «Эта концепция заключается в том, чтобы рассматривать явления некоторой области не просто как сумму элементов, которые прежде всего необходимо выделить и подвергнуть анализу, а как некоторые совокупности (Zusammenhange), представляющие собой автономные, внутренне связанные единства, подчиняющиеся своим собственным законам. Отсюда следует, что способ бытия каждого элемента зависит от структуры целого и от законов, которые им управляют* 31.
В 1944 г. Луи Ельмслев, возглавивший журнал «Acta Linguistica» после кончины В. Брёндаля, заново определял область структурной лингвистики, указывая: «Под структурной лингвистикой мы подразумеваем комплекс исследований, опирающихся на гипотезу, согласно которой научно правомерным является описание языка как в своей сущности автономного единства внутренних ' зависимостей, или, выражая это в одном слове, как некоторой структуры... Последовательный анализ этой сущности позволяет выделять такие части, которые взаимно обусловливают друг друга
 28 Философский аспект этой точки зрения в связи с исследованием языка
28 Философский аспект этой точки зрения в связи с исследованием языка
рассмотрел Э. Кассирер (Ernst Cassirer, Structuralism in Modern Linguistics,
«Word», I, 1945, стр. 99 и ел.). Об отношении структурной лингвистики к другим
гуманитарным наукам см. A. G. Haudricourt, Methode scientifique et linguisti
que structurale, «L'Annee Sociologique», 1959, стр. 31—48.
29 Lalande, Vocabulaire de philosophie, III, s. v. Structure.
80 Там же, III, s. v. Forme.
81 V. Brondal, «Acta Linguistica», I (1939), стр. 2—10. Эта статья перепеча
тана в его книге «Essais de Linguistique generale», Copenhague, 1943, стр. 90 и ел.
•* Беывенист 65
L
и каждая из которых зависит от некоторых других и без этих других не была бы доступна ни восприятию, ни определению. Структурная лингвистика, таким образом, сводит свой объект к некоторой сетке зависимостей, рассматривая языковые факты как существующие в силу их отношений друг к другу» 82.
Так появились в лингвистике слова «структура» и «структурный» в качестве специальных терминов.
Ныне же развитие лингвистических исследований 33 привело к столь по-разному толкуемым разновидностям «структурализма», что один из сторонников этой доктрины прямо заявляет, что «под обманчивым общим названием «структурализм» объединяются школы, весьма различные по своему духу и тенденциям... Широкое /употребление некоторых терминов, таких, как «фонема» и даже «структура», часто способствует лишь маскировке глубоких расхождений» 34.
Одно из этих различий, и, б«з сомнения, самое показательное, можно констатировать между пониманием термина «структура» в американской лингвистике и определениями этого термина, приведенными здесь 36.
Мы ограничились здесь рассмотрением того, как употребляется термин «структура» в европейской лингвистической литературе на французском языке, и, подводя итог, наметим минимум признаков, необходимых для определения этого понятия. Основной принцип — это то, что язык представляет собой систему, все части которой связаны отношением общности и взаимной- зависимости. Эта система организует свои единицы, то есть отдельные знаки, взаимно дифференцирующиеся и отграничивающиеся друг от друга. Структурная лингвистика ставит своей задачей, исходя из примата системы по отношению к ее элементам, выявлять структуру этой системы через отношения межд; элементами как в речевойцепи, так и в парадигмах форм; она демонстрирует органический характер испытываемых языком изменений.
ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИИ
33 См. их общий обзор в нашей стлъе «Новые тенденции в общей лингвисти ке», «Journal de Psychologies, 1954, стр. 130 и ел. (см. II главу настоящей… 34 A. Martinet, Economie des chmgements phonetiques, Berne, 1955, стр. 11… 35 Интересное сопоставление точекзрения проведено А. Мартине (A. Marti net, Structural Linguistics, «Anthropology…«4
ставление о реальном предмете и имеет в виду немотивированность, отсутствие необходимости в связи знака с обозначаемой вещью. Свидетельство этого смешения можно видеть в следующей фразе, где я подчеркиваю интересующее нас место: «Если бы дело обстояло иначе, то понятие значимости утратило бы кое-что в своем характере, так как включало бы некоторый навязанный извне элемент». В этом умозаключении осью отношения как раз и считается «навязанный извне элемент», т. е. объективная реальность. Но если рассматривать знак в самом себе, а значит, как носитель значимости, произвольность непременно оказывается исключенной. Последнее утверждение таково, что в нем наиболее отчетливо видно и его опровержение, ибо хотя и справедливо, что значимости остаются целиком «относительными», но дело в том, чтобы выяснить, как и по отношению к чему они относительны. Итак, устанавливаем следующее: значимость есть элемент знака; если взятый сам по себе знак не произволен, что, надеемся, мы показали, то отсюда следует, что «относительный» характер значимости не может зависеть от «произвольной» природы знака. Поскольку соответствие знака реальности следует исключить из рассмотрения, у нас еще больше оснований расценивать значимость только как атрибут формы, а не субстанции. Следовательно, утверждение, что значимости «относительны», означает, что такой характер они имеют по отношению друг к другу. А это ли не доказательство их необходимости? Здесь мы имеем дело уже не с изолированным знаком, а с языком как системой знаков, и никто столь ясно, как Соссюр, не осознал и не описал системной организации языка. Говорить о системе — значит говорить о расположении и соответствии частей в структуре, доминирующей над своими элементами и обусловливающей их. Все в ней настолько необходимо, что изменения как целого, так и частей взаимно обусловлены. Относительность значимостей является лучшим свидетельством того, что они находятся в тесной зависимости одна от другой в синхронном состоянии системы, постоянно пребывающей под угрозой нарушения и постоянно восстанавливаемой. Дело в том, что все значимости суть значимости в силу противопоставления друг другу и определяются только на основе их различия. Будучи противопоставлены, они удерживаются в отношении необходимой обусловленности. По логике вещей необходимость подразумевает оппозицию, так как оппозиция есть форма выражения необходимости. Если язык представляет собой не случайный конгломерат туманных понятий и произносимых наобум звуков, то именно потому, .что его структуре, как всякой структуре, внутренне присуща необходимость.
Следовательно, присущая языку случайность проявляется в наименовании как звуковом символе реальности и затрагивает отношение этого символа к реальности. Но первичный элемент системы — знак — содержит означающее и означаемое, соедине-
L
 ние между которыми следует признать необходимым, поскольку,
ние между которыми следует признать необходимым, поскольку,
существуя друг через друга, они совпадают в одной субстанции.
Понимаемый таким образом абсолютный характер языкового знака
требует в свою очередь диалектической необходимости постоян
ного противопоставления значимостей и составляет структурный
принцип языка. Лучшим свидетельством плодотворности какой-
либо доктрины и является, быть может, ее способность породить
противоречие, которое служит ее дальнейшему развитию. Вос
станавливая подлинную природу знака в его системной обусловлен
ности, мы, уже после Соссюра, утверждаем строгость соссюровской
мысли, ,
ГЛАВА VII
КОММУНИКАЦИЯ В МИРЕ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК
Иначе обстоит дело у пчел, во всяком случае, здесь этот вопрос отныне мог бы быть поставлен. Все говорит за то —и этот факт замечен очень давно,—… 4 БенвсшзстПО
состоянии»), перфект; Jtoielv («делать»), активный залог; naa%eiv («испытывать [воздействие; терпеть»), пассивный залог.
Разрабатывая перечень этих категорий, Аристотель ставил своей целью учесть все возможные в предложении предикаты, при условии, что каждый термин имеет значение в изолированном употреблении, а не в составе сп>цлЯоит|, то есть, говоря современным языком, синтагмы. Неосознанно он принял в качестве критерия эмпирическую обязательность особого выражения для каждого предиката. Таким образом, сам того не желая, он неизбежно должен был возвратиться к тем различиям, которые сам язык выявляет между основными классами форм, потому что эти классы и формы как раз и имеют языковое значение только благодаря разнице между ними. Он полагал, что определяет свойства объектов, а установил лишь сущности языка: ведь именно язык благодаря своим собственным категориям позволяет распознать и определить эти свойства.
Итак, мы получили ответ на вопрос, который поставили в начале и который привел нас к этому результату. Какова природа отношений между категориями мысли и категориями языка? В той степени, в какой категории, выделенные Аристотелем, можно признать действительными для мышления, они оказываются транспозицией категорий языка. То, что можно сказать, ограничивает и организует то, что можно мыслить. Язык придает основную форму тем свойствам, которые разум признает за вещами. Таким образом, классификация этих предикатов показывает нам прежде всего структуру классов форм одного конкретного языка.
Отсюда следует, что под видом таблицы всеобщих и постоянных свойств Аристотель дает нам лишь понятийное отражение одного определенного состояния языка. Этот вывод можно еще расширить. За приведенной категоризацией, за аристотелевскими терминами проступает всеобъемлющее понятие «бытие». Само не будучи предикатом, «быть» является условием существования всех названных предикатов. Все многообразие свойств: «быть таким-то», «быть в таком-то состоянии», всевозможные аспекты «времени» и т. д. — зависит от понятия «бытие». Однако и это понятие отражает весьма специфическое свойство языка. В греческом языке не только имеется глагол «быть» (отнюдь не являющийся обязательной принадлежностью всякого языка), но он и употребляется в этом языке в высшей степени своеобразно,. На него возложена логическая функция — функция связки (уже сам Аристотель отмечал, что в этой функции глагол «быть» не означает, собственно говоря, ничего и играет всего-навсего соединительную роль). В силу этого глагол «быть» получил более широкий смысл, чем любой другой. Кроме того, благодаря артиклю глагол «быть» превращается в именное понятие, которое можно трактовать как вещь; он выступает в разных обличьях, например как причастие настоящего времени, которое может субстантивироваться и в основном своем виде, и в
Ш
некоторых своих разновидностях (то ov «сущее»; ol ovxeg «сущие»; та 6'vxa «подлинно сущее; истинное бытие» (у Платона); он может служить и предикатом к самому себе, как в выражении то х yJv elvai, указывая на идею-сущность какой-либо вещи, не говоря уже о поразительном многообразии конкретных предикатов, с которыми он образует конструкции при помощи предлогов и падежных форм... Его разнообразнейшие употребления можно перечислять без конца, но тогда речь идет уже о фактах языка, синтаксиса, словообразования. И это следует подчеркнуть, ибо только в таких своеобразных языковых условиях могла зародиться и расцвести вся греческая метафизика «бытия», и великолепные образы поэмы Парменида, и диалектика платоновского «Софиста». Разумеется, язык не определял метафизической идеи «бытия», у каждого греческого мыслителя она своя, но язык позволил возвести «быть» в объективируемое понятие, которым философская мысль могла оперировать, которое она могла анализировать и с которым могла обращаться, как с любым другим понятием.
Мы лучше поймем, что речь здесь идет главным образом о языковом явлении, если рассмотрим, как ведет себя то же самое понятие в другом языке. С этой целью полезно сопоставить с греческим язык совершенно иного типа, так как больше всего языковые типы разнятся внутренней организацией именно таких категорий. Уточним только, что то, что здесь сравнивается, суть факты языкового выражения, а не факты развития сознания.
В выбранном нами для сопоставления языке эве (разговорный язык в Того) понятие, обозначаемое по-французски словом etre «быть», распределяется между несколькими глаголами 6.
Прежде всего, имеется глагол пуё, который указывает, как мы сказали бы, на тождество субъекта и предиката; он выражает идею etre qui, etre quoi «быть кем, быть чем». Любопытно, что пуё ведет себя как переходный глагол, и то, что для нас есть предикат тождества, является при этом глаголе в форме управляемого аккузатива как прямое дополнение.
Другой глагол, 1е, выражает собственно «существование»: Mawu le «бог существует». Но ему свойственно и предикативное применение; 1е употребляется с предикатами местоположения, локализации — «быть» в каком-то месте, положении, времени, качестве: e-le nyuie «il est bien, ему хорошо»; e-le a fi «он здесь»; е-1е ho me «он дома». Таким образом, всякая пространственная или временная определенность передается с помощью 1е. Однако во всех подобных случаях 1е употребляется только в одном времени — в аористе, который выполняет функции и прошедшего повествовательного, и перфекта-настоящего. Если предикативную фразу с 1е надо перевести в другое время, например в будущее или время,
 5 Более подробное описание этих фактов можно найти у Д. Вестермана (D. Westermann, Grammatik der Ewe-Sprache, §§ 110—111; его же, Wor-terbuch der Ewe-Sprache, I, стр. 321, 384).
5 Более подробное описание этих фактов можно найти у Д. Вестермана (D. Westermann, Grammatik der Ewe-Sprache, §§ 110—111; его же, Wor-terbuch der Ewe-Sprache, I, стр. 321, 384).
"Г"
/В.! ■
обозначающее обычное, часто повторяющееся событие (l'habituel), то le заменяется переходным глаголом по «пребывать, оставаться»; то есть, чтобы передать одно и то же понятие, требуется два различных глагола в зависимости от употребляемого времени — непереходный 1е или переходный по.
Глагол wo «делать, совершать, производить действие», употребляясь с некоторыми названиями веществ, близок к etre «быть» в конструкции с прилагательным, обозначающим вещество: wo плюс ке «песок» дает wo ke «быть песчаным»; плюс tsi «вода» дает wo tsi «быть влажным»; плюс кре «камень» дает wo.kpe «быть каменистым». То качество, которое мы представляем себе как «быть» в явлениях природы, в языке эве передается подобно конструкциям французского языка с глаголом «faire»: il fait du vent «ветрено».
Когда предикатом является слово, обозначающее должность или сан, употребляется глагол du; так, du fia «быть королем».
И наконец, при предикатах со значением физического качества, а также состояния идея «быть» выражается глаголом di: например, H_i ku «быть тощим», d,i fo «быть в долгу».
Таким образом, практически функциям французского глагола «etre» приблизительно соответствуют пять разных глаголов. Здесь имеет место не разделение на пять участков той же семантической зоны, а иная дистрибуция, результатом которой является иная структура всей области, причем это отличие распространяется и на смежные понятия. Например, для француза два понятия — etre «быть» и avoir «иметь» — столь же различны, как и выражающие их слова. Но в языке эве один из упоминавшихся глаголов, глагол существования 1е, в конструкции с asi «в руке» образует выражение le asi — в буквальном переводе «быть в руке», самый употребительный эквивалент французского avoir: ga le asi-nye «j'ai de Гаг-gent» (букв, «деньги в моей руке»), «у меня деньги».
| P |
Описание этих фактов языка эве содержит долю искусственности. Оно сделано с точки зрения французского языка, а не в рамках самого исследуемого языка, как подобало бы. В языке эве эти пять глаголов ни морфологически, ни синтаксически друг с другом никак не связаны. И нечто общее в них мы находим только на основе своего собственного языка — французского. Но в этом и состоит преимущество такого «эгоцентрического» сравнения: оно объясняет нам нас самих; оно показывает нам, что многообразие функций глагола «быть» в греческом языке представляет собой особенность индоевропейских языков, а вовсе не универсальное свойство или обязательное условие для каждого языка. Конечно, греческие философы в свою очередь воздействовали на язык, обогатили его содержательную сторону, создали новые формы. Ведь именно из философского осмысления «быть» возникло абстрактное существительное, производное от etvai «быть» (инфинитив), и мы можем проследить его историческое становление —
 | |
 |
 сначала как koola у дорических пифагорейцев и Платона, затем как оостЕа, которое и утвердилось. Мы стремимся показать здесь лишь то, что сама структура греческого языка создавала предпосылки для философского осмысления понятия «быть». В языке эве мы находим противоположную картину: узкое соответствующее понятие и его узко специализированные употребления. Мы затрудняемся сказать, какое место занимает глагол «быть» в миросозерцании эве, но a priori ясно, что там это понятие должно члениться совершенно иначе.
сначала как koola у дорических пифагорейцев и Платона, затем как оостЕа, которое и утвердилось. Мы стремимся показать здесь лишь то, что сама структура греческого языка создавала предпосылки для философского осмысления понятия «быть». В языке эве мы находим противоположную картину: узкое соответствующее понятие и его узко специализированные употребления. Мы затрудняемся сказать, какое место занимает глагол «быть» в миросозерцании эве, но a priori ясно, что там это понятие должно члениться совершенно иначе.
Сама природа языка дает основания для возникновения двух противоположных представлений, одинаково ошибочных. Поскольку язык, состоящий всегда из ограниченного числа элементов, доступен усвоению, создается впечатление, что он выступает всего лишь как один из возможных посредников мысли, сама же мысль, свободная, независимая и индивидуальная, использует его в качестве своего орудия. На деле же, пытаясь установить собственные формы мысли, снова приходят к тем же категориям языка. Другое заблуждение противоположного характера. Тот факт, что язык есть упорядоченное единство, что он имеет внутреннюю планировку, побуждает искать в формальной системе языка слепок с какой-то «логики», будто бы внутренне присущей мышлению и, следовательно, внешней и первичной по отношению к языку. В действительности же это путь наивных воззрений и тавтологий.
Без сомнения, не случайно современная эпистемология не пытается построить систему категорий. Плодотворнее видеть в мышлении потенциальную и динамичную силу, а не жесткие структурные рамки для опыта. Неоспоримо, что в процессе научного познания мира мысль повсюду идет одинаковыми путями, на каком бы языке ни осуществлялось описание опыта. И в этом смысле оно становится независимым, но не от языка вообще, а от той или иной языковой структуры. Так, хотя китайский образ мышления и создал столь специфические категории, как дао, инь, ян, оно от этого не утратило способности к усвоению понятий материалистической диалектики или квантовой механики, и структура китайского языка не служит при этом помехой. Никакой тип языка не может сам по себе ни благоприятствовать, ни препятствовать деятельности мышления. Прогресс мысли скорее более тесно связан со способностями людей, с общими условиями развития культуры и с устройством общества, чем с особенностями данного языка. Но возможность мышления вообще неотрывна от языковой способности, поскольку язык — это структура, несущая значение, и мыслить — значит оперировать знаками языка.
ГЛАВА IX ЗАМЕТКИ О РОЛИ ЯЗЫКА В УЧЕНИИ ФРЕЙДА1
В связи с тем, что психоанализ заявляет о себе как о науке, мы вправе потребовать от него отчета о методе, процедурах анализа и целях и сопоставить это с методом, процедурами и целями общепризнанных «наук». Тот, кто хочет понять ход рассуждений, на которых строится метод психоанализа, приходит к странному выводу. Начиная с констатации душевного расстройства до выздоровления все происходит как бы вне всякой сферы материального. Ни одна процедура не поддается объективной проверке. При переходе от одного вывода к последующему не устанавливается очевидной причинной связи, к которой стремятся во всяком научном рассуждении. Когда, в отличие от психоаналиста, психиатр пытается объяснить душевное расстройство травмой, он хотя бы действует в духе классической методики исследования — ищет «причину», чтобы ее изучить. Ничего похожего мы не находим в методике психоанализа. Тому, кто знаком с психоанализом только в том виде, в каком его изложил Фрейд (так обстоит дело и с автором настоящих строк), и кого интересует не столько практическая эффективность психоанализа, которая здесь не подвергается обсуждению, сколько сущность явлений и устанавливаемые между ними отношения, представляется, что психоанализ явно отличается от всех других наук. И главным образом в следующем: материалом психоаналиста является то, что больной ему говорит. Психоаналист изучает пациента в тех разговорах, которые тот
 1 Ссылки на работы Фрейда даются с помощью следующих сокращений: GW с указанием номера тома — отсылка к «Qesammelte Werke», хронологическому изданию на немецком языке (London, Imago publishing); SE — Standard Edition— издание на английском языке (London, Hogarth Press, в печати); СР — Collected Papers, издание на английском языке (London, Hogarth Press); французские переводы цитируются по изданию PUF (Presses Universitaires de France), если нет соответствующих оговорок.
1 Ссылки на работы Фрейда даются с помощью следующих сокращений: GW с указанием номера тома — отсылка к «Qesammelte Werke», хронологическому изданию на немецком языке (London, Imago publishing); SE — Standard Edition— издание на английском языке (London, Hogarth Press, в печати); СР — Collected Papers, издание на английском языке (London, Hogarth Press); французские переводы цитируются по изданию PUF (Presses Universitaires de France), если нет соответствующих оговорок.
ведет, наблюдает больного в его речевом, «мифотворческом» поведении, и сквозь эту речь больного для него медленно проступает другая речь, которую он должен будет объяснить,— речь, связанная с комплексом, таящимся в подсознании. От выявления комплекса зависит успех лечения, который в свою очередь будет свидетельствовать о правильности заключения. Таким образом, весь процесс — от пациента к психоаналисту и от психоаналиста к пациенту — осуществляется только через посредничество языка.
Такое отношение к языку заслуживает внимания и является отличительной чертой этого типа анализа. Как нам представляется, психоаналист исходит из того, что вся совокупность разнородных симптомов, которые он обнаруживает у больного и последовательно изучает, является продуктом некоторой первоначальной мотивации, в основном подсознательной, часто преломляющейся в другие мотивации, уже осознанные и, как правило, ложные. В свете первоначальной мотивации, которую и необходимо раскрыть, все поступки больного получают объяснение и, связываясь друг с другом, подводят к душевному расстройству, которое, с точки зрения психоаналиста, является одновременно и их завершением и их символическим субститутом. Мы видим в этом существенную черту психоаналитического метода: связующим звеном между «явлениями» выступает отношение мотивации, которое занимает здесь место того, что в естественных науках определяется как отношение причинности. И нам кажется, что если психоаналисты признают это, то и статус психоанализа как науки, именно в присущем ему своеобразии, и специфический характер их метода получат более прочное обоснование.
Есть недвусмысленное свидетельство того, что мотивация выполняет в психоанализе функцию «причины». Известно, что процедура психоанализа полностью ретроспективна и имеет целью вызвать в памяти и рассказах пациента тот реальный факт, вокруг которого психоаналист будет затем строить свое толкование процесса болезни. Психоаналист, таким образом, ищет «исторический» факт, ускользнувший от сознания пациента, погребенный в его памяти, а пациент затем соглашается или не соглашается «признать» его и отождествить себя с ним. Нам могли бы возразить, что такое воскрешение некоторого жизненного опыта, пережитого биографического факта как раз и равносильно нахождению «причины». Но ведь факт биографии сам по себе не может играть роль причинно-следственной связи. Прежде всего потому, что психоаналист не может узнать о нем без помощи пациента, которому одному известно, «что с ним было», а если бы и мог, то все равно не сумел бы решить, какое значение приписать данному факту. Предположим даже, что в некотором утопическом мире психоаналист смог бы восстановить с помощью объективных свидетельств следы всех событий, составляющих биографию пациента. Но и тут он извлек бы из этого весьма немного, во всяком случае, не извлек
бы ничего существенного, разве что по счастливой случайности. Психоаналисту нужно, чтобы пациент ему обо всем рассказал и даже чтобы он говорил как придется, без определенной цели,— не для того, чтобы установить тот или иной эмпирический факт, который не зафиксирован нигде, кроме памяти пациента: дело в том, что эмпирические события имеют для психоаналиста реальность только в «речи» и в силу «речи» пациента, которая сообщает им характер достоверного опыта независимо от их исторической реальности и даже (следует сказать: в особенности) если речь уклончива, если пациент излагает в ином свете или сочиняет себе биографию. Дело обстоит так именно потому, что психоаналист стремится вскрыть мотивации, а не восстановить факты. Основной характеристикой этой биографии является то, что она выражается словесно (вербализуется) и тем самым принимается «как своя» тем, кто ее рассказывает; выражением ее служит речь; связь психоаналиста и пациента — также речь, диалог.
Все указывает здесь на появление метода, областью приложения и излюбленным орудием которого оказывается язык. Возникает существенный вопрос: каков же этот «язык», который столь же важен, как и то, что он выражает? Тождествен ли он языку, употребляемому вне психоанализа? Одинаков ли он хотя бы для обоих партнеров по диалогу? В своей блестящей работе о функции и месте речи и языка в психоанализе профессор Лакан говорит о методе психоанализа следующее (стр. 103): «Его средства — это речевые средства, поскольку речь придает функциям индивида смысл; его область—область конкретной речевой ситуации как трансиндивидуальной реальности субъекта; его приемы суть приемы исторической науки, поскольку он устанавливает проявление истины в реальности». На основе этих удачных определений и прежде всего введенного Ж. Лаканом разграничения «средств» и «области» можно попытаться определить представленные здесь разновидности «языка».
Прежде всего мы сталкиваемся с миром речи, миром субъективного. На протяжении всех анализов по Фрейду мы видим, что пациент пользуется речью и рассказом, чтобы «представить» себя себе самому таким, каким он хочет видеть себя сам и побуждает «другого». Его речь — это зов и мольба, призыв, порой неистовый, обращенный к другому через речь, в форме которой он отчаянно стремится к самоутверждению, призыв часто неискренний, с целью придать себе индивидуальность в своих собственных глазах. Самим фактом речи к кому-то говорящий о себе вводит другого в себя и благодаря этому постигает себя, сравнивает себя, утверждает себя таким, каким он стремится быть, и в конце концов создает себе прошлое («историзирует себя») посредством рассказанной истории, неполной или фальсифицированной. Язык здесь, таким образом, используется как речь, становясь выражением сиюминутной и трудноуловимой субъективности, которая неотъ-

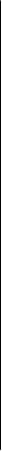 емлема от диалога. Язык выступает как средство рассказа, в котором высвобождается и творит себя личность пациента, в котором она воздействует на другого и заставляет его признать себя. В то же время язык — это структура, являющаяся принадлежностью всего общества, которую речь использует в индивидуальных и интерсубъективных целях, придавая ей таким образом новый и сугубо индивидуальный облик. Язык — это система, общая для всех, в то время как речь является одновременно и носителем сообщения и орудием действия. В этом смысле формы речи каждый раз уникальны, хотя они реализуются внутри языка и через его посредство. У пациента поэтому существует антиномия между речью-рассказом и языком.
емлема от диалога. Язык выступает как средство рассказа, в котором высвобождается и творит себя личность пациента, в котором она воздействует на другого и заставляет его признать себя. В то же время язык — это структура, являющаяся принадлежностью всего общества, которую речь использует в индивидуальных и интерсубъективных целях, придавая ей таким образом новый и сугубо индивидуальный облик. Язык — это система, общая для всех, в то время как речь является одновременно и носителем сообщения и орудием действия. В этом смысле формы речи каждый раз уникальны, хотя они реализуются внутри языка и через его посредство. У пациента поэтому существует антиномия между речью-рассказом и языком.
Но для психоаналиста эта антиномия устанавливается в совершенно ином плане и приобретает иной смысл. Он должен быть внимателен к содержанию речи-рассказа, но не менее, а может быть и более внимательным к перебоям в нем. Если из содержания психоаналист узнает о том, как пациент представляет себе ситуацию и какое место в ней он отводит себе, то сквозь это содержание он стремится найти некоторое новое содержание, содержание подсознательной мотивации, восходящей к скрытому комплексу. По ту сторону системы символов, присущей самому языку, он должен различить индивидуальную систему символов, которая создается без ведома пациента как из того, что он высказывает, так и из того, что он опускает. И сквозь историю, создаваемую себе пациентом, начинает проступать другая история, которая объяснит мотивацию. Таким образом, речь используется психоанали-стом как посредник для истолкования другого «языка», имеющего свои собственные правила, символы и «синтаксис» и восходящего к глубинным структурам психики.
Отметив различия между этими двумя символическими системами, которые требовали бы подробного рассмотрения, но которые точно определить и детализировать мог бы только психоаналист, мы хотели бы главным образом рассеять некоторые неверные представления. Представления эти грозят получить распространение в такой области, где и без того достаточно трудно понять, что же имеют в виду, когда изучают «наивный» язык, и где вследствие особого подхода психоаналистов возникает новая трудность. Фрейд дал убедительный анализ вербальной (словесной) деятельности в том виде, в каком она проявляется в провалах речевой памяти и оговорках, в ее игровом аспекте или в бессвязном бреду, когда прекращается контролирующая роль сознания. Все анархические силы, которые обуздываются или сублимируются в норме речи, имеют свое происхождение в подсознании. Фрейд подметил также глубокое сходство между этими формами языка и природой ассоциаций, возникающих в сновидении, еще одном выражении подсознательных мотиваций. Таким путем он пришел к размышлению над тем, как функционирует язык в своих связях со структурами
психики, лежащими за порогом сознания, и к вопросу о том, не оставили ли следа конфликты, характеризующие психику, в самих формах языка.
Фрейд поставил эту проблему в опубликованной в 1910 году статье «О противоположных значениях в первообразных словах». Отправным пунктом послужило важное наблюдение его работы «Traumdeutung» («Значение сновидений»), заключающееся в том, что логика сновидений характеризуется нечувствительностью к противоречию: «Особенно поражает то, как в сновидении выражаются категории противоположности и противоречивости: они здесь не выражаются вовсе, в сновидении «нет» как бы не замечаются. Сновидение превосходно умудряется соединять противоположности и представлять их в виде одного и того же объекта. В сновидении также тот или иной элемент часто представляется через свою противоположность, так что невозможно узнать, передает ли элемент сновидения, могущий иметь противоположность, позитивное или негативное содержание в мышлении сновидения». Фрейду казалось, что он нашел в одной работе К. Абеля подтверждение того, что «указанный способ, обычный для развертывания сновидения, присущ также наиболее древним из известных языков». Проиллюстрировав это на нескольких примерах, Фрейд пришел к следующему заключению: «Соответствие между своеобразием развертывания сновидения, отмеченным нами в начале этой статьи, и особенностями употребления языка, открываемыми филологами в древнейших языках, подтверждает, как нам представляется, нашу концепцию выражения мышления в сновидении, согласно которой это выражение имеет ретроспективный, архаический характер. У нас, психиатров, невольно возникает мысль, что, если бы мы были лучше осведомлены относительно развития языка, мы смогли бы правильнее понять и легче истолковывать язык сновидений» 2.
Благодаря авторитету Фрейда это высказывание может быть сочтено доказанным и, во всяком случае, может создаться впечатление, что содержащаяся в нем идея указывает направление плодотворных исследований. Найдена, казалось бы, аналогия между процессом сновидения и семантикой «примитивных» языков, в которых одно и то же слово выражает якобы одновременно нечто и его противоположность. Открывается, казалось бы, путь к изучению структур, общих для коллективного языка и индивидуальной психики. Ввиду подобных перспектив небесполезным представляется указать, что факты никак не подтверждают этимологические рассуждения Карла Абеля, соблазнившие Фрейда. Здесь мы имеем дело уже не с психопатологическими проявлениями языка, а с конкретными, доступными проверке фактами, повсеместно встречающимися в исторически засвидетельствованных языках.
 : 2 S. Freud, Essais de psychanalyse appliquee, Gallimard, стр. 59—67; S. Freud, Collected Papers, IV, стр. 184—191; GW, VIII, стр. 214—221.
: 2 S. Freud, Essais de psychanalyse appliquee, Gallimard, стр. 59—67; S. Freud, Collected Papers, IV, стр. 184—191; GW, VIII, стр. 214—221.
M
 И не случайно ни один серьезный лингвист ни в эпоху, когда писал Абель (а его работы появлялись с 1884 года), ни впоследствии не принял этой идеи «Gegensinn der Urworte» («противоположных значений праслов») ни в своем методе, ни в своих выводах. Дело в том, что если мы хотим восстановить ход семантической истории слов и реконструировать их предысторию, то первое методологическое требование заключается в том, чтобы рассмотреть формы и значения, последовательно засвидетельствованные в каждую историческую эпоху, вплоть до самой древней даты и начинать реконструкцию только после той последней точки, которой может достигнуть наше исследование текстов. Из этого требования вытекает и другое, связанное с техникой сравнительного анализа и состоящее в том, чтобы при сравнении языков опираться на регулярные соответствия. К- Абель пренебрегает этими правилами и подбирает любые факты, сходные в чем бы то ни было. Так, из сходства между немецким словом и словом английским или латинским, при разнице или противоположности в значении, он заключает о наличии между ними первоначальной связи типа «противоположных значений», игнорируя все промежуточные этапы, которые объяснили бы расхождение в случае действительного родства или отвергли бы предположение о родстве, доказав, что слова имеют разное происхождение. Не представляет труда показать, что ни один из доводов, приведенных Абелем, не может быть принят. Чтобы не затягивать рассуждения, мы ограничимся такими примерами из западноевропейских языков, которые могли бы смутить читателей-нелингвистов.
И не случайно ни один серьезный лингвист ни в эпоху, когда писал Абель (а его работы появлялись с 1884 года), ни впоследствии не принял этой идеи «Gegensinn der Urworte» («противоположных значений праслов») ни в своем методе, ни в своих выводах. Дело в том, что если мы хотим восстановить ход семантической истории слов и реконструировать их предысторию, то первое методологическое требование заключается в том, чтобы рассмотреть формы и значения, последовательно засвидетельствованные в каждую историческую эпоху, вплоть до самой древней даты и начинать реконструкцию только после той последней точки, которой может достигнуть наше исследование текстов. Из этого требования вытекает и другое, связанное с техникой сравнительного анализа и состоящее в том, чтобы при сравнении языков опираться на регулярные соответствия. К- Абель пренебрегает этими правилами и подбирает любые факты, сходные в чем бы то ни было. Так, из сходства между немецким словом и словом английским или латинским, при разнице или противоположности в значении, он заключает о наличии между ними первоначальной связи типа «противоположных значений», игнорируя все промежуточные этапы, которые объяснили бы расхождение в случае действительного родства или отвергли бы предположение о родстве, доказав, что слова имеют разное происхождение. Не представляет труда показать, что ни один из доводов, приведенных Абелем, не может быть принят. Чтобы не затягивать рассуждения, мы ограничимся такими примерами из западноевропейских языков, которые могли бы смутить читателей-нелингвистов.
Абель приводит ряд соответствий между английским и немецким языками, обнаруживающих, по мнению Фрейда, в этих языках противоположные значения и подвергшихся «фонетическому преобразованию с целью дифференциации слов с противоположными значениями». Оставим на мгновение в стороне скрытую в этом простом замечании серьезную логическую ошибку и ограничимся коррекцией сопоставлений. Старое наречие bass «хорошо» в немецком языке родственно besser «лучше», но никак не связано с bos «плохой», точно так же как в древнеанглийском языке bat «хороший, лучший» не имеет никакой связи с badde (современное bad) «плохой». Английское cleave «колоть» соответствует в немецком языке не kleben «клеить», как утверждает Абель, но klieben «колоть» (ср. Kluft «пропасть, раскол»). Англ. lock «запирать» не противопоставляется нем. Lticke «пустое место, отверстие», Loch «дыра», но, напротив, с ними сближается, потому что старое значение Loch — «укрепление, закрытое и потайное место». Немецкое stumm означает собственно «парализованный (о языке), немой» и связано с stammeln «заикаться», stemmen «упираться», но не имеет ничего общего с Stimme, которое значит «голос» уже в древнейшей своей форме, ср. готское stibna. Точно так же в латыни clam «тайком» связывается с celare «прятать», но отнюдь не с cla-
mare «кричать» и т. п. Второй ряд доказательств, также совершенно ошибочных, Абель строит, исходя из выражений, которые принимают противоположные значения в одном и том же языке. Таково будто бы двойное значение латинского sacer — «священный» и «проклятый». В данном случае двузначность понятия не должна нас удивлять — теперь, после многочисленных исследований в области феноменологии явлений священного, присущая им двойственность стала банальной истиной: в средние века король и прокаженный были оба в буквальном смысле «неприкасаемые», но из этого не следует, что в sacer заключено два противоположных значения; особенности данной культуры обусловили два противоположных отношения к «священному» предмету. Двойное значение, которое приписывают латинскому altus «высокий» и «глубокий», является результатом иллюзии, в силу которой мы принимаем категории нашего родного языка за необходимые и универсальные. По-французски мы также употребляем слово profondeur, говоря о «глубине» неба и глубине моря. Говоря точнее, качество altus «высокий» оценивается в латыни в направлении снизу вверх, то есть из глубины колодца вверх или от подножия дерева вверх, независимо от положения наблюдателя, в то время как во французском языке profond «глубокий» понимается как идущий в противоположных направлениях от наблюдателя вглубь, будь то глубина колодца или глубина неба. В этих различных способах упорядочения языком наших представлений нет ничего «первобытного». Точно так же объяснение английскому without (with-out) «без» следует искать не в «истоках языка вообще», но гораздо более скромно — в началах английского языка. Вопреки тому, что думал Абель и что некоторые полагают по сей день, with-out не заключает никаких противоположных выражений «с-без»; with имеет здесь значение собственно «против» (ср. with-stand — «про-тиво-стоять») и указывает на толчок или усилие в каком-либо направлении. Отсюда with-in «внутрь» и with-out «наружу», и уже из последнего — «за пределами, без». Чтобы понять, как получилось, что в немецком языке wider значит «против», a wieder (с изменением [i]: [i:]) «опять, снова», достаточно сравнить аналогичное явное противопоставление во французском языке re в re-pousser «отталкивать» и re-venir «возвращаться». Во всем этом нет ничего таинственного, и, если вспомнить элементарные правила сопоставления, эти миражи тотчас рассеиваются.
Но одновременно исчезает и всякая возможность аналогии между развертыванием сновидения и приемами «примитивных языков». Вопрос этот имеет два аспекта. Первый касается «логики» языка. Будучи общественным и традиционным явлением, всякий язык имеет свои аномалии, свои алогизмы, отражающие асимметрию, внутренне присущую природе языкового знака. И вместе с тем язык — это система, определенным образом организованная совокупностью отношений, поддающихся известной формализации.
 Медленный, но непрерывный процесс, протекающий внутри языка, происходит не хаотично, он затрагивает те связи или те оппозиции, которые являются или не являются необходимыми, так чтобы качественно или количественно развивались различия, используемые на всех уровнях выражения. Семантическая организация языка не составляет исключения из этой системности. Поскольку язык есть орудие упорядочения окружающей действительности и общества, он накладывается на мир, рассматриваемый как «реальный», и отражает «реальный» мир. Но в этом отношении каждый язык является своеобразным и членит реальность на свой особый лад. Различия, которые устанавливает при этом каждый язык, должны быть отнесены за счет той частной логики, которая лежит в их основе, а не оцениваться непосредственно с точки зрения универсалий. В этом отношении древние или архаические языки являются и не более, и не менее своеобразными, чем языки, на которых говорим мы, им присуще только то своеобразие, которым вообще обладают в наших глазах непривычные для нас предметы. Их категории, имеющие иную направленность, чем наши, тем не менее столь же логичны. Поэтому заведомо маловероятно — и тщательный анализ это подтверждает,— чтобы в этих языках, какими бы архаическими они ни считались, обнаружились нарушения «закона противоречия»: одному и тому же выражению придавались бы два взаимоисключающих или хотя бы противоположных понятия. Сколько-нибудь достоверных примеров подобного рода до сих пор, по существу, не было представлено. Если предположить, что существует язык, в котором «большой» и «маленький» выражаются одинаково, то в этом языке различие между «большой» и «маленький» просто отсутствует и категории величины не существует, но он отнюдь не будет языком, в котором допускается якобы противоречивое выражение величины. И если утверждают, что такое различие в данном языке исследовалось и оказалось нереализованным, то это свидетельствует о нечувствительности к противоречию не у языка, а у исследователя — противоречив прежде всего его замысел, по которому он одновременно приписывает языку осмысление двух понятий как противоположных и выражение этих понятий как тождественных.
Медленный, но непрерывный процесс, протекающий внутри языка, происходит не хаотично, он затрагивает те связи или те оппозиции, которые являются или не являются необходимыми, так чтобы качественно или количественно развивались различия, используемые на всех уровнях выражения. Семантическая организация языка не составляет исключения из этой системности. Поскольку язык есть орудие упорядочения окружающей действительности и общества, он накладывается на мир, рассматриваемый как «реальный», и отражает «реальный» мир. Но в этом отношении каждый язык является своеобразным и членит реальность на свой особый лад. Различия, которые устанавливает при этом каждый язык, должны быть отнесены за счет той частной логики, которая лежит в их основе, а не оцениваться непосредственно с точки зрения универсалий. В этом отношении древние или архаические языки являются и не более, и не менее своеобразными, чем языки, на которых говорим мы, им присуще только то своеобразие, которым вообще обладают в наших глазах непривычные для нас предметы. Их категории, имеющие иную направленность, чем наши, тем не менее столь же логичны. Поэтому заведомо маловероятно — и тщательный анализ это подтверждает,— чтобы в этих языках, какими бы архаическими они ни считались, обнаружились нарушения «закона противоречия»: одному и тому же выражению придавались бы два взаимоисключающих или хотя бы противоположных понятия. Сколько-нибудь достоверных примеров подобного рода до сих пор, по существу, не было представлено. Если предположить, что существует язык, в котором «большой» и «маленький» выражаются одинаково, то в этом языке различие между «большой» и «маленький» просто отсутствует и категории величины не существует, но он отнюдь не будет языком, в котором допускается якобы противоречивое выражение величины. И если утверждают, что такое различие в данном языке исследовалось и оказалось нереализованным, то это свидетельствует о нечувствительности к противоречию не у языка, а у исследователя — противоречив прежде всего его замысел, по которому он одновременно приписывает языку осмысление двух понятий как противоположных и выражение этих понятий как тождественных.
Точно так же обстоит дело с особой логикой сновидения. Если мы полагаем, что развертывание сновидения характеризуется полной свободой ассоциаций и невозможностью допустить невозможность, то прежде всего потому, что мы описываем и анализируем сновидение в терминах языка, а отличительное свойство языка в том и состоит, чтобы выражать только то, что возможно выразить. И это вовсе не тавтология. Язык есть прежде всего категоризация, воссоздание предметов и отношений между этими предметами. Вообразить существование такой стадии в развитии языка, пусть сколь угодно «первобытной», но тем не менее реальной и «исторической», когда какой-либо предмет обозначался бы как таковой и в
то же время как любой другой и когда выражаемое отношение было бы отношением постоянного противоречия, отношением непринадлежности к системе отношений, когда все было бы самим собой и одновременно чем-то совершенно иным, следовательно, ни самим собой ни другим,— значит вообразить чистейшую химеру. В той мере, в какой мы можем воспользоваться свидетельством «первобытных» языков, чтобы приблизиться к истокам языкового опыта, нам следует, напротив, ожидать крайнюю сложность классификации и множественность категорий. Все, как представляется, отвергает «живую» связь между логикой сновидений и логикой реального языка. Отметим между прочим, что именно в «примитивных» обществах язык не только не воспроизводит ход сновидения, но, напротив, именно сновидение сводится к категориям языка, поскольку оно истолковывается применительно к действительным ситуациям, и посредством системы символических соответствий на него накладываются рамки рациональной категоризации языка 3. То, чего Фрейд тщетно искал в «исторических» языках, он мог бы в какой-то степени найти в мифах или в поэзии. Некоторые формы поэзии сближаются со сновидениями, обнаруживают сходный способ структурирования и вводят в обычные формы языка то отключение от смысла, которое облекает наши действия во сне. Но тогда нечто подобное тому, что он безрезультатно искал в системе языка, Фрейд, как это ни парадоксально, мог бы обнаружить в поэзии сюрреализма, которой он, по словам Бретона, не понимал. Причина путаницы у Фрейда кроется, по нашему мнению, в том, что он постоянно стремится к «истокам»: истокам искусства, религии, общества, языка... Он постоянно превращает то, что ему кажется «первобытным» в человеке, в «первобытное первичное» вообще, проецируя то, что можно было бы назвать хронологией человеческой психики, на историю окружающего человека реального мира. Правомерно ли это? То, что онтогенез позволяет психо-аналисту отнести к архетипу, является таковым только по отношению к тому, что его деформирует или вытесняет в подсознание. Но если поставить это вытеснение в генетическую параллель с развитием общества, тогда так же невозможно представить себе какую-либо общественную ситуацию без конфликта, как и конфликт вне общества. Рогейм (Roheim) обнаружил эдипов комплекс в самых «примитивных» обществах. Если этот комплекс внутренне присущ обществу как таковому, то Эдип, могущий жениться на своей матери, есть противоречие в самом определении. И в этом случае, если в человеческой психике есть нечто ядерное (nucleaire), то это именно конфликт. Но тогда понятие «первобытного первичного» утрачивает всякий смысл.
| .На Востоке в ключах к |
 3 См. «Science des reves», гл. II, стр. 75, прим. 1 „ениям ^«^"rt
3 См. «Science des reves», гл. II, стр. 75, прим. 1 „ениям ^«^"rt
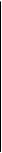
 Как только язык-систему ставят в соответствие с элементарной психикой, в рассуждение вводится новый фактор, ломающий симметрию, которую желали установить. Фрейд, сам того не сознавая, дает тому доказательство в своем мастерском этюде об отрицании 4. Он сводит полярность языкового утверждения и отрицания к биопсихическому механизму допущения в себя и отбрасывания из себя, связанному с представлением о хорошем и плохом. Но ведь животное также способно к такой оценке, приводящей к допущению в себя и отбрасыванию из себя. Отличительной чертой языкового отрицания является то, что оно может аннулировать только то, что высказано, что для отрицания чего-либо это что-либо должно быть эксплицитно сформулировано, что суждение о несуществовании необходимо имеет также формальный статус суждения о существовании. Таким образом, отрицание—это сначала допущение. Совершенно иным является отказ от первоначального допущения, который называют подавлением или вытеснением в подсознание. Фрейд сам превосходно сформулировал то, что манифестируется отрицанием: «Вытесняемое содержание представления или мысли может вводиться в сознание при условии, что оно отрицается. Отрицание— это способ осознания того, что вытесняется, и даже подавление вытеснения, не являющееся, однако, допущением того, что вытесняется... Из этого следует нечто вроде рассудочного допущения того, что вытесняется, но при этом сущность вытеснения сохраняется...» Разве здесь не видно, что решающую роль в этом сложном процессе играет фактор языка и что отрицание является в каком-то смысле конституирующим по отношению к отрицаемому содержанию, а следовательно, и по отношению к проявлению этого содержания в сознании и к подавлению вытеснения? То, что остается, таким образом, от вытеснения, представляет собой лишь нежелание отождествить себя с этим содержанием, но пациент не имеет уже больше власти над существованием этого содержания. И здесь опять его речь может быть щедро насыщена отрицанием отрицаний, но это не может упразднить фундаментальное свойство языка, согласно которому тому, что произнесено, соответствует нечто,— нечто, но не «ничто».
Как только язык-систему ставят в соответствие с элементарной психикой, в рассуждение вводится новый фактор, ломающий симметрию, которую желали установить. Фрейд, сам того не сознавая, дает тому доказательство в своем мастерском этюде об отрицании 4. Он сводит полярность языкового утверждения и отрицания к биопсихическому механизму допущения в себя и отбрасывания из себя, связанному с представлением о хорошем и плохом. Но ведь животное также способно к такой оценке, приводящей к допущению в себя и отбрасыванию из себя. Отличительной чертой языкового отрицания является то, что оно может аннулировать только то, что высказано, что для отрицания чего-либо это что-либо должно быть эксплицитно сформулировано, что суждение о несуществовании необходимо имеет также формальный статус суждения о существовании. Таким образом, отрицание—это сначала допущение. Совершенно иным является отказ от первоначального допущения, который называют подавлением или вытеснением в подсознание. Фрейд сам превосходно сформулировал то, что манифестируется отрицанием: «Вытесняемое содержание представления или мысли может вводиться в сознание при условии, что оно отрицается. Отрицание— это способ осознания того, что вытесняется, и даже подавление вытеснения, не являющееся, однако, допущением того, что вытесняется... Из этого следует нечто вроде рассудочного допущения того, что вытесняется, но при этом сущность вытеснения сохраняется...» Разве здесь не видно, что решающую роль в этом сложном процессе играет фактор языка и что отрицание является в каком-то смысле конституирующим по отношению к отрицаемому содержанию, а следовательно, и по отношению к проявлению этого содержания в сознании и к подавлению вытеснения? То, что остается, таким образом, от вытеснения, представляет собой лишь нежелание отождествить себя с этим содержанием, но пациент не имеет уже больше власти над существованием этого содержания. И здесь опять его речь может быть щедро насыщена отрицанием отрицаний, но это не может упразднить фундаментальное свойство языка, согласно которому тому, что произнесено, соответствует нечто,— нечто, но не «ничто».
Мы подходим здесь к очень важной проблеме, которая настоятельно возникает в этих теоретических рассуждениях и во всей совокупности методов психоанализа: проблеме символизма. Психоанализ целиком построен на теории символа. Язык также есть не что иное, как система символов. И однако, различия между этими двумя символическими системами объясняют и обобщают все те различия, которые мы указывали по отдельности. Глубокий анализ, которому Фрейд подверг символизм подсознательного, проливает также свет на иные пути, посредством которых реализуется символизм языка. Когда говорят о том, что языковая деятельность
 4 GW, XIV, стр. 11—15; СР, V, стр. 181—185,
4 GW, XIV, стр. 11—15; СР, V, стр. 181—185,
символична, то тем самым называют лишь ее наиболее очевидное свойство. Следует добавить, что языковая деятельность необходимо реализуется в языке как системе, и тогда обнаруживается различие, которое определяет для человека символизм языка: то, что он усваивается, что он развивается по мере того, как человек овладевает окружающим миром и мышлением, с которыми он в конечном итоге соединяется. Из этого следует, что основные из этих символов и их синтаксис неотделимы для человека от вещей и от опыта, в котором он с ними сталкивается: он овладевает ими по мере того, как открывает их как реальности. Для того, кто охватывает эти символы, актуализованные в словах различных языков, в их многообразии, скоро становится очевидным, что отношение символов к вещам, которым они, очевидно, соответствуют, можно только констатировать, но не мотивировать. По сравнению с этим символизмом, который реализуется в бесконечно многообразных знаках, объединенных в формальные системы, столь же многочисленные и различные, сколько существует языков, открытый Фрейдом символизм подсознательного обладает совершенно своеобразными, непохожими свойствами. Некоторые из них следует особо отметить. Во-первых, универсальность символизма подсознания. Судя по исследованиям, проведенным в области сновидений и неврозов, выражающие их символы образуют, по-видимому, некоторый «словарь», общий для всех народов независимо от языка, потому, очевидно, что они и не усваиваются, и не осознаются как таковые теми, у кого они возникают. Кроме того, отношение между этими символами и тем, к чему они относятся, характеризуется множественностью означающих и единственностью означаемого; связано это с тем, что содержание вытесняется и выступает только под покровом этих образов. Зато в отличие от языкового знака эти множественные означающие и единственное означаемое постоянно связываются отношением «мотивации». И наконец, укажем, что «синтаксис», который связывает эти подсознательные символы, не подчиняется никаким требованиям логики, или, точнее, он знает только одно измерение — последовательность во времени, которая в понимании Фрейда означает также и причинность.
Перед нами, таким образом, «язык» настолько своеобразный, что его необходимо отграничить от того, что обычно называют языком. Именно подчеркивая различия между ними, можно правильно определить его место в ряду языковых явлений. «Подобная символика,— говорит Фрейд,—■ присуща не только сновидению, мы встречаем ее во всех подсознательных системах образов, во всех коллективных образных представлениях, особенно народных: в фольклоре, мифах, легендах, поговорках, пословицах, обычной игре слов; она здесь представлена даже более полно, чем в сновидении». Сказанным хорошо ограничивается уровень данного явления. В той сфере, где эта подсознательная символика обнаруживается, она является одновременно, могли бы мы сказать, и подъ-
 языковой и надъязыковой. Подъязыковой она является потому, что источник ее расположен глубже, чем та область; в которой благодаря воспитанию и обучению закладывается механизм языка. В ней используются знаки, не поддающиеся членению и допускающие многочисленные индивидуальные вариации, число которых возрастает при использовании средств общей области культуры и индивидуального опыта. Эта символика является надъязыковой вследствие того, что в ней используются знаки очень емкие, которым в обычном языке соответствовали бы не минимальные, а более крупные единицы речи. И между этими знаками устанавливается динамическое отношение целевой установки, которое сводится к постоянной мотивации («реализация вытесненного желания») и которое принимает самые неожиданные формы.
языковой и надъязыковой. Подъязыковой она является потому, что источник ее расположен глубже, чем та область; в которой благодаря воспитанию и обучению закладывается механизм языка. В ней используются знаки, не поддающиеся членению и допускающие многочисленные индивидуальные вариации, число которых возрастает при использовании средств общей области культуры и индивидуального опыта. Эта символика является надъязыковой вследствие того, что в ней используются знаки очень емкие, которым в обычном языке соответствовали бы не минимальные, а более крупные единицы речи. И между этими знаками устанавливается динамическое отношение целевой установки, которое сводится к постоянной мотивации («реализация вытесненного желания») и которое принимает самые неожиданные формы.
Таким образом, мы снова возвращаемся к «речи». Продолжая наше сравнение, мы подойдем к плодотворному сравнению символики подсознания с некоторыми типичными приемами выражения субъективности в речи. Применительно к уровню языковой деятельности можно уточнить: имеются в виду стилистические средства речи. Именно в стиле, а не в языке мы столкнулись бы с явлениями, сопоставимыми с теми особенностями, которые, как установил Фрейд, отличают «язык» сновидений. Аналогии, которые здесь намечаются, поразительны. Подсознание использует подлинную «риторику», которая, как и стиль, имеет свои «фигуры», и старый каталог тропов оказался бы пригодным для обоих уровней выражения. Мы находим и здесь и там все способы субституции, порожденные табу: эвфемизмы, намеки, антифразы, умолчание, литоту. Природа содержания вызывает появление всех видов метафоры, потому что именно благодаря метафорическому переносу символы подсознания приобретают одновременно и свое значение и свою сложность. В символике подсознания используется также то, что в старой риторике называлось метонимией (содержащее вместо содержимого) и синекдохой (часть вместо целого), и если «синтаксис» сцеплений (цепочек) символов напоминает какой-либо стилистический прием, то это прием эллипса. Короче говоря, по мере того как будут составляться инвентари символических образов в мифах, сновидениях и т. п., можно будет, по всей видимости, яснее представить себе динамические структуры стиля и их эмоциональные составляющие. Скрытая целевая установка в мотивации неявно диктует способ, каким творец стиля формует общий материал и по-своему освобождается при этом от внутреннего конфликта. Потому что то, что называют подсознанием, определяет, как индивид строит свою личность, что он в ней утверждает и чего он не замечает или что отвергает, причем последнее мотивирует первое.
ЯЗЫКОВЫЕ СТРУКТУРЫ И ИХ АНАЛИЗ
Когда предметом научного исследования является такой объект, как язык, то становится очевидным, что все вопросы относительно каждого языкового… Основным понятием для определения процедуры анализа будет понятие уровня. Лишь… Цель всей процедуры анализа заключается в том, чтобы выделить элементы на основе связывающих их отношений. Эта…О НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ РАЗВИТИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО ПЕРФЕКТА
I. К ОБРАЗОВАНИЮ КОРНЕВОГО ПЕРФЕКТА В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ
Существенная черта этого морфологического класса заключается в том, что он характеризуется чередованием гласных одновременно по качеству и по… 1 Общий обзор проблемы см.: Leumann, Lateinische Grammatik, стр. 331 и ел. …ИЗ
Это два разных типа оппозиций. В готском количественное чередование различает число внутри парадигмы, но не служит для характеристики времен, как в латыни. В готском мы находим новый способ оформления спряжения, германскую инновацию, истоки которой не следует искать за пределами этой языковой группы. Со своей стороны латинский язык независимым образом переоформил архаический способ противопоставления форм, возможность чего была заложена в индоевропейской «морфонологии». Этот тип перфекта пережил в более близкое к нам время период экспансии и включил значительное количество новых форм; veni, legl, clepi оформлены, по-видимому, по образцу emi, edl и т.. д. и к тому же сохраняют еще черты своей вторичности: несоответствие между латинским venl и оскским (kum) bened, двойная форма leg! и -1е"хР— признаки более нового образования.
II. ГЕРМАНСКИЕ ПЕРФЕКТО-ПРЕЗЕНСЫ
В таком качестве мы и будем рассматривать его здесь. Нашей задачей не является анализ относящихся сюда глаголов с этимологической точки зрения, во… в германском только в форме перфекта и этот перфект принял на себя функции… Рассмотрим с этой точки зрения перфекто-презенсы, засвидетельствованные в готском, напомнив предварительно их…ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ПРЕДЛОГОВ В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ
1 Мы не проводим здесь различия между предлогом и глагольной приставкой. Для указания на положение «перед» в латинском языке используются два… 1) Pro означает не столько «перед», как «вне, снаружи»; это положение «впереди», взятое как результат выхода из…Т
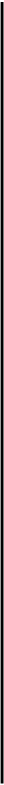 жать и сравнение: videbant omnes prae illo parvi futuros «они увидели, что по сравнению с ним всем предстоит иметь малое значение» (Nep., Eum., 10). Мы имеем здесь дело с такими употреблениями ргае, которых нет у pro и истоки которых следует искать только в собственном значении ргае. Но их происхождение непросто обнаружить, и нужно прямо сказать, что ни одно из приводившихся в литературе до сих пор объяснений не способствует пониманию этих употреблений. Б. Кранц (В. К г a n z) надеется выйти из положения, предположив, будто ргае со значением причины употребляется вместо prae(sente), что представляется совершенно неправдоподобным. По мнению Бругмана, при решении этого вопроса нужно исходить из пространственного значения: «Etwas stellt sich vor etwas und wird dadurch Anlafi und Motiv fur etwas» («Нечто помещается перед чем-то другим и тем самым становится поводом и причиной этого другого») 4. Не возникает ли здесь ошибки в результате двусмысленного определения? Что значит «vor etwas» {«.перед чем-то»)? Создается впечатление, что ргае может означать предшествование одного события другому, и поэтому — причину, но это невозможно. Ошибочность этого рассуждения становится очевидной, как только мы попробуем применить его к переводу какого-нибудь конкретного примера. Так, у Плавта: ргае laetitia lacrimae prosiliunt mihi «от радости у меня брызнули слезы». Разве можно сказать, что «нечто» помещается «перед» радостью? А этого требовало бы объяснение Бругмана. Согласно этому толкованию, мысль «я плачу от радости» следовало бы передать по-латыни «я плачу перед радостью, (находясь) перед лицом радости». На каком языке выражаются подобным образом? Это не только странно, но и логически противоречиво: коль скоро ргае gaudio означает «перед радостью», следовало бы признать, что «перед радостью» равносильно «вследствие радости», а значит, предлог, выражающий причину, служит для указания на следствие. Другими словами, если ргае gaudio означает «перед лицом радости» и если ргае указывает на то, что предшествует и что является причиной, то отсюда следует, что во фразе ргае gaudio lacrimae prosiliunt mihi слезы предшествуют радости и вызывают ее. Таков результат объяснения, опирающегося на ошибочную точку зрения и приводящего к путанице. Следовательно, мы не можем вслед за Гофманом (J. В. Hofmann) считать, что причинное значение развилось «из пространственно-временного». Не удалось также решить вопрос и об употреблении ргае в сравнительном значении, исходя из предположения, что ргае со значением «перед» могло привести к значению «(на)против, в сравнении с». И здесь ошибка в рассуждении появляется из-за двусмысленности перевода ргае как «перед». Напомним, что ргае ни в коем случае не означает «перед» в смысле
жать и сравнение: videbant omnes prae illo parvi futuros «они увидели, что по сравнению с ним всем предстоит иметь малое значение» (Nep., Eum., 10). Мы имеем здесь дело с такими употреблениями ргае, которых нет у pro и истоки которых следует искать только в собственном значении ргае. Но их происхождение непросто обнаружить, и нужно прямо сказать, что ни одно из приводившихся в литературе до сих пор объяснений не способствует пониманию этих употреблений. Б. Кранц (В. К г a n z) надеется выйти из положения, предположив, будто ргае со значением причины употребляется вместо prae(sente), что представляется совершенно неправдоподобным. По мнению Бругмана, при решении этого вопроса нужно исходить из пространственного значения: «Etwas stellt sich vor etwas und wird dadurch Anlafi und Motiv fur etwas» («Нечто помещается перед чем-то другим и тем самым становится поводом и причиной этого другого») 4. Не возникает ли здесь ошибки в результате двусмысленного определения? Что значит «vor etwas» {«.перед чем-то»)? Создается впечатление, что ргае может означать предшествование одного события другому, и поэтому — причину, но это невозможно. Ошибочность этого рассуждения становится очевидной, как только мы попробуем применить его к переводу какого-нибудь конкретного примера. Так, у Плавта: ргае laetitia lacrimae prosiliunt mihi «от радости у меня брызнули слезы». Разве можно сказать, что «нечто» помещается «перед» радостью? А этого требовало бы объяснение Бругмана. Согласно этому толкованию, мысль «я плачу от радости» следовало бы передать по-латыни «я плачу перед радостью, (находясь) перед лицом радости». На каком языке выражаются подобным образом? Это не только странно, но и логически противоречиво: коль скоро ргае gaudio означает «перед радостью», следовало бы признать, что «перед радостью» равносильно «вследствие радости», а значит, предлог, выражающий причину, служит для указания на следствие. Другими словами, если ргае gaudio означает «перед лицом радости» и если ргае указывает на то, что предшествует и что является причиной, то отсюда следует, что во фразе ргае gaudio lacrimae prosiliunt mihi слезы предшествуют радости и вызывают ее. Таков результат объяснения, опирающегося на ошибочную точку зрения и приводящего к путанице. Следовательно, мы не можем вслед за Гофманом (J. В. Hofmann) считать, что причинное значение развилось «из пространственно-временного». Не удалось также решить вопрос и об употреблении ргае в сравнительном значении, исходя из предположения, что ргае со значением «перед» могло привести к значению «(на)против, в сравнении с». И здесь ошибка в рассуждении появляется из-за двусмысленности перевода ргае как «перед». Напомним, что ргае ни в коем случае не означает «перед» в смысле
 4 К. Brugmann, GrundriB der vergleichenden Grammatik der indogermani-schen Sprachen, 2-е изд., II, 2, стр. 881, § 692 В.
4 К. Brugmann, GrundriB der vergleichenden Grammatik der indogermani-schen Sprachen, 2-е изд., II, 2, стр. 881, § 692 В.
«напротив», который и подразумевается как раз при сравнении одного объекта с другим; предлог ргае не мог указывать на противопоставление двух разных объектов по той простой причине, что он отражает неразрывность, а следовательно, единство объекта. Всякое объяснение, игнорирующее этот важнейший момент, просто обходит проблему, а не решает ее.
Отклонив разобранные псевдообъяснения проблемы, обратимся для решения вопроса к признакам, характеризующим общее значение этого предлога. И ргае со значением причины, и сравнительное ргае должны найти объяснение в той же самой сублогической схеме, которая лежит в основе его обычных употреблений. Рассмотрим сначала причинное значение. В каких пределах ргае способно выражать причину? Каждый латинист знает, что ргае не может замещать ни ob, ни erga, ни causa в их обычных функциях. Невозможно было бы заменить ob earn causam «по этой причине» через *prae ea causa. Как же в этом случае определяется функция ргае? Рассмотрим все относящиеся к этому случаю примеры у Плавта:
ргае laetitia lacrimae prosiliunt mihi (Stich., 446);
neque miser me commovere possum prae formidine (Amph., 337);
ego miser vix asto prae formidine (Capt., 637);
prae lassitudine opus est ut lavem (True, 328);
prae maerore adeo miser atque aegritudine consenui (Stich., 215);
terroremeo occidistis prae metu (Amph., 1066);
prae metu ubi sim nescio (Cas., 413);
prae timore in gertua in undas concidit (Rud., 174);
omnia corusca prae tremore fabulor (Rud., 526).
Тотчас становится ясно, что это употребление подчиняется жестким условиям: 1) в роли дополнения причинного ргае всегда выступает слово, обозначающее какое-то чувство (laetitia, formido, lassitudo, maeror, metus, terror, tremor, timor); 2) это чувство воздействует всегда на субъект глагольного действия. Таким образом, условие, которым характеризуется ргае, указывает на внутреннее и «субъективное» соотношение субъекта с глагольным действием, поскольку субъект действия выступает как носитель этого чувства. Когда ргае выражает причину, эта последняя не мыслится объективно вне субъекта и не связывается с каким-то внешним фактором, а заключается в некотором чувстве субъекта, точнее, зависит от определенной степени этого чувства. В самом деле, все примеры подчеркивают крайнюю степень испытываемого субъектом чувства. Это и есть объяснение ргае, которое означает буквально «на крайней линии, на острие» той или иной эмоции, а следовательно, «на пределе». Именно этот смысл подходит ко всем примерам: prae laetitia lacrimae prosiliunt mihi «от крайне сильной радости («на пределе
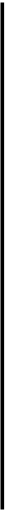 |
 радости») у меня брызнули слезы»; cor Ulixi frixlt prae pavore «сердце Улисса оцепенело от крайне сильного страха», и т. д. Этот ряд можно продолжить без всякого исключения многими примерами из разных авторов: vivere non quit prae made (Lucr., IV, 1160); ргае iracundia non sum apud me «от крайне сильного гнева я не владею собой» (Тег., Heaut., 920); ргае amore exclusti hunc foras «от чрезмерной любви ты прогнала его вон» (Eun., 98); oblitae prae gaudio decoris «забив приличия от чрезмерной радости» (Liv., IV, 40); in proelio prae ignavia tubae sonitum perferre non potes (Auct. ad Her., IV, 21); ex imis pulmonibus prae cura spiritus du-cebat (там же, IV, 45); nee divini humanive iuris quicquam prae impotenti ira est servatum (Liv., XXXI, 24); vix sibimet ipsi prae necopinato gaudio credentes (там же, XXXIX, 49), и т. д. Всюду выступает тот же «пароксический» смысл, который является не чем иным, как частным случаем общего значения предлога ргае. Указывая на движение к передней и выдвинутой вперед части нераздельного объекта, ргае тем самым как бы ставит другую часть этого объекта в положение худшей части; поэтому негативные выражения и преобладают: non me commovere possum prae formi-dine «от крайне сильного испуга я не могу пошевелиться». Таким образом, неправомерно в подобных случаях говорить о причинном значении. Ргае не вводит объективную причину; он указывает только вершину, предел, следствием которого и является определенное, главным образом негативное состояние субъекта.
радости») у меня брызнули слезы»; cor Ulixi frixlt prae pavore «сердце Улисса оцепенело от крайне сильного страха», и т. д. Этот ряд можно продолжить без всякого исключения многими примерами из разных авторов: vivere non quit prae made (Lucr., IV, 1160); ргае iracundia non sum apud me «от крайне сильного гнева я не владею собой» (Тег., Heaut., 920); ргае amore exclusti hunc foras «от чрезмерной любви ты прогнала его вон» (Eun., 98); oblitae prae gaudio decoris «забив приличия от чрезмерной радости» (Liv., IV, 40); in proelio prae ignavia tubae sonitum perferre non potes (Auct. ad Her., IV, 21); ex imis pulmonibus prae cura spiritus du-cebat (там же, IV, 45); nee divini humanive iuris quicquam prae impotenti ira est servatum (Liv., XXXI, 24); vix sibimet ipsi prae necopinato gaudio credentes (там же, XXXIX, 49), и т. д. Всюду выступает тот же «пароксический» смысл, который является не чем иным, как частным случаем общего значения предлога ргае. Указывая на движение к передней и выдвинутой вперед части нераздельного объекта, ргае тем самым как бы ставит другую часть этого объекта в положение худшей части; поэтому негативные выражения и преобладают: non me commovere possum prae formi-dine «от крайне сильного испуга я не могу пошевелиться». Таким образом, неправомерно в подобных случаях говорить о причинном значении. Ргае не вводит объективную причину; он указывает только вершину, предел, следствием которого и является определенное, главным образом негативное состояние субъекта.
Одновременно появляется возможность истолковать сравнительное употребление ргае. Важно лишь предварительно подчеркнуть обстоятельство — отмеченное, насколько нам известно, одним только Риманом 5,— которое заключается в tqm, что, «как правило, ргае присоединяется к тому из двух слов, которое обозначает более вксокую степень чего-либо по сравнению с другим». Исходя из этого, легко понять связь данного употребления предлога ргае с предыдущим, например, в такой фразе из Цезаря: Gallis prae mag-nitudine corporum suorum brevitas nostra contemptui est «у галлов наш маленький рост против (по сравнению с) их высокого стана вызывает пренебрежение» (В. G., II, 30, 4). И здесь тоже появляется идея «крайней степени», которая реализуется в сравнительной функции ргае, так как prae magnitudine означает «из-за крайне больших их размеров = столь велик их рост (что мы им кажемся маленькими)». Расширяя это употребление, ргае получает затем возможность сочетаться с каким угодно именем и даже местоимением, чем подчеркивается всякий раз превосходство: omnium un-guentum prae tuo nauteast (PI., Cure, 99); sol occaecatust prae huius corporis candoribus (PI., Men., 181); pithecium est prae ilia (PI., Mil., 989); te... volo adsimulare prae illius forma quasi spernas tuam (там же, 1170); solem prae multitudine iaculorum non vide-
bitis (Cic); omnia prae divitiis humana spernunt (Liv., Ill, 26, 7). И наконец, мы добрались до сравнительного употребления: поп sum dignus prae te (PL, Mil., 1140). Все это выводится из общего значения самого ргае и отличается от так называемого причинного ргае фактически только одним признаком: если в предыдущем случае ргае управляет абстрактным словом, обозначающим состояние субъекта, то здесь благодаря расширению сферы употребления ргае связывается с объектом, внешним по отношению к субъекту. Таким образом, два типа употреблений соотнесены друг с другом, от prae gaudio loqui nequit «от крайне сильной радости он не может говорить», через (промежуточную) ступень prae candoribus tuis sol occaecatust «от крайнего блеска твоей славы меркнет солнце», мы приходим к выражению prae te pitheciumst «против тебя (по сравнению с тобой) она обезьяна».
Итак, все случаи употребления ргае укладываются в рамки некоторого постоянного определения. Мы хотели показать на примерах, что при изучении предлогов любого языка любой эпохи новая техника описания необходима и возможна, и ее использование позволяет воссоздать структуру каждого из предлогов и объединить эти структуры в единую общую систему. Эта задача обязывает заново интерпретировать все известные факты и заново сформулировать привычные категории.
 154
154
Riemann, Syntaxe latine, стр. 195, п. 1.
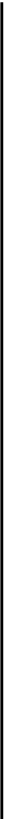 ГЛАВА XIII
ГЛАВА XIII
К АНАЛИЗУ ПАДЕЖНЫХ ФУНКЦИЙ: ЛАТИНСКИЙ ГЕНИТИВ
Чтобы продемонстрировать путаницу, царящую в традиционных классификациях, А. В. де Гроот поочередно рассматривает около тридцати различных случаев… А. Собственно генитив: eloquentia hominis «красноречие человека». 1 A. W. de Groot, Classification of the Uses of a Case illustrated on the Ge nitive in Latin, «Lingua», VI, 1956,…I
 такое значение, как «намерение»? В действительности же это значение вытекает из совокупности синтаксических компонентов, окружающих этот генитив, а также из самой функции прилагательного на -ndus. Выясняется также, что еще большую роль, чем казалось на первый взгляд, играют при этом семантические факторы. Примером может служить употребление у Теренция (Ad., 270), которое надо процитировать полностью: vereorcoram in os te laudareamplius| ne id assentandi magis quam quo habeam gratum facere existumes «я опасаюсь тебя хвалить больше прямо в лицо, чтобы ты не подумал, что я это делаю скорее из мести, чем из благодарности». Значение «намерения», приписываемое генитиву assentandi l0, вводится одновременно антецедентом facere и параллельным, на этот раз явно выраженным членом quo (=ut или quia) habeam. Приводят также случай из Ливия (IX, 45, 18): ut Marrucini mitterent Romam oratores pacis petendae. Здесь надо принять во внимание как глагол mittere, который ориентирует синтагму pacis petendae на функцию «назначения», так и, может быть еще больше, oratores, ибо в древнем языке термин orator по семантическим причинам требовал именного определения в генитиве: foederum, pacis, belli, indutia-rum oratores fetiales u. На «оратора» возлагалась миссия потребовать чего-либо или предложить что-либо от имени тех, кто его посылает; это слово обязательно требует при себе генитива: orator alicuius rei. Вот почему можно сказать просто orator pacis в значении «парламентер, которому поручено просить мира»; например, у Ливия (IX, 43): ad senatum pacis oratores missi. Тогда приведенный выше пример: ut mitterent Romam oratores pacis petendae— может и не содержать обсуждаемой конструкции, если в одной определительной синтагме можно было объединить oratores pacis petendae, что было бы расширением синтагмы oratores pacis.
такое значение, как «намерение»? В действительности же это значение вытекает из совокупности синтаксических компонентов, окружающих этот генитив, а также из самой функции прилагательного на -ndus. Выясняется также, что еще большую роль, чем казалось на первый взгляд, играют при этом семантические факторы. Примером может служить употребление у Теренция (Ad., 270), которое надо процитировать полностью: vereorcoram in os te laudareamplius| ne id assentandi magis quam quo habeam gratum facere existumes «я опасаюсь тебя хвалить больше прямо в лицо, чтобы ты не подумал, что я это делаю скорее из мести, чем из благодарности». Значение «намерения», приписываемое генитиву assentandi l0, вводится одновременно антецедентом facere и параллельным, на этот раз явно выраженным членом quo (=ut или quia) habeam. Приводят также случай из Ливия (IX, 45, 18): ut Marrucini mitterent Romam oratores pacis petendae. Здесь надо принять во внимание как глагол mittere, который ориентирует синтагму pacis petendae на функцию «назначения», так и, может быть еще больше, oratores, ибо в древнем языке термин orator по семантическим причинам требовал именного определения в генитиве: foederum, pacis, belli, indutia-rum oratores fetiales u. На «оратора» возлагалась миссия потребовать чего-либо или предложить что-либо от имени тех, кто его посылает; это слово обязательно требует при себе генитива: orator alicuius rei. Вот почему можно сказать просто orator pacis в значении «парламентер, которому поручено просить мира»; например, у Ливия (IX, 43): ad senatum pacis oratores missi. Тогда приведенный выше пример: ut mitterent Romam oratores pacis petendae— может и не содержать обсуждаемой конструкции, если в одной определительной синтагме можно было объединить oratores pacis petendae, что было бы расширением синтагмы oratores pacis.
Идя далее по линии обобщения, мы должны одновременно рассматривать конструкцию генитив -f- герундий или прилагательное на -ndus и конструкцию, зависящую от глагола esse в таком обороте, как cetera minuendi luctus sunt «другие (законодательные распоряжения) предназначены для ограничения траура» (Цицерон), где предикативная синтагма с генитивом и esse относится к выражениям «принадлежности» (ср. ниже). Существует много примеров, когда генитив в простых или сложных выражениях зависит то от непосредственных синтаксических антецедентов, то от предикативных оборотов и когда вся конструкция близка к рассматриваемой
здесь п. К ним, даже если оставить в стороне подражание греческому обороту той + инфинитив, следует отнести «генитив намерения». В силу весьма жестких ограничительных условий употребления его нельзя считать автономным типом употребления; если абстрагироваться здесь от герундия или причастия на -ndus, мы получим просто генитив зависимости.
О «генитиве типа лица», который выделяется де Гроотом (стр. 43 и ел.) в функции указания на типичное качество класса лиц, заметим, что он свойствен лишь одному классу выражений: pauperis est numerare pecus; — est miserorum ut invideant bonis; — constat virorum esse fortium toleranter dolorem pati; — GalliCae consue-tudinis est... и т. д.
Семантическая особенность («типичное качество класса лиц») не есть первичное данное; она представляется нам результатом предикативной конструкции генитива, которая и является главной характерной особенностью. Это заставляет пойти по пути другого толкования. Генитив-предикат при глаголе esse обозначает «принадлежность»: haec aedes regis est «этот дом — царя» 13. Если существительное в роли подлежащего заменяется инфинитивом, то получается конструкция hominis est (errare) «человеку свойственно..., принадлежностью человека является (заблуждаться)». Следовательно, мы обнаруживаем в этом употреблении подкласс «предикации принадлежности», где синтаксическая вариация (инфинитив в роли подлежащего) ничего не меняет в отличительной характерной черте — употреблении генитива,— которая остается той же самой. Сам же этот предикативный генитив в конструкции с esse есть не что иное, как синтаксический дериват так называемого «посессивного» генитива: именно нормальное употребление генитива — aedes regis — и делает возможной конструкцию haec aedes regis est; отношение, установленное между aedes и regis, остается тем же самым, когда от определительной синтагмы aedes regis «дом царя» совершается переход к утвердительному высказыванию: haec aedes regis est «этот дом —- царя; это — дом царя» — и отсюда к варианту этого высказывания: pauperis est numerare pecus «(дело) бедных — пересчитывать скотину».
Мы не видим также достаточных оснований для выделения в особую категорию «генитива совокупности лиц» («genitive of the set of persons»), на который, впрочем, указывалось лишь с оговоркой 14, поскольку он не имеет ни одной грамматической особен-

 10 В комментарии к этому примеру де Гроот, цит. соч., стр. 46—47, толкует id
10 В комментарии к этому примеру де Гроот, цит. соч., стр. 46—47, толкует id
как дополнение к assentandi: «He очень ясен случай с субстантивным местоимением
среднего рода при генитиве герундия — id assentandi... [стр. 47]. Таким образом,
id assentandi можно в некотором роде рассматривать как эквивалент eius rei assen
tandi; однако примеров последней конструкции нет, как нет и примеров глагола
assentari с прямым дополнением, выраженным существительным — assentarl ali-
quam rem». В действительности id не является и не могло бы являться дополнением
к assentandi; фраза была бы непонятной; очевидно, id надо относить к facere.
11 Cic, Leg., II, 9.
12 См., в частности, A. Ernout, «Philologica», стр. 217 и ел., где дается хоро
ший подбор примеров. Ср. также Ernout — Thomas, Syntaxe latine, стр. 225—
226.-
13 Принадлежность, падежом которой является генитив, следует тщательно
отличать от обладания, которое выражается дативом предиката; ср. «Archiv Orien-
talni», XVII, 1949, стр. 44-45.
14 Де Гроот, цит. соч., стр. 42: «...если я прав, считая это отдельной грамма
тической категорией...»
6 Бенвенист
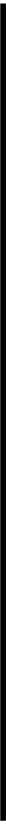 ности, которая отделяла бы его от обычного генитива. Между arbor horti «дерево сада», с одной стороны, и primus equitum «первый из всадников», plerique hominum «большая часть, многие из людей» — с другой, разница только лексическая, поскольку выбор unus «один» (duo «два» и т. д.) или plerique «большая часть» (multi «многие» и т. д.) предсказывает, что определяющее будет обозйачать «set of persons» («совокупность лиц») (ограничительное условие — «лиц», а не «вещей», является фактом узуса, а не грамматики). Можно было бы лишь внутри «нормальных» случаев употребления генитива соединить эти синтагмы в одну подгруппу на том основании, что определяемым членом в них является местоимение, числительное или прилагательное (прилагательное по синтаксической позиции), чтобы тем самым отличить их от синтагм из двух существительных,
ности, которая отделяла бы его от обычного генитива. Между arbor horti «дерево сада», с одной стороны, и primus equitum «первый из всадников», plerique hominum «большая часть, многие из людей» — с другой, разница только лексическая, поскольку выбор unus «один» (duo «два» и т. д.) или plerique «большая часть» (multi «многие» и т. д.) предсказывает, что определяющее будет обозйачать «set of persons» («совокупность лиц») (ограничительное условие — «лиц», а не «вещей», является фактом узуса, а не грамматики). Можно было бы лишь внутри «нормальных» случаев употребления генитива соединить эти синтагмы в одну подгруппу на том основании, что определяемым членом в них является местоимение, числительное или прилагательное (прилагательное по синтаксической позиции), чтобы тем самым отличить их от синтагм из двух существительных,
Совсем другая проблема встает в связи с генитивом, определяющим причастие активного залога: laboris fugiens «бегущий труда (уклоняющийся от работы)», cupiens nuptiarum «жаждущий бракосочетания», neglegens religionis «пренебрегающий религией» и т. д. Де Гроот с полным основанием отделяет этот генитив с причастием активного залога от генитива с прилагательным 15. Связь с глаголом — это следует подчеркнуть — является отличительной чертой такого употребления. В приглагольности мы усматриваем здесь коренную функцию. Этот тип синтагм должен быть отделен от всех других и рассматриваться в ином плане. В самом деле, он является отдельным типом в силу того, что дает именную «версию» глагольной конструкции с переходным глаголом: fugiens laboris «бегущий труда» происходит от fugere laborem «бежать труда (уклоняться от труда)», neglegens religionis <neglegere religionem, cupiens nuptiarum <cupere nuptias. Но следует пойти дальше. Надо сопоставить с neglegens religionis «пренебрегающий религией» синтагму neglegentia religionis «пренебрежение религией»; по отношению к глаголу абстрактное имя neglegentia находится в том же положении, что и neglegens, и определяется тем же генитивом. Таким образом, мы можем сказать, что в этом употреблении, отличном от всех других, функция генитива заключается в транспонировании отношения аккузатива — дополнения переходного глагола в отношение зависимости от имени. Это, следовательно, генитив транспозиции, который общностью особого рода соединен с совершенно отличным, но здесь равнозначащим падежом, аккузативом, в силу соответствующих функций каждого. Строго говоря, результатом транспозиции является не один только генитив, а вся синтагма «причастие (или имя действия) + генитив»; термин «генитив транспозиции» следует понимать с этой оговоркой. Такой
 16 Цит. соч., стр. 52.
16 Цит. соч., стр. 52.
тип употребления генитива отличен от всех других типов употребления именно в силу того, что он происходит от другого, транспонированного падежа, поскольку глагольное управление стало именным определением. Так как два названные класса имен (причастие активного залога и имя действия) находятся в зависимости от глагола, а не наоборот, то синтагмы, образуемые ими в сочетании с генитивом, должны рассматриваться как производные от управления личного глагола в результате транспозиции: tolerans frigoris «выносящий холод» и tolerantia frigoris «выносливость к холоду» возможны лишь на основе tolerare frigus «выносить холод». Следовательно, мы должны выделить здесь генитив в специфической функции, вытекающей из конверсии личной глагольной формы в именную форму причастия или абстрактного существительного.
Однако, если в это употребление включают отглагольные существительные, нет никакого основания ограничиваться существительными, производными от переходных глаголов. Отглагольные существительные от непереходных глаголов также должны занять свое место рядом с ними, и их определяющий член в генитиве должен равным образом рассматриваться по отношению к соответственной падежной форме глагольной синтагмы. Однако на этот раз падежная форма, транспонируемая в генитив, является уже не аккузативом, а номинативом: adventus consulis «прибытие консула» происходит из consul advenit «консул прибывает», ortus solis «восход солнца» — из sol oritur «солнце восходит». Определяющий генитив транспонирует здесь не аккузатив — дополнение, а номинатив — подлежащее.
Отсюда вытекает два следствия. Во-первых, в рассмотренном употреблении генитива в результате транспозиции совпадают два противоположных падежа: аккузатив — дополнение переходного глагола и номинатив — подлежащее непереходного глагола. Оппозиция номинатив ~ аккузатив, основополагающая в глагольной синтагме, формально и синтаксически нейтрализуется в приименном определяющем генитиве. Но она отражается в логико-семантическом отличии «субъектного генитива» от «объектного генитива»: patientia animi «терпение души» <animus patitur «душа терпит, сносит»; patientia doloris «терпение (к) боли» <pati dolorem «терпеть боль».
Во-вторых, мы приходим к мысли, что этот генитив, происходящий из транспонированных номинатива или аккузатива, дает «модель» генитивного отношения вообще. Определяемый член именной синтагмы в вышеприведенных примерах происходит от транспонированной глагольной формы; но, когда схема межименного определительного отношения установилась, положение определяемого члена синтагмы может быть занято любым существительным, а не только существительными, производными от глагольной конвертированной формы. На основе конверсионных синтагм, таких,
6* 163
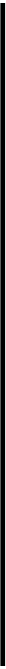 |
| т |
как ludus pueri «игра мальчика» <puer ludit «мальчик играет»; risus pueri «смех мальчика» <puer ridet «мальчик смеется», это отношение может быть далее распространено на somnus pueri «сон мальчика», затем на mos pueri «нрав мальчика» и, наконец, на liber pueri «книга мальчика». Мы считаем, что все употребления генитива порождены этим основным отношением, по своей природе синтаксическим, которое в функциональной иерархии подчиняет генитив номинативу и аккузативу.
Мы видим в конечном счете, что в намеченной здесь концепции функция генитива,определяется как результат транспозиции глагольной синтагмы в именную синтагму; генитив — это падеж, который без дополнительных средств (a lui seul) транспонирует в отношение между двумя именами функцию, которая в высказывании с личным глаголом выполняется или номинативом, или аккузативом. Все другие типы употребления генитива являются, как это мы пытались показать выше, производными от этого последнего, подклассами с частным семантическим значением или вариациями стилистического характера. Особое «значение», связывающееся с каждым из этих типов употребления, также является производным от грамматического значения «зависимости» или «определения» («детерминации»), неотъемлемо присущего основной синтаксической функции генитива.
СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
Со времени появления широко известной статьи А. Мейе, в которой было определено место именного предложения в системах индоевропейских языков и тем… Этот тип предложения не ограничен какой-либо одной семьей или какими-либо…167,
L
 западноевропейские языки), чем те, в которых оно встречается. Именное предложение трудно было бы описать во всех языках идентично. Оно включает разновидности, которые необходимо различать. Но общим является то, что самые разнообразные языковые структуры допускают или требуют, чтобы при определенных условиях глагольный предикат не был выражен или чтобы достаточно было именного предиката. Какой же необходимостью вызван к жизни этот тип предложения, если он встречается в стольких различных языках, и как получилось — вопрос покажется странным, но странность заключена в самих фактах,— что из всех глаголов именно глагол бытия имеет исключительное право присутствовать в высказывании, где он формально не фигурирует? Стоит только немного углубиться в эту проблему, как возникает необходимость рассмотреть во всей совокупности отношения глагола и имени, а также своеобразную природу глагола «быть».
западноевропейские языки), чем те, в которых оно встречается. Именное предложение трудно было бы описать во всех языках идентично. Оно включает разновидности, которые необходимо различать. Но общим является то, что самые разнообразные языковые структуры допускают или требуют, чтобы при определенных условиях глагольный предикат не был выражен или чтобы достаточно было именного предиката. Какой же необходимостью вызван к жизни этот тип предложения, если он встречается в стольких различных языках, и как получилось — вопрос покажется странным, но странность заключена в самих фактах,— что из всех глаголов именно глагол бытия имеет исключительное право присутствовать в высказывании, где он формально не фигурирует? Стоит только немного углубиться в эту проблему, как возникает необходимость рассмотреть во всей совокупности отношения глагола и имени, а также своеобразную природу глагола «быть».
Что касается различия между глаголом и именем, часто подвергаемого сомнению то предлагаемые формулировки сводятся обычно к одной из следующих двух: глагол указывает процесс, имя — объект; или же: глагол связан с временем, имя — времени не подразумевает. Мы не первые утверждаем, что оба эти определения неприемлемы для лингвиста. Необходимо кратко показать почему.
Противопоставление «процесса» и «объекта» не может иметь в лингвистике ни универсальной силы, ни единого критерия, ни даже ясного смысла. Дело в том,, что такие понятия, как процесс или объект, не воспроизводят объективных свойств действительности, но уже являются результатом языкового выражения действительности, а это выражение не может не быть своеобразным в каждом языке. Это не свойства, внутренне присущие природе, которые языку остается лишь регистрировать, это категории, возникшие в некоторых языках и спроецированные на природу. Различие между процессом и объектом обязательно только для того, кто рассуждает исходя из классификаций своего родного языка, которые он превращает в универсальные явления; но даже такой человек, если его спросить, на чем основано это различие, вынужден будет скоро признать, что если «лошадь» — объект, а «бежать»— процесс, то это потому, что первое—-имя, а второе — глагол. Определение, которое стремится к «естественному» обоснованию того способа, при помощи которого тот или иной конкретный язык организует свои понятия, обречено вращаться в порочном кругу. Впрочем, достаточно приложить такое определение к языкам другого типа, чтобы увидеть, что отношение между объектом и процессом может оказаться обратным или даже вообще исчезнуть, а грамматические отношения останутся теми же. Так, в языке
 1 Из последних работ см. некоторые статьи в «Journal de psychologies, 1950 (выпуск, озаглавленный «Грамматика и психология» — «Grammaire et psychologies).
1 Из последних работ см. некоторые статьи в «Journal de psychologies, 1950 (выпуск, озаглавленный «Грамматика и психология» — «Grammaire et psychologies).
L
хупа (Орегон) активные или пассивные глагольные формы 3-го лица употребляются как имена: папуа «он спускается» — название «дождя»; nillifi «он течет» — означает «ручеек»; naxowilloi6 «прикреплено вокруг него» — значит «пояс» и т. п. 2. В языке зуни имя yatoka «солнце» представляет собой глагольную форму от yato-«проходить, пересекать» 3. И обратно, глагольные формы могут закрепляться за понятиями, которые не соответствуют тому, что мы назвали бы процессом. В языке сиуслав (Орегон) частицы типа waha «снова», уааха «много» спрягаются как глаголы 4. Во многих американоиндейских языках спрягаются прилагательные, вопросительные местоимения и особенно числительные. Как же тогда лингвистически определить объекты и процессы?
Эти замечания пришлось бы повторить и по поводу второго определения, в котором отличительной чертой глагола признается выражение времени. Никто не будет отрицать, что в ряде языковых семей глагольная форма обозначает, в числе прочих категорий, и категорию времени. Из этого, однако, не следует, что время должно выражаться глаголом обязательно. Известны языки, как, например, хопи, где глагол не подразумевает абсолютно никакой временной отнесенности, имея только видовые различия 6; в других языках, например в языке тюбатулабал (той же уто-ацтекской группы, что и хопи), наиболее отчетливо прошедшее время выражается не в глаголе, а в имени: hanH «дом», hani-prl «дом в прошлом» (=то, что было домом и больше им не является) 6. Нефлективные языки отнюдь не единственные, в которых время выражается не глаголом. Даже там, где глагол существует, он может не иметь временной функции и время может выражаться иначе, не при помощи глагола.
Из этого следует также, что различение имени и глагола нельзя основывать на эмпирическом анализе фактов морфологии. То, как имя и глагол различаются в том или ином языке (специальными морфемами или сочетаемостью и т. д.), или тот факт, что в каком-то третьем языке имя и глагол формально не различаются,— зсе это не дает никакого критерия для определения их различия и не позволяет даже сказать, действительно ли такое различие необходимо существует. Если бы удалось описать одну за другой все морфологические системы, то пришлось бы констатировать только, что в одних языках глагол и имя различаются, а в других — нет и что существует некоторое количество промежуточных случаев. Факты не раскрыли бы нам ни основания для такого различия там, где оно имеется, ни его сущности.
 2 Ср. Goddard, Handbook of the American Indian Languages [далее HAIL],
2 Ср. Goddard, Handbook of the American Indian Languages [далее HAIL],
I, стр. 109, § 23.
3 Bunzel, HAIL, III, стр. 496.
4 Frachtenberg, HAIL, II, стр. 604.
6 Ср. Whorf, Linguistic Structures of Native Americans, стр. 165.
Voegelin, Tubatulgbal Grammar, стр. 164.
 Поэтому для характеристики противопоставления глагола и имени как таковых, независимо от типа языка, мы не вправе использовать ни такие понятия, как объект и процесс, ни такие категории, как время, ни морфологические различия. Тем не менее искомый критерий существует, и он носит синтаксический характер. Он связан с функцией глагола в высказывании.
Поэтому для характеристики противопоставления глагола и имени как таковых, независимо от типа языка, мы не вправе использовать ни такие понятия, как объект и процесс, ни такие категории, как время, ни морфологические различия. Тем не менее искомый критерий существует, и он носит синтаксический характер. Он связан с функцией глагола в высказывании.
Мы определим глагол как необходимый элемент построения законченного утвердительного высказывания. Чтобы избежать опасности порочного круга в определении, укажем сразу же, что законченное утвердительное высказывание обладает по крайней мере двумя независимыми формальными характеристиками: 1) оно произносится между двумя паузами; 2) оно имеет типовую интонацию «законченности», которая в каждом языке противопоставляется другим интонациям, в равной степени типовым (незаконченности, вопроса, восклицания и т. п.).
Глагольная функция (в том виде, как мы ее определили) оказывается в известной степени независимой от глагольной формы, хотя часто они совпадают. Задача как раз и состоит в том, чтобы установить точное соотношение между этой функцией и этой формой. Внутри утвердительного высказывания глагол выполняет двоякую функцию: функцию связи (fonction cohesive), которая заключается в организации элементов высказывания в единую законченную структуру; и функцию утверждения существования (fonction assertive), придающую высказыванию предикат реальности. Первая функция не нуждается в других определениях. Не менее важна, хотя и в другом плане, функция утверждения. Законченное утверждение в силу того только факта, что это утверждение, подразумевает отношение высказывания к другому ряду явлений — к действительности. К грамматической связи, объединяющей члены высказывания, имплицитно добавляется «это есть!-», которое устанавливает связь между языковым рядом и системой действительности. Содержание высказывания дается как соответствующее порядку вещей. Таким образом, синтаксическая структура законченного утвердительного предложения позволяет различить два плана: план грамматической связанности, где глагол выполняет функцию связующего элемента, и план утверждения реальности, откуда глагол получает свою функцию утверждающего элемента. В законченном утвердительном высказывании глагол обладает этими двумя качествами.
Следует подчеркнуть, что данное определение исходит из существенной синтаксической функции глагола, а не из его материальной формы. Функция глагола всегда налицо, какими бы ни были морфологические особенности глагольной формы. Если, например, в венгерском языке форма объектного спряжения varo-m «я его жду» параллельна именной посессивной форме karo-m «моя рука», a kere-d «ты его просишь» форме vere-d «твоя кровь», то эта особенность примечательна сама по себе; но сходство объектной
глагольной формы и посессивной именной формы не должно затемнять того факта, что только формы varom и kered могут образовать законченные утвердительные предложения, а ни karom, ни vered не могут, и этого достаточно, чтобы отличить глагольные формы от тех, которые таковыми не являются. Более того, для осуществления глагольной функции вовсе не обязательно, чтобы в языке глагол выделялся морфологически, потому что любой язык, какова бы ни была его структура, способен производить законченные утвердительные предложения. Из этого следует, что морфологическое различие между глаголом и именем является вторичным по отношению к различию синтаксическому. В иерархии функций важно прежде всего то, что только некоторые формы способны создавать законченные утвердительные предложения. Может случиться и действительно часто случается, что подобные формы характеризуются сверх того еще и морфологическими показателями. Тогда различие глагола и имени переходит и в формальный план и появляется возможность определить глагольную форму строго морфологически. Такова ситуация в языках, где глагол и имя имеют разные структуры и где глагольная функция, как мы ее понимаем, находит поддержку в форме глагола. Но для своей реализации в высказывании эта функция не нуждается в специфически глагольной форме.
Теперь можно более точно описать функциональную структуру глагольной формы в утвердительном высказывании. Она включает два элемента — один материально выраженный и переменный, другой — имплицитный и постоянный. Переменной, величиной является глагольная форма как материальный факт: переменной в отношении семантического выражения, переменной в отношении количества и природы выражаемых ею категорий — времени, лица, вида и т. п. В этой переменной величине заключен инвариант, неотъемлемая принадлежность утвердительного высказывания: утверждение соответствия между данным грамматическим целым и утверждаемым фактом. Именно это соединение переменного (варианта) и постоянного (инварианта) позволяет глагольной форме иметь функцию формы, утверждающей существование, в законченном высказывании.
Каково же соотношение между этим синтаксическим свойством и морфологически охарактеризованной глагольной формой? Здесь нужно различать величину (протяженность) форм и их природу. Минимальное утвердительное высказывание может совпадать по величине с минимальным синтаксическим элементом, но сущность этого минимального синтаксического элемента заранее не определена. В латинском языке утвердительное высказывание dixi «я сказал» можно рассматривать как минимальное. С другой стороны, dixi — это минимальный синтаксический элемент, в том смысле, что в синтагме, куда входит dixi, мы не можем установить синтаксическую единицу более низкого ранга. Из этого следует, что
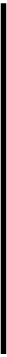 |
 минимальное высказывание dixi совпадает с минимальным синтаксическим элементом dixi. При этом в латинском языке утвердительное предложение dixi, равное по величине синтаксической единице dixi, оказывается совпадающим в то же время с глагольной формой dixi. Но для образования одночленного утвердитель.-ного высказывания вовсе не обязательно, чтобы этот член совпадал, как в приведенном примере, с формой, имеющей глагольный характер. В других языках он может совпасть с формой именной.
минимальное высказывание dixi совпадает с минимальным синтаксическим элементом dixi. При этом в латинском языке утвердительное предложение dixi, равное по величине синтаксической единице dixi, оказывается совпадающим в то же время с глагольной формой dixi. Но для образования одночленного утвердитель.-ного высказывания вовсе не обязательно, чтобы этот член совпадал, как в приведенном примере, с формой, имеющей глагольный характер. В других языках он может совпасть с формой именной.
Уточним сначала это обстоятельство. В языке илокано (Филиппины) 7 существует прилагательное mabisin «голодный». Для двух первых лиц утвердительное высказывание может содержать именную форму с местоименным аффиксом: ari'-ak «король-я» (= я король); mabisin-ak «голодный-я» (= я голоден). Но в 3-м лице, которое имеет нулевой местоименный показатель, то же высказывание оформляется как mabisin «он голоден». Перед нами, таким образом, минимальное утвердительное предложение mabisin «он голоден», совпадающее не с глагольной формой, но с формой именной — прилагательным mabisin «голодный». Точно так же в языке тюбатулабал именная форма ta4wal «человек» может функционировать как утвердительное высказывание в оппозиции, где меняется только показатель лица: ta-twal-gi «человек-я» (= я человек), ta-twal «человек [-он]» (= он человек). Или с формой именной, которая снабжена суффиксом прошедшего времени: fikapiganan-gi «едок прошедшее время-я» (= я тот, кто ел); tikapiganan «едок прошедшее время [-он]» (= он тот, кто ел) 8. Здесь также минимальное утвердительное высказывание совпадает с таким синтаксическим элементом, который с морфологической точки зрения принадлежит к классу имен. Форма, имеющая морфологические характеристики имени, с точки зрения синтаксиса выполняет функцию глагола.
Таким образом, мы подошли собственно к проблеме именного предложения.
До сих пор, рассматривая глагол, его природу и его функции, мы намеренно оставляли в стороне вопрос о глаголе «быть». Приступая теперь к анализу именного предложения, мы также не будем его затрагивать. Если мы хотим рассеять туман, окутавший эту проблему, мы должны полностью отделить изучение именного предложения от изучения предложения с глаголом «быть». Это два разных типа, которые в некоторых языках сближаются, но отнюдь не везде и не обязательно. Предложение с глаголом «быть» — это глагольное предложение, подобное всем другим глагольным пред-
 7 Ср. L. Bloomfield, «Language», XVIII, 1942, стр. 196.
7 Ср. L. Bloomfield, «Language», XVIII, 1942, стр. 196.
8 Ср. Voegelin, цит. соч., стр. 149, 162.
ложениям. Его нельзя без опасности впасть в противоречие рассматривать как разновидность предложения именного. Высказывание может быть либо именным, либо глагольным. Мы отказываемся поэтому от выражений «чисто именное предложение» или «именное предложение с глаголом «быть», как приводящих к путанице.
Именное предложение имеет разновидности, которые при исчерпывающем описании следует строго различать. Место именного предложения в системе будет различным в зависимости от того, существует ли в данном языке глагол «быть» или нет и, следовательно, является ли именное предложение выражением возможным или выражением необходимым. Необходимо также всегда определять, какова сфера распространения именного предложения в языках — ограничено ли оно 3-м лицом или допустимо во всех лицах. Еще одна важная черта: образуется ли именное предложение свободно или же зависит от фиксированного порядка слов в высказывании. Последний случай представлен в языках, где синтагма из двух элементов выступает как предикативная или атрибутивная в зависимости от порядка следования элементов. Законченное утвердительное предложение здесь всегда является результатом расчленения между субъектом и предикатом, сигнализируемого паузой, а также порядком следования элементов, обратным тому, которого требует атрибутивная связь: др.-ирл. infer maith «хороший человек», но maith infer «этот человек хорош»; турецк. qirmizi ev «красный дом», но ev qirmizi «дом красный»; венг. a meleg viz «горячая вода», но a viz meleg «вода горячая» 9; в языке кус (coos, Орегон) tsayux" tanik (прил. + сущ.) «маленькая река», но tanik tsayuxu «река маленькая» 10 и т. п. Бывает, кроме того, что само именное предложение допускает два варианта, различающихся не смыслом, но только формой — порядком следования элементов. Так, по-древнегречески можно было сказать apicnrov fiev ибсор «самое лучшее — вода» (что засвидетельствовано) или ибсор (isv apicrxov, не меняя при этом ни смысла, ни сущности высказывания, ни формы элементов. В венгерском языке а haz magas «дом большой» может быть выражено также и как magas a haz «большой (есть) дом». Но в тагальском языке (Филиппины) п, хотя там и допустимы оба порядка, они различаются отсутствием или наличием частицы. Можно сказать sumusulat ад bata' «пишущий (есть) ребенок, ребенок пишет», mabait an bata' «хороший (есть) ребенок, ребенок хорош», так же как и aij bata' ay sumusulat (произносится: ад bata у sumusulat), ад bata' ay mabait
 9 Об именном предложении в финно-угорских языках, кроме статьи R. Gau-thiot, MSL, XV, стр. 201—236, см. статью Т. A. Sebeok, «Language», XIX, 1943, стр. 320—327. Ср. также: A. Sauvageot, «Lingua», I, 1948, стр. 225и ел.
9 Об именном предложении в финно-угорских языках, кроме статьи R. Gau-thiot, MSL, XV, стр. 201—236, см. статью Т. A. Sebeok, «Language», XIX, 1943, стр. 320—327. Ср. также: A. Sauvageot, «Lingua», I, 1948, стр. 225и ел.
Ср. Frachtenberg, HAIL, II, стр. 414. 11 Bloomfield, Tagalog Texts, II, стр. 153, § 89.
(произносится: an bata y mabait), без какого-либо различия в значении. Но два последних предложения содержат безударную частицу ау, которая характерна для утвердительного высказывания, в то время как частица ал (по существу, идентичная артиклю) превращает ту же самую последовательность в атрибутивную синтагму; этим ag bata у mabait «ребенок хорош» отличается от ал bata л mabait «ребенок, который хорош, хороший ребенок». Можно было бы отметить и другие различия.
С учетом указанных особенностей проблему именного предложения можно сформулировать лингвистически, опираясь на определение глагола, которое было дано выше. Следует только в целях последовательности описания ограничиться каким-либо одним типом языков. Мы выберем здесь тип древних индоевропейских языков, который, впрочем, не отличается уж очень значительно от некоторых других, в частности финно-угорских языков.
Именное предложение в индоевропейских языках представляет собой законченное утвердительное высказывание, сходное по своей структуре с любым другим высказыванием, имеющим те же синтаксические характеристики. Член, выполняющий глагольную функцию, включает также два элемента: один постоянный, имплицитный (инвариант), который сообщает высказыванию характер утверждения; другой — переменный и эксплицитный — на этот раз является формой, принадлежащей к морфологическому классу имен. В этом единственное отличие именного предложения от такого предложения, в котором глагольную функцию несет форма, принадлежащая к классу глаголов. Это различие касается морфологии, но не функции. С точки зрения функциональной оба типа эквивалентны. Можно поставить знак равенства между omnia praeclara — гага «все прекрасное редко» (или omnia praeclara — quattuor «все прекрасное — четыре», или omnia praeclara — eadem «все прекрасное — одно и то же»), с одной стороны, и omnia praeclara — pereunt «все прекрасное погибает» — с другой, и это не выявит различий ни в структуре высказывания, ни в его утвердительном характере. Мы не видим ничего — кроме силы привычки,— что заставляло бы нас рассматривать omnia praeclara — гага как нечто иное или как нечто менее «регулярное», чем omnia praeclara — pereunt. Как только мы принимаем решение считать их относящимися к одному и тому же типу и тем самым в равной степени правомерными, мы яснее видим, чем они различаются в зависимости от того, выполняет ли глагольную функцию форма из класса глаголов или форма из класса имен.
Различие является следствием тех свойств, которые присущи каждому из указанных классов. В именном предложении элемент, выполняющий функцию утверждения, будучи именем, не способен принимать характеристики, которые несет глагольная форма: временные, личные и др. признаки. Утверждение приобретает свой особый характер именно в силу отсутствия связи с временем, лицом,
наклонением, короче говоря, в силу того, что оно сосредоточено на одном члене, сведенном исключительно к своему семантическому содержанию. Второе следствие состоит в том, что именное утвердительное предложение не может иметь и другого важного свойства глагольного утвердительного предложения, а именно способности устанавливать связь между временем-события и временем речи об этом событии. Именное предложение в индоевропейских языках утверждает некоторое «качество» (в самом широком смысле этого слова) как присущее подлежащему высказывания, но вне всякой временной или другой соотнесенности и вне всякой связи с говорящим.
Строя определение на таких основах, мы тем самым отвергаем и некоторые ходячие взгляды на данный тип высказывания. Сразу делается очевидным, что именное предложение нельзя считать предложением с отсутствующим глаголом. Оно столь же законченно, как и любое глагольное высказывание. Нельзя его считать и предложением с нулевой связкой, потому что нет никаких оснований в индоевропейских языках рассматривать отношение между именным предложением и предложением глагольным с глаголом «быть» как отношение нулевой формы и формы полной. При нашем истолковании omnis homo — mortalis «каждый человек смертен» параллельно к omnis homo — moritur «всякий человек умирает», а отнюдь не является «формой с нулевой связкой» от omnis homo mortalis est «всякий человек смертен есть». Между omnis homo — mortalis и omnis homo mortalis est действительно есть противопоставление, но это противопоставление касается сущности, а не степени. С точки зрения индоевропейских языков, как мы постараемся показать ниже, это два высказывания, различных по типу. Мы не будем также использовать и термин «предложение тождества» (« proposition equationnelle») для всех разновидностей именного предложения. Целесообразнее было бы ограничить его применение теми случаями, когда два члена одного и того же класса образуют равенство, что в индоевропейских языках наблюдается почти исключительно в традиционных устойчивых выражениях (англ. the sooner the better «чем скорей, тем лучше»; нем. Ehestand, Wehestand «брак — ярмо» и т. п.). Иными словами, между субъектом и именным членом, выполняющим глагольную функцию, нет в действительности равенства.
Чтобы завершить наши рассуждения, остается рассмотреть в связи с именным предложением место глагола «быть». Следует самым настоятельным образом подчеркнуть, что при анализе именного предложения необходимо отказаться от какого бы то ни было подразумевания лексического «быть» и пересмотреть привычные способы перевода, навязанные иной структурой современных западноевропейских языков. Научное изучение именного предложения начнется только тогда, когда наступит освобождение от этой зависимости и когда глагол esti э индоевропейских языках
 будет признан таким же глаголом, как и все другие. Он и является таковым, и не только в том, что несет все морфологические признаки своего класса и выполняет ту же синтаксическую функцию, но также и в том, что до того, как он в результате длительного исторического развития пал до положения «связки», он имел определенное лексическое значение. Теперь уже невозможно точно восстановить это значение, но тот факт, что часть форм *es- восходит к *bhu- «расти, увеличиваться», позволяет составить о нем представление. Во всяком случае, даже интерпретируя его как «существовать, иметь реальность» (ср. значение «истинности», связанное с прилагательными др.-исл. sannr, лат. sons, санскр. satya-), мы определяем его вполне достаточно как непереходный, способный к абсолютному употреблению и употреблению в сочетании с прилагательным в приложении. Таким образом, esti в абсолютном употреблении или esti + прилагательное функционирует как многие непереходные глаголы в этой двойной позиции (как, например, казаться, расти, оставаться, пребывать, выступать и т. п.). В латинском языке est mundus «мир существует» образует ряд со stat mundus «мир стоит», fit mundus «мир становится». И в mundus immensus est «мир огромен» («мир огромный есть») форма est может быть заменена формами videtur «кажется», dicitur «считается», apparet «представляется» и т. д. В синтаксическом отношении puer studiosus est «мальчик старателен» и риег praeceps cadit «мальчик стремглав падает» эквивалентны. Чтобы измерить расстояние между утвердительным предложением именным и утвердительным предложением с глаголом «быть», нужно восстановить полное значение и подлинную функцию этого глагола. С точки зрения индоевропейских языков утвердительное предложение с «быть» не является более ясным или более полным вариантом утвердительного именного предложения, так же как второе не представляет собой недостаточной или ущербной формы первого. Возможен и тот и другой тип, но не для одного и того же выражения. Именное утвердительное предложение, внутренне законченное, ставит высказывание вне какой бы то ни было временной или модальной локализации или субъективной связи с говорящим. Что касается глагольного утвердительного предложения, где *esti (3-е лицо) занимает то же положение, что *esmi (1-е лицо) или *essi (2-е лицо) или любая другая временная форма этого же глагола, то здесь в высказывание вводятся все глагольные характеристики и оно ставится в связь с говорящим.
будет признан таким же глаголом, как и все другие. Он и является таковым, и не только в том, что несет все морфологические признаки своего класса и выполняет ту же синтаксическую функцию, но также и в том, что до того, как он в результате длительного исторического развития пал до положения «связки», он имел определенное лексическое значение. Теперь уже невозможно точно восстановить это значение, но тот факт, что часть форм *es- восходит к *bhu- «расти, увеличиваться», позволяет составить о нем представление. Во всяком случае, даже интерпретируя его как «существовать, иметь реальность» (ср. значение «истинности», связанное с прилагательными др.-исл. sannr, лат. sons, санскр. satya-), мы определяем его вполне достаточно как непереходный, способный к абсолютному употреблению и употреблению в сочетании с прилагательным в приложении. Таким образом, esti в абсолютном употреблении или esti + прилагательное функционирует как многие непереходные глаголы в этой двойной позиции (как, например, казаться, расти, оставаться, пребывать, выступать и т. п.). В латинском языке est mundus «мир существует» образует ряд со stat mundus «мир стоит», fit mundus «мир становится». И в mundus immensus est «мир огромен» («мир огромный есть») форма est может быть заменена формами videtur «кажется», dicitur «считается», apparet «представляется» и т. д. В синтаксическом отношении puer studiosus est «мальчик старателен» и риег praeceps cadit «мальчик стремглав падает» эквивалентны. Чтобы измерить расстояние между утвердительным предложением именным и утвердительным предложением с глаголом «быть», нужно восстановить полное значение и подлинную функцию этого глагола. С точки зрения индоевропейских языков утвердительное предложение с «быть» не является более ясным или более полным вариантом утвердительного именного предложения, так же как второе не представляет собой недостаточной или ущербной формы первого. Возможен и тот и другой тип, но не для одного и того же выражения. Именное утвердительное предложение, внутренне законченное, ставит высказывание вне какой бы то ни было временной или модальной локализации или субъективной связи с говорящим. Что касается глагольного утвердительного предложения, где *esti (3-е лицо) занимает то же положение, что *esmi (1-е лицо) или *essi (2-е лицо) или любая другая временная форма этого же глагола, то здесь в высказывание вводятся все глагольные характеристики и оно ставится в связь с говорящим.
Эти рассуждения останутся чисто теоретическими, если их не приложить к фактам какого-либо исторически засвидетельствованного языка. И только в том случае, если они дадут точную картину реальных отношений и в то же время помогут их лучше понять, их можно будет считать обоснованными. Для этой необходимой
проверки мы выбрали древнегреческий язык, как из-за многообразия имеющихся памятников, так и потому, что наши выводы можно будет легко проконтролировать.
В греческом языке, как и в индо-иранских языках или в латыни, оба эти типа высказывания сосуществовали, и мы принимаем их как сосуществующие и не пытаемся выводить их один из другого, ибо представлять так процесс генетического развития у нас нет никаких оснований. Задача состоит в том, чтобы правильно оценить эти два типа выражения и выяснить, было ли их употребление свободным и немотивированным или же они различались, и если так, то чем именно. Выше мы подчеркивали, что данные два типа высказывания несходны, что они утверждают по-разному. Отвечает ли это различие, выведенное на основе теоретических соображений, тому, как в греческом языке употреблялось именное предложение и предложение с глаголом ест? Проверка будет проведена по двум обширным текстам, равно древним и равно своеобразным: один текст — образец высокой поэзии, «Пифийские эпи-никии» Пиндара, другой — повествовательная проза, «История» Геродота. На материале этих двух памятников, столь различных по тону, стилю и содержанию, мы попытаемся определить, служит ли именное предложение типичной формой некоторого содержания или же оно является просто окказиональной формой высказывания, которое с таким же успехом могло содержать и эксплицитно выраженный глагол.
Приведем полный список именных предложений, встретившихся нам в «Пифийских эпиникиях» Пиндара:
vauaupopYjToig б' av6paai лршта %apig... noinalov ekQelv oupov «когда люди пускаются в путь, первая милость, которой они жаждут, это попутный ветер» (I, 33);
%ap^a б' оох akkoxpiov vixacpopia яатерод «радость, которую вызывает победа отца, не оставляет безучастным сына» (I, 59);
то бг naSeiv eu np&tov asGXcov-eo б' axotieiv беитёрсс ц,оТра «счастье — вот первое из благ, к которым нужно стремиться, хорошая репутация занимает второе место» (I, 99);
то nkovxelv 6s abv то%а потцом acKpiag apiarov «богатство в соединении со счастьем мудрости — вот лучший жребий для человека» (II, 56);
какое, Toi ntQcov napd Jtaiatv, ate! -накос, «обезьяна кажется прекрасной детям, всегда прекрасной» (II, 71);
Sikkore б' akkolai jtvoat tn|uneT(rv avsjxcov «ветры, которые дуют на высоте^ непрерывно меняются» (III, 104);
uia Po3g Крт]8еТ те (лсшр xai 0pacro|j,T|6ei 2aAjxcovet «одна и та же телка является матерью Кретея и отважного Салмонея» (IV, 142; об этом сообщается как о подлинном факте, чтобы установить связь между потомками двух персонажей);
pq6iov fisv 7яр nokiv oeloai хал a(pat>poTspoic; «город поколебать легко; наиболее подлые и грубые люди на это способны» (IV, 272);
6 яЯоВтод eopvaGevfis, 8tav tig хтЯ., «богатство всемогуще, когда...» (V, 1);
хШло-tov ai ieya%on6%iEq 'A0#vai npoofjnov... хрт]яТб' doi6av... PaAia0ai «самая прекрасная прелюдия, могущая стать основой песни,— это великий город Афины» (VII, 1);
xep6og 6s (piXxaTov, exoVrog ei Tig ёи 66цйп> феро1 «самым лучшим является тот доход, который приносит дом, уступленный вам хозяином» (VIII, 14);
x'i бе xig; Tt б' ой tig; crxiag ovap avBpconog «что есть каждый из нас? что он не есть? человек— это сон тени» (VIII, 95);
u>xeta б* eneiyoixevcov т]бт] 0e&v Jtp5iig обо! те ppa^eTai «когда богами владеет желание, осуществление желания наступает скоро и пути к этому коротки» (IX, 67);
арета! б' aiel fxeyaXai яоА,й|д/и6(н «великие добродетели — всегда богатая материя» (IX, 76);
хсоф^ av-fip ug, og сНрахЯеТ стт6[ха firj лерфаЯЯе1 «нужно было бы быть немым, чтобы не посвящать уста похвалам Гераклу» (IX, 86);
6 %аХкгос, oopavog ob пот' a^Patog аотф «медный свод остается ему недоступным» (X, 27; изречение, не повествование);
та б' eig Iviauxov атехцартоу npovo^aai «того, что произойдет в течение одного года, никакие приметы не могут открыть» (X, 63);
то бе vecag dAoxoig e%0iaTov a.inXaxiov «это преступление — самое ужасное для молодых жен» (XI, 26);
то бе ^opoafiov ou ларфохтоу «судьба остается неизбежной» (XII, 30).
Уже простое перечисление этих примеров очерчивает границы употребления именного предложения: 1) оно всегда связано с прямой речью; 2) оно всегда выражает утверждения общего характера, представляющие собой сентенции 12. Из этого следует, с другой стороны, что только глагольное предложение (с kaxi) уместно в повествовании о событии, при описании способа существования или ситуации. Именная фраза имеет целью убедить высказыванием «общей истины»; она предполагает речь и диалог; она сообщает не факт, а некоторое вневременное и постоянное отношение, которое выступает как убедительный аргумент. Если бы потребовались другие доказательства того, что именно такова сфера применения именного предложения, их можно было бы найти в «Трудах и днях» Гесиода, где встречается много примеров, подобных Ipyov б' oo6ev oveifiog, агру[г 64 т' Svei6og «работа — не позор, безделье— позор» (310); %ргцхаха б' oi>x аряахта, бебаботсс яоМ-ov
f «богатство не следует порицать; ниспосланное небом, оно
 Х2 На тот факт, что именное предложение часто выражает «общие истины»,
Х2 На тот факт, что именное предложение часто выражает «общие истины»,
уже обращалось внимание, ср.: A. Meillet, MSL, XIV, стр. 16, и MeiNet________
Vendryes, Traite de grammaire comparee, 2-е изд., стр. 595, § 871. Этому эмпирическому наблюдению мы попытаемся дать обоснование, исходя из самой структуры высказывания.
гораздо предпочтительнее» (320); пгцих xaxog ydxav «плохой сосед— сущее несчастье» (346) и т. п. Все произведение представляет собой поучение от лица автора, длинный перечень советов и предостережений, и в него вкраплены выраженные именными предложениями вечные истины, которые автор стремится внушить. Но именное предложение никогда не употребляется при описании факта в его конкретности.
Посмотрим теперь, как используются именные предложения в прозаическом повествовательном тексте и какова их доля в нем. Геродот рассказывает о событиях, описывает страны и обычаи. И у него преобладают именно предложения с ёатц которые объективно повествуют о реальнцх ситуациях, например то бё naviooviov s0Ti TT}g Mi)xd^T]g X&pog *фо£' ^ бё МажаЛ/Г] scttI TY]g -fyrteipou ахрт] «Панионион (есть) священное место в Микале, Микале же (есть) выступающая часть суши» (I, 148). Подобные предложения встречаются у историка на каждом шагу именно потому, что он историк; словарь Пауэлла (Powell) регистрирует 507 примеров ёстт( в этой функции. А что же мы обнаруживаем в отношении именных предложений? Прочитав значительную часть текста (но не весь), мы встретили около десяти случаев, которые все фигурируют в цитируемой речи и все выражают «общие истины»: оитсо бт] xat avBpu>nou xaTotcrraaig «таково также положение человека» (II, 173); a£iog ^isv Alyvmiav ouTog уг 6 0e6g «он достоин египтян, этот бог!» (Ill, 29); <xYa6)6'v toi npovoov eivai, 04^6v бё r npo[ir]0tri «полезно думать о будущем, предусмотрительность — это мудрость» (III, 36); ф1?иэи-[г!г] кхгцю, axaiov... Tupavvig ХР^М-а o^palepov «самолюбие— глупость, ... тирания — вещь ненадежная» (III, 52); бт^оТ xat ouTog (Lg т] [iovvtx,pxir xpaxioTov «он сам показывает, что монархия — самое лучшее» (III, 82); ev9a yap сгоф^ беТ, puig Ipyov ou6ev «там, где нужна ловкость, насилие ничего не дает» (III, 127); i'orri уг -f) %<хр,с,... «прелесть (этого маленького дара) равна (прелести большого)» (III, 140); oXfiwc, ouTog avrtp Sg... «блажен человек, который...» (V, 92; пророчество в стихах); aoTojicaov y^P oo6sv «потому что ничто не происходит из себя самого» (VII, 9у). Редкость таких предложений и их стереотипный характер иллюстрируют различие между дидактической поэзией и повествовательной прозой; именное предложение появляется только там, где вклинивается прямая речь, а также в высказываниях типа «изречений» («proverbial»). Но когда историк хочет сказать, что «Крит— это остров», он не напишет *-q Крг(тт] vfjaog; уместно только т] Крг|ТТ] vfjaog kern.
На основе этих наблюдений, охватывающих тексты различного жанра, можно правильнее оценить особенности гомеровских текстов, в которых именные предложения и предложения с loxl встречаются в примерно равной пропорции. Такое сосуществование было бы необъяснимым, если бы оно не было связано с только что указанными различиями. И действительно, принимая во внимание неоднородный характер произведения и требования метрики, мы
 видим, что распределение именных предложений и предложений глагольных подчиняется у Гомера названным основаниям. Исчерпывающей проверки, даже для какой-либо одной части текста, мы здесь производить не можем. Этот вопрос стоило бы рассмотреть в целом для всей эпопеи. Здесь же достаточно будет подтвердить различие обоих типов предложений на нескольких примерах.
видим, что распределение именных предложений и предложений глагольных подчиняется у Гомера названным основаниям. Исчерпывающей проверки, даже для какой-либо одной части текста, мы здесь производить не можем. Этот вопрос стоило бы рассмотреть в целом для всей эпопеи. Здесь же достаточно будет подтвердить различие обоих типов предложений на нескольких примерах.
Нетрудно убедиться, что именное предложение появляется у Гомера только в речах персонажей, но не в частях повествовательных или описательных, и что оно выражает утверждение непреходящих истин, а не частных ситуаций. Тип его таков: оох ayaBov яоЯихснрагчт) «нехорошо (нехорошее дело) власть над многими» или же Zebg б' apexrjV av6peomv офШ-ei те fuvtiBei те | оллсод xev гвгХ-ц-ctivo yap xdcpxiaxog anavxcov «Зевс доблесть смертным и увеличивает и умаляет, | как соизволит: ведь он сильнейший из всех (Г, 242)*; аруаХкос, yap 'ОХбцтос, avxtcpspeaGai «трудно противиться Олимпийцу (Зевсу)» (А, 589). Не обращалось внимания на то, что именное предложение у Гомера часто появляется в причинной связи с контекстом, что подчеркивается частицей уар. Сформулированные подобным образом высказывания по самой сути своего всевремен-ного содержания способны служить для рекомендации, для обоснования, для убеждения. В этом причина столь частого появления маленьких предложений-формул: Sg yap aynivov «что и лучше» — то yap afieivov «оно и лучше» — олер око лоМ-ov ajxetvcov «который тебя много храбрее» (Н, 114); <Шд лсбесгВеха! оц[хед, еле netBeaBai ajmvov (A, 274) — 6 yap aoxe $'щ ou лахрод afxetvcov (A, 404) — цчХоурообщ yap aftetvcov (I, 256) и т. д., или xpeiaacov yap Paai/U'ig (A, 80) — A,r]iaxcH yap poeg... xxrrroi хрЕлобед, av6pog 6s т|под... ouxe Хцшщ ххЯ. (I, 406)-— axpenxoi 6s xe xat Beoi auxot (I, 497) — rt 6' "Axrj c6evdipr| xe xat артЁлод (I, 505) — оилсо navxeg 6|xqioi avspeg h noXkup (Z, 270). Этим объясняется также, почему в греческом языке столько оборотов типа зсрт| «нужно, следует» или оборотов с прилагательными среднего рода 6yjAov «ясно», %аХгло «трудно», QaviaoTov «удивительно», которые закрепились как именные утвердительные предложения вневременного и абсолютного характера. Напротив, предложения с saxi указывают на актуальные, протекающие ситуации: ineiXroa (x58ov, 8 6т, техеЯеа-^ivog scrxt «он произнес угрозу, и угроза свершилась» (А, 388); et 6' оохсо xoux' eaxiv... «если это на деле так» (А, 564); аХХ' о уе фгрхербд sCTxiv, ёле( nXeoveaaiv avacrcrei «но сильнейший здесь он, ибо повелевает большим количеством людей» (тот факт, что он повелевает большим количеством людей, свидетельствует, что он
 * В соответствии с филологической традицией здесь прописные греческие буквы обозначают песни «Илиады», строчные — песни «Одиссеи» (в порядке греческого алфавита). Напр., Г — 20-я песнь «Илиады», v — 20-я песнь «Одиссеи». Ввиду легкости установления соответствий с русскими изданиями поэм здесь мы ограничиваемся переводом одного-двух примеров из каждой группы.— Прим. ред.
* В соответствии с филологической традицией здесь прописные греческие буквы обозначают песни «Илиады», строчные — песни «Одиссеи» (в порядке греческого алфавита). Напр., Г — 20-я песнь «Илиады», v — 20-я песнь «Одиссеи». Ввиду легкости установления соответствий с русскими изданиями поэм здесь мы ограничиваемся переводом одного-двух примеров из каждой группы.— Прим. ред.
действительно стоит выше) (А, 281); асрртргсор, aOs^iiaxog, avscmog sera sxelvog |og... «тот безродный, вне закона, скиталец бездомный, кто...» (описывает реальное положение того, кто...) (I, 63); 6 6' ayqvcop sax! xal a'AAcog «он горд и без этого» (I, 699).
То же различие наблюдается и в выражении принадлежности. Именное предложение выражает принадлежность как постоянную и абсолютную: lar jiolpa xkvovn, xat et iiXa xig лоХе^оц £v 6s t"5 xifTQ tji^sv xaxog tj6s xai ЁоВЯбд «равная мера (у вас) и стойкому и плохо держащемуся в бою, в одинаковой чести и трус, и храбрый» (Т, 318); оо yap kn.o ifv/^g avxa^iov (I, 401); ou yap яа> xoi цоТра Bavseiv (H, 52); oot xo yspag noXb [xei^cov (A, 167, атрибуция правовая и постоянная). Глагольное же предложение указывает на реальное обладание: тш-v б' SiXXav a ioi saxi «из других (трофеев), что мне принадлежат» (А, 300); saxi 64 ^oi xiXa noXXa (1,364); ou6'ei' [xoi до'щ ооаа xs oi vov laxi «даже если бы он мне отдал все, чем он владеет сейчас» (I, 380); ц-^ттр 6г цен sax' 'Афроб1ТГ| «мать мне Афродита» (Г, 209) и т. д.
Всестороннее изучение именного предложения у Гомера, которое мы считаем необходимым, несомненно, уточнило бы эти различия, позволило бы выделить формулы, варианты, подражания. Принцип же деления остался бы тем же.
Этот принцип с несомненностью вытекает из рассмотренных текстов. Именное предложение и предложение с ест утверждают по-разному и принадлежат двум разновидностям речи. Первое — речи в собственном смысле, второе — повествованию. Одно утверждает нечто абсолютное; второе описывает ситуацию. Обе эти черты взаимосвязаны и обе зависят от того, что функцию утверждения в высказывании выполняет либо именная, либо глагольная форма. Структурная связь этих условий выступает здесь полностью. Будучи способным утверждать абсолютные истины, именное предложение выступает как аргумент, доказательство, рекомендация. Его вводят в речь, чтобы-воздействовать и убеждать, а не сообщать о факте. Это истина, изреченная как таковая, вне связи с временем, лицом и обстоятельствами. Вот почему именное предложение так хорошо подходит для таких высказываний (которыми оно, впрочем, обычно и ограничивается), как изречения или поговорки, хотя раньше его использование отличалось большей гибкостью.
В других древних индоевропейских языках условия были аналогичны; ср. лат. triste lupus stabulis «печальное дело— волк овчарням»; varium et mutabile semper femina «изменчива и непостоянна всегда женщина» и т. п. Различие двух типов предложения в санскрите можно было бы проиллюстрировать, сопоставив tvam varunah «ты — Варуна», где устанавливается полная равнозначность между Агни, к которому обращаются, и Варуной, с которым его отождествляют, и формулу tat tvam asi «hoc tu es, вот что ты есть», которая указывает человеку его действительное состояние.
В ведийском языке именное предложение является в основном выражением вневременного определения. Если же в древнеиран-ском языке именное предложение очень широко представлено в Гатах (Gathas), где, по существу, нет ни одного примера предложения с asti, то это объясняется особым характером данного текста: это лапидарный катехизис, набор утверждений истины и бескомпромиссных определений, властное напоминание о ниспосланных в благодати принципах. В эпических и повествовательных отрывках Яшт (Ya§t), напротив, глагольное предложение с asti полностью восстанавливается в своих правах.
Описание именного предложения в индоевропейских языках должно быть, таким образом, совершенно перестроено в намеченных здесь рамках 13. Нам пришлось опустить многие детали, чтобы подчеркнуть своеобразие природы и роли именного предложения, потому что изучение этого синтаксического явления, как и любого языкового факта, должно начинаться с определения его отличительных свойств. До тех пор пока этот тип высказывания рассматривался как глагольное предложение с отсутствующим глаголом, выявить его специфическую природу было невозможно. Именное предложение следует сопоставить и противопоставить высказыванию глагольному, и тогда мы видим, что это две различные формы высказывания. Как только в именное предложение вводят глагольную форму, оно утрачивает свою подлинную сущность, которая как раз и заключается в том, что между языковым рядом (высказыванием) и действительностью предполагается отношение неварьируемости. Именное предложение способно определять «вечную истину» именно потому, что в нем отсутствует какая
 13 Читатель, который сравнит высказанные нами замечания с важной работой Л. Ельмслева «Le verbe et la phrase nominale», опубликованной в «Melanges J. Ma-rouzeau», Paris, 1948, стр. 253—281, заметит некоторые точки соприкосновения и одновременно серьезные расхождения, которые следует хотя бы кратко указать. Мы оба согласны, что термин «именное предложение» нужно использовать в строгом смысле. Кроме того, окончательная формулировка Ельмслева—«пропозициональная связка есть глагол» (цит. соч., стр. 281) — почти не отличается от одного из двух свойств, которыми мы определили глагол; наконец, обоим нам в равной степени представляется необходимой функция утверждения. Но уязвимым моментом в изложении Л. Ельмслева нам кажется коммутация, с помощью которой он выделяет в содержании omnia praeclara гага «все прекрасное редко» три имплицитных элемента: несовершенный вид, настоящее время и изъявительное наклонение. «Доказательством,— говорит он,— служит тот факт, что, если бы мы захотели заменить несовершенный вид другим видом, настоящее время—другим временем, а'изъявительное наклонение — другим наклонением, выражение сразу же по необходимости изменилось бы» (цит. соч., стр. 259). А это как раз такая операция, которую запрещает самый смысл именного предложения. Л. Ельмслев утверждает, что между именным предложением omnia praeclara гага и предложением глагольным omnia praeclara sunt rara «все прекрасное (есть) редкостно» существует лишь различие в эмфазе или подчеркнутости (стр. 265). Мы же, напротив, старались показать, что это два типа предложения с разными функциями. Следовательно, коммутация одного типа в другой невозможна и неправомерно усматривать имплицитное выражение времени, наклонения и вида в именном высказывании, которое по своей сущности является вневременным, внемодальным, вневидовым.
13 Читатель, который сравнит высказанные нами замечания с важной работой Л. Ельмслева «Le verbe et la phrase nominale», опубликованной в «Melanges J. Ma-rouzeau», Paris, 1948, стр. 253—281, заметит некоторые точки соприкосновения и одновременно серьезные расхождения, которые следует хотя бы кратко указать. Мы оба согласны, что термин «именное предложение» нужно использовать в строгом смысле. Кроме того, окончательная формулировка Ельмслева—«пропозициональная связка есть глагол» (цит. соч., стр. 281) — почти не отличается от одного из двух свойств, которыми мы определили глагол; наконец, обоим нам в равной степени представляется необходимой функция утверждения. Но уязвимым моментом в изложении Л. Ельмслева нам кажется коммутация, с помощью которой он выделяет в содержании omnia praeclara гага «все прекрасное редко» три имплицитных элемента: несовершенный вид, настоящее время и изъявительное наклонение. «Доказательством,— говорит он,— служит тот факт, что, если бы мы захотели заменить несовершенный вид другим видом, настоящее время—другим временем, а'изъявительное наклонение — другим наклонением, выражение сразу же по необходимости изменилось бы» (цит. соч., стр. 259). А это как раз такая операция, которую запрещает самый смысл именного предложения. Л. Ельмслев утверждает, что между именным предложением omnia praeclara гага и предложением глагольным omnia praeclara sunt rara «все прекрасное (есть) редкостно» существует лишь различие в эмфазе или подчеркнутости (стр. 265). Мы же, напротив, старались показать, что это два типа предложения с разными функциями. Следовательно, коммутация одного типа в другой невозможна и неправомерно усматривать имплицитное выражение времени, наклонения и вида в именном высказывании, которое по своей сущности является вневременным, внемодальным, вневидовым.
бы то ни было глагольная форма, конкретизирующая выражение; и в этом отношении глагол kaxi «есть» столь же конкретен, как и е!ц,1 «есмь», -rjv «был» или есгтса «будет». Когда мы наконец высвобождаемся от неосознанной тирании категорий наших современных языков и от соблазна проецировать их на языки, которые этих категорий не знают, мы сразу же обнаруживаем в древних индоевропейских языках различие, которое в других языках опознается без всякого труда.
Независимое подтверждение этому дано, для ирландского языка, Л. Шёстедтом в превосходном описании говора Керри. Мы находим у него в высшей степени справедливую оценку своеобразной роли именного предложения: «Значимость именного предложения выступает, когда мы противопоставляем его предложению с глаголом бытия. Именное предложение — это качественное приравнивание, устанавливающее равнозначность (полную или частичную в зависимости от соотношения объемов субъекта и предиката) между двумя именными элементами. Предложение с taim выражает состояние и его разновидности. Таким образом, предикат именного предложения, даже если это прилагательное, имеет значение сущности и указывает на нечто неотъемлемое от субъекта, в то время как дополнение глагола бытия имеет лишь обстоятельственное значение и указывает на частное проявление (пусть даже постоянное) способа бытия субъекта» ".
Из того факта, что данное различие в большинстве случаев стерлось, неверно было бы заключить, что оно больше никогда не появится вновь. Даже в современных языках, где именное предложение устранено в пользу предложения глагольного, в самой глубине глагола «быть» иногда возникает дифференциация. Так обстоит дело в испанском языке с его классическим разграничением ser и estar. Вне всякого сомнения, не случайно, что различие между ser «быть, иметь природу» и estar «быть, находиться» в значительной степени совпадает' с различием, которое мы находим между предложением именным и предложением глагольным для гораздо более древнего языкового состояния. Даже если между двумя выражениями и нет исторической преемственности, в указанном явлении испанского языка можно видеть новое проявление той черты, которая так ярко характеризовала синтаксис древних индоевропейских языков. Одновременное использование двух конкурирующих типов утверждения представляет собой одно из наиболее поучительных решений проблемы, которая возникала во многих языках, а иногда и не один раз, в ходе их развития.
 L. Sjoestedt, Description d'unparler irlandaisdu Kerry, P., 1938, стр. 116,
L. Sjoestedt, Description d'unparler irlandaisdu Kerry, P., 1938, стр. 116,
§ 154.
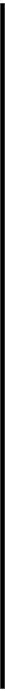 |
 ГЛАВА XV АКТИВНЫЙ И СРЕДНИЙ ЗАЛОГ В ГЛАГОЛЕ
ГЛАВА XV АКТИВНЫЙ И СРЕДНИЙ ЗАЛОГ В ГЛАГОЛЕ
Различие актива и пассива может служить примером глагольной категории, способной привести в смущение наше привычное мышление: она представляется необходимой — а многие языки ее не знают; простой — а мы сталкиваемся с большими трудностями при ее интерпретации; симметричной—а она изобилует непоследовательностью выражения. В наших языках это различие очевидно навязывается говорящим как фундаментальное свойство мышления, и вместе с тем оно столь мало существенно для глагольной системы индоевропейских языков, что мы наблюдаем, как оно складывается в ходе истории, далеко не такой уж древней. Вместо противопоставления активного и пассивного залогов мы находим в индоевропейских языках, засвидетельствованных историей, тройное членение: активный залог, средний залог, пассивный залог, что отражается также в нашей терминологии: между evspyeia «деятельность» (= активному залогу) и яабос; «претерпевание, страдание» (= пассивному залогу) греческие грамматисты установили еще промежуточный класс, «средний залог» (^гобтцс,),— он как бы воплощал переход между двумя другими залогами, которые считались первоначальными. Но в своем грамматическом учении греки лишь перенесли в область понятий своеобразные особенности одного определенного состояния языка. Симметрия трех «залогов» отнюдь не является чем-то органическим. Она удобна для изучения синхронного состояния языка, но именно для данного периода в истории греческого языка. Компаративисты давно уже установили, что в общей эволюции индоевропейских языков пассив — это видоизменение среднего залога, от которого он происходит и с которым сохраняет непосредственные связи даже тогда, когда он обособился в отдельную категорию. Индоевропейское состояние глагола характеризуется, таким образом, оппозицией
только двух диатез — активного залога и среднего залога, или медиума, если называть их традиционными терминами.
Совершенно очевидно поэтому, что значение этого противопоставления в системе глагольных категорий должно быть чем-то совсем иным, чем можно было бы себе представить, исходя из языка, где господствует противопоставление только актива и пассива. Вопрос заключается не в том, что различие «актив — медиум» следует считать более адекватным, чем различие «актив — пассив», или наоборот. И то и другое членение вызывается нуждами языковой системы, и задача состоит прежде всего в том, чтобы установить эти потребности, в том числе и потребности промежуточного периода, когда средний залог и пассивный залог сосуществовали. Но если взять две крайние точки эволюции, то мы видим, что глагольная форма активного залога противопоставляется сначала форме среднего залога, потом — форме пассивного залога. В этих двух типах противопоставлений мы имеем дело с различными категориями, и даже член, общий для них — «активный залог»,— не может иметь в противопоставлении со «средним залогом» то же значение, что.в противопоставлении «пассиву». Привычную для нас оппозицию актива и пассива можно представить — в общих чертах, но для нас этого сейчас достаточно — как оппозицию действия совершаемого и действия претерпеваемого. Какое значение припишем мы тогда различию между активным и средним залогами? Вот проблема, на которой мы кратко остановимся.
Следует сначала определить значение и место этой категории среди других глагольных категорий. Всякая спрягаемая глагольная форма обязательно принадлежит к той или другой диатезе, им подчинены даже некоторые из именных форм глагола (инфинитив, причастие). Это значит, что время, наклонение, лицо, число имеют в активе и в медиуме разное выражение. Перед нами, таким образом, некоторая фундаментальная категория, которая в глаголе индоевропейских языков связана с другими морфологическими характеристиками. Своеобразием индоевропейского глагола является то, что в нем содержится указание только на связь с субъектом, но не с объектом. В отличие, например, от глагола в языках кавказских или американоиндейских индоевропейский глагол не включает показателя, уточняющего цель (или объект) процесса. Следовательно, если взять глагольную форму изолированно, то невозможно сказать, переходна она или непереходна, позитивна или негативна в своем контексте, предполагает ли она дополнение именное или местоименное, в единственном числе или во множественном, лицо или не-лицо и т. п. Все представляется и оформляется по отношению к субъекту. Однако глагольные категории, которые объединяются во флексиях, не все в одинаковой степени являются конституирующими для глагола: лицо выражается также в местоимении, число — в местоимении и существительном. Остается, таким образом, наклонение, время и, что важнее всего, «залог» —
 фундаментальная диатеза субъекта в глаголе; она обозначает положение субъекта относительно процесса, благодаря чему процесс оказывается определенным в самой своей основе.
фундаментальная диатеза субъекта в глаголе; она обозначает положение субъекта относительно процесса, благодаря чему процесс оказывается определенным в самой своей основе.
Что касается общего значения среднего залога, то здесь мнения лингвистов почти совпадают. Отказавшись от определения, данного греческими грамматистами, лингвисты в настоящее время исходят из различия, которое Панини с поразительной для его времени проницательностью установил между parasmaipada «слово для другого» (= актив) и atmanepada «слово для себя» (= медиум). Если понимать это различие буквально, оно действительно вытекает из оппозиций, подобных той, которую отмечал индийский грамматист: санскр. yajati «он совершает жертвоприношение» (для кого-либо другого, в качестве жреца) и yajate «он приносит жертву» (для себя самого, в качестве жертвователя) 1. Подобное определение в общих чертах, несомненно, соответствует действительности. Однако оно не применимо в таком виде ко всем фактам, даже в санскрите, и не учитывает весьма разнородных значений среднего залога. Если взять индоевропейские языки в целом, то факты представляются часто настолько разнообразными, что для того, чтобы охватить их все, приходится довольствоваться весьма расплывчатой формулой, которая почти дословно повторяется у всех компаративистов: средний залог, по-видимому, указывает только определенное отношение между действием и субъектом, а именно «заинтересованность» субъекта в действии. Более точное определение среднего залога, по-видимому, невозможно, ибо пришлось бы перечислять частные употребления, в которых средний залог имеет узкое значение—посессивности, возвратности, взаимности и т.п. Приходится, таким образом, перескакивать от очень общего определения к очень частным примерам, разделенным на небольшие группы и весьма неоднородным. У них, разумеется, есть нечто сходное — связь с atman, с категорией «для себя», по терминологии Панини; но языковая природа этой связи все еще ускользает от исследователей, значение диатезы грозит остаться лишь миражем.
Подобная ситуация придает категории «залога» большое своеобразие. Разве не удивительно, что другие глагольные категории — наклонение, время, лицо, число — поддаются достаточно точному определению, а категорию фундаментальную, глагольную диатезу, не удается охарактеризовать сколько-нибудь строго? Может быть, она стерлась еще до образования диалектов? Это мало вероятно, судя по устойчивости употребления и многочисленным совпадениям в распределении форм, обнаруживающимся в различных языках. Нужно поэтому поставить вопрос: с какой же
 1 Мы намеренно используем в этой статье примеры, которые упоминаются во всех работах по сравнительной грамматике. [В соответствии с русской словарной традицией 1 л. и 3 л. глагола далее переводятся инфинитивом.— Ред.]
1 Мы намеренно используем в этой статье примеры, которые упоминаются во всех работах по сравнительной грамматике. [В соответствии с русской словарной традицией 1 л. и 3 л. глагола далее переводятся инфинитивом.— Ред.]
стороны следует подойти к рассмотрению этой проблемы и какие факты наиболее пригодны для иллюстрации различия в «залоге»?
До настоящего времени лингвисты единодушно считали или по крайней мере подразумевали, что средний залог нужно определять исходя из таких форм — а их очень много,— которые принимают два ряда окончаний, например санскр. yajati и yajate, греч. noieX и noislxai. Принцип сам по себе безупречен, но им охватываются только значения уже специализированные или значение всей совокупности, довольно расплывчатое. Такой подход, однако, не является единственно возможным, поскольку способность принимать-активные и медиальные окончания, какой бы широко распространенной она ни была, присуща не всем глагольным формам. Существует известное число глаголов, имеющих только один ряд окончаний; одни глаголы — только активные, другие — только медиальные. Эти классы, activa tantum и media tantum, известны всем, но их обычно оставляют на периферии описания 2. Однако эти глаголы отнюдь не являются ни редко встречающимися, ни малозначительными. Достаточно напомнить, например, что среди депонентных глаголов латинского языка есть целый класс media tantum. Можно предположить, что эти глаголы с одной диатезой имели настолько ярко выраженную характеристику активного залога или залога среднего, что не допускали двойной диатезы, присущей другим глаголам. Стоит хотя бы попытаться выяснить причины этой нерегулярности. Поскольку здесь у нас уже нет возможности сопоставить две формы одного и того же глагола, мы начнем со сравнения двух классов различных глаголов и постараемся определить, что же делает каждый из них невосприимчивым к диатезе другого.
В нашем распоряжении имеется некоторое количество надежных фактов, полученных путем сравнения. Перечислим кратко важнейшие глаголы, представленные в каждом из двух классов.
1. Имеют только активный залог: «быть» (санскр. asti, греч.
sffti), «идти» (санскр. gachati, греч. Patvei), «жить» (санскр. jlvati,
лат. vivit), «течь» (санскр. sravati, греч. pet), «ползти» (санскр.
sarpati, греч. ерлеь), «гнуться» (санскр. bhujati, греч. cpeyyei),
«дуть» (о ветре, санскр. vati, греч. #noxg), «есть, питаться» (санскр.
atti, греч. l'6ei), «пить» (санскр. pibati, лат. bibit), «давать» (санскр.
dadati, лат. dat).
2. Имеют только средний залог: «рождаться» (греч. ylyvo[uxi,
лат. nascor), «умирать» (санскр. mriyate, marate, лат. morior),
«следовать, принимать движение» (санскр. sacate, лат. sequor),
 г Насколько мне известно, только Дельбрюк в «Vergleichende Syntax», II, стр. 412 и ел., взял их за основу своего описания. Но вместо того чтобы попытаться сформулировать общее определение, он разбил факты на небольшие семантические категории. Рассуждая подобным образом, мы вовсе не хотим сказать, что глаголы, имеющие только одну диатезу, обязательно отражают более древнее состояние, чем глаголы с двойной диатезой.
г Насколько мне известно, только Дельбрюк в «Vergleichende Syntax», II, стр. 412 и ел., взял их за основу своего описания. Но вместо того чтобы попытаться сформулировать общее определение, он разбил факты на небольшие семантические категории. Рассуждая подобным образом, мы вовсе не хотим сказать, что глаголы, имеющие только одну диатезу, обязательно отражают более древнее состояние, чем глаголы с двойной диатезой.
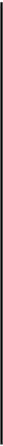 | |||
 | |||
 «владеть» (авест. x&ayete, греч. хтаоцаг, а также санскр. patyate, лат. potior), «лежать» (санскр. Sete, греч. хеХцЬа), «сидеть» (санскр. aste, греч. vjfxcu), «возвращаться в привычное состояние» (санскр. nasate, греч. vkoxai), «наслаждаться, пользоваться» (санскр. bhun-kte, лат. fungor, ср. fruor), «страдать, терпеть» (лат. patior, ср. греч. nsvo]xai), «испытывать душевное волнение» (санскр. manyate, греч. [icdvoiai), «принимать меры» (лат. medeor, meditor, греч. [i-i]8oiai), «говорить» (лат. loquor, for, ср. греч. срато) и т. д. Мы ограничимся тем, что в том и другом классе отметим те глаголы, которые имеют древнюю диатезу (о чем свидетельствует совпадение по меньшей мере двух языков) и которые сохранили ее в историческое время. Нетрудно было бы продолжить данный список, включив в него рлаголы специфически среднего залога в отдельных языках, например санскр. vardhate «расти», cyavate (ср. греч. ог6омх1) «приходить в движение», prathate «увеличиваться» или греч. fiyva^ai «мочь», $o6Xoiai «хотеть», Ipajxai «спрашивать», еАлоцси «надеяться», аГбоцси «чтить; стыдиться», а£оцси «чтить» и т. д.
«владеть» (авест. x&ayete, греч. хтаоцаг, а также санскр. patyate, лат. potior), «лежать» (санскр. Sete, греч. хеХцЬа), «сидеть» (санскр. aste, греч. vjfxcu), «возвращаться в привычное состояние» (санскр. nasate, греч. vkoxai), «наслаждаться, пользоваться» (санскр. bhun-kte, лат. fungor, ср. fruor), «страдать, терпеть» (лат. patior, ср. греч. nsvo]xai), «испытывать душевное волнение» (санскр. manyate, греч. [icdvoiai), «принимать меры» (лат. medeor, meditor, греч. [i-i]8oiai), «говорить» (лат. loquor, for, ср. греч. срато) и т. д. Мы ограничимся тем, что в том и другом классе отметим те глаголы, которые имеют древнюю диатезу (о чем свидетельствует совпадение по меньшей мере двух языков) и которые сохранили ее в историческое время. Нетрудно было бы продолжить данный список, включив в него рлаголы специфически среднего залога в отдельных языках, например санскр. vardhate «расти», cyavate (ср. греч. ог6омх1) «приходить в движение», prathate «увеличиваться» или греч. fiyva^ai «мочь», $o6Xoiai «хотеть», Ipajxai «спрашивать», еАлоцси «надеяться», аГбоцси «чтить; стыдиться», а£оцси «чтить» и т. д.
Из этого сопоставления достаточно ясно вырисовывается основа чисто языкового различия, связанного с отношением между субъектом и процессом. В активном залоге глаголы означают процесс, который исходит из субъекта и развивается вовне. В среднем залоге, который представляет собой диатезу, определяемую через оппозицию с первой, глагол указывает процесс, который развивается в субъекте; субъект является внутренним по отношению к процессу.
Данное определение пригодно вне зависимости от семантической природы рассматриваемых глаголов; в каждом из приведенных выше двух классов в равной степени представлены и глаголы состояния и глаголы действия. Различие между активным и средним залогами, следовательно, никоим образом не совпадает с различием между глаголами действия и глаголами состояния. Нужно избегать и другого смешения, а именно того, которое может возникнуть из «инстинктивного» представления, складывающегося у нас о некоторых понятиях. Так, нам может показаться удивительным, что «быть» принадлежит к activa tantum, к тому же самому классу, что и «есть (питаться)». Но таковы факты, и с ними нужно сообразовать нашу интерпретацию: в индоевропейских языках «быть», так же как «идти» и «течь», представляет собой процесс, участие субъекта в котором необязательно. В отличие от этого определения, которое является точным только в той мере, в какой оно негативно, определение среднего залога содержит положительные признаки. Здесь субъект выступает как место протекания процесса, даже если этот процесс, как в случае лат. fruor или санскр. manyate, требует объекта; субъект одновременно является и центром и производителем процесса; он совершает нечто, что совершается в нем самом — рождаться, спать, покоиться, воображать, расти и т. п,
Он находится именно внутри процесса, действующим лицом (агентом) которого он выступает.
Теперь предположим, что какой-либо типично медиальный глагол, как, например, греч. хсн^йтси «он спит», получает, как вторичное явление, еще и форму актива. Результатом этого в отношении субъекта к процессу будет изменение, состоящее в том, что субъект, становясь внешним по отношению к процессу, будет его действующим лицом (агентом), а процесс, лишившись субъекта как места своего осуществления, будет перенесен на другой член, становящийся его объектом. Средний залог превращается в переходность (транзитивность). Именно это происходит, когда хснцйтоа «он спит» дает хоцха «он усыпляет (кого-либо)» или когда санскр. vardhate «он увеличивается, растет» переходит в vardhati «он увеличивает (что-либо)». Транзитивность является необходимым результатом этой трансформации среднего залога в активный. Таким путем из среднего залога образуются активные формы, называемые транзитивными, каузативными или фактитивными и всегда характеризующиеся тем, что субъект, находящийся вне процесса, управляет им отныне как производитель, а процесс больше не сосредоточивается в субъекте и должен перейти на объект как на некоторую цель: греч. Itaiojiai «я надеюсь» > Штсо «я рождаю надежду (в другом)»; op/sojxai «я танцую» > орх^ш «я заставляю танцевать (другого)».
Если мы теперь вернемся к глаголам с двойной диатезой, гораздо более многочисленным, мы увидим, что и здесь предложенное нами определение также объясняет оппозицию активный залог — средний залог. Однако в данном случае противопоставление устанавливается между формами одного и того же глагола и в одной и той же семантической единице. Активный залог теперь — не просто отсутствие среднего залога, но действительно активный залог, производство действия, еще более ясно обнаруживающее внешнее положение субъекта по отношению к процессу; что же касается среднего залога, то он служит теперь для характеристики субъекта как внутреннего по отношению к процессу: греч. бшрсс cpspei «он несет дары» : бшра cpspexai «он несет дары, которые предназначены ему самому» (= он уносит дары, которые он получил); — vofioug xi9svai «устанавливать законы» : vo^otx; xi9sa0ai «устанав-
«устанавливать законы» : vo^otx; xi9sa0ai «устанавливать законы, прилагая их и к себе» (= ставить себе законы); — X6&i tov Innov «он отвязывает лошадь» : Яиетси tov Innov «он отвязывает лошадь, затрагивая этим себя» (откуда следует, что лошадь принадлежит ему); — n6Xeiov noiel «он вызывает войну» (= он дает повод или сигнал к ней) : noXepiov лснеТтоа «он вызывает войну, в которой принимает участие», и т. д. При помощи подобных оппозиций можно выражать самые различные оттенки, и в греческом языке они используются с поразительной тонкостью; в конечном счете через них всегда определяется положение субъекта относительно процесса в зависимости от того, является ли он
 по отношению к процессу внешним или внутренним, и субъект характеризуется как действующее лицо (агент), если он просто действует—при активном залоге—или если он действует, воздействуя на самого себя,— при среднем залоге. Как нам представляется, такая формулировка соответствует одновременно и значению форм и требованиям, предъявляемым к определению, и вместе с тем она избавляет нас от необходимости прибегать к весьма расплывчатому и к тому же экстралингвистическому понятию «заинтересованности» субъекта в процессе.
по отношению к процессу внешним или внутренним, и субъект характеризуется как действующее лицо (агент), если он просто действует—при активном залоге—или если он действует, воздействуя на самого себя,— при среднем залоге. Как нам представляется, такая формулировка соответствует одновременно и значению форм и требованиям, предъявляемым к определению, и вместе с тем она избавляет нас от необходимости прибегать к весьма расплывчатому и к тому же экстралингвистическому понятию «заинтересованности» субъекта в процессе.
Сведение содержания оппозиции активного и среднего залогов к чисто языковому критерию имеет ряд следствий. Одно из них мы не можем не упомянуть. Предложенное нами определение, если оно состоятельно, должно привести к новой интерпретации пассива в той самой мере, в какой пассив зависит от «среднего залога», трансформацией которого с исторической точки зрения он является, что в свою очередь способствует преобразованию системы, в которой пассив устанавливается. Но эта проблема требовала бы специального рассмотрения. Чтобы остаться в пределах нашей задачи, необходимо указать, какое место эта диатеза занимает в индоевропейской глагольной системе и для каких целей она используется.
Воздействие, оказываемое на нас традиционной терминологией, настолько сильно, что оппозицию, существующую между формой «активного залога» и формой «среднего залога» нам трудно представить себе как оппозицию необходимую. Даже у лингвиста может сложиться впечатление, что подобное различие остается в языке неполным, ущербным, несколько странным и уж во всяком случае бесполезным по сравнению с якобы разумной и достаточной симметрией между «активом» и «пассивом». Но если согласиться с заменой терминов «активный залог» и «средний залог» понятиям" «внешняя диатеза» и «внутренняя диатеза», то данная категория естественно и необходимо занимает место в группе категорий, передаваемых глагольной формой. Диатеза в сочетании с признаками лица и числа характеризует глагольную флексию. Таким образом, в одном элементе объединяются три показателя, каждый из которых по-своему определяет позицию субъекта относительно процесса, а сочетание их определяет то, что можно было бы назвать позиционным полем субъекта: лицо— в зависимости от того, входит ли субъект в личное отношение «я — ты» или же это не-лицо (в обычной терминологии «3-е лицо») 3; число — в зависимости от того, является ли субъект единичным или множественным; и, наконец, диатеза — в зависимости от того, является ли субъект внешним или внутренним по отношению к процессу. Указанные три категории, слитые в едином и постоянном элементе, во флексии,
различаются модальными оппозициями, которые отражаются в структуре глагольной основы (темы). Существует, таким образом, определенная взаимосвязь между морфемами и теми семантическими функциями, которые они несут, но в то же время наблюдается разделение и равновесие семантических функций в сложной структуре глагольной формы: те семантические функции, которые передаются окончанием (и среди них диатеза), указывают отношение субъекта к процессу, тогда как модальные и временные значения, присущие основе, касаются самой репрезентации процесса независимо от положения субъекта.
Поскольку это различие диатез заняло в индоевропейском такое же место, как и различие лиц и чисел, оно должно было реализовать какие-то такие семантические оппозиции, которые не могли найти иной формы выражения. В самом деле, мы констатируем, что языки древнего типа использовали диатезу в различных целях. Одна из них заключается в противопоставлении, отмеченном Па-нини, между категорией «для другого» и категорией «для себя» в формах указанного выше типа, таких, как санскр. yajati и yajate. В этой конкретной оппозиции, охватывающей большое количество слов, мы после всего сказанного видим уже не общую формулу категории, а лишь один из способов ее использования. Существуют и другие, не менее реальные: например, возможность использовать некоторые разновидности возвратности для обозначения процесса, который физически затрагивает субъект, но притом так, что субъект не расценивает себя как объект; понятия, аналогичные франц. s'emparer de «овладеть (чем-либо)», se saisir de «приняться (за что-либо)» и способные к разнообразной нюансировке. Наконец, в форме этой диатезы языки выражали лексические противопоставления полярных понятий, где один и тот же глагол благодаря флексиям мог означать и «взять» и «дать»: санскр. dati «он дает» : adate «он получает»; греч. fnaOouv «сдавать внаем» : fncr0o5a0ai «брать внаем»; — 6avei£ei/v «дать в долг» : 6avei£ea0cu «взять в долг»; лат. licet «(предмет) продается с торгов» : licetur «(человек) покупает с торгов». Все это важнейшие понятия для такой эпохи, когда отношения между людьми основаны на взаимности материальной повинности, частной или общественной, и в таких обществах, где получение предполагает отдачу.
Таким образом организуется в «языке» и в «речи» одна из глагольных категорий, структуру и семантические функции которой мы попытались обрисовать посредством собственно языковых критериев, исходя из языковых противопоставлений, реализующих эту категорию. В природе языковых фактов, поскольку они знаки,— реализоваться в оппозициях и быть значимыми лишь в силу этого.
 3 Это различие обосновывается в статье, опубликованной в «Bull. Soc. Lingu.», XLIII (1946), стр. 1 и сл-; в данной книге см. гл. XX.
3 Это различие обосновывается в статье, опубликованной в «Bull. Soc. Lingu.», XLIII (1946), стр. 1 и сл-; в данной книге см. гл. XX.
Г Л А В А XVI
ПАССИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРФЕКТА ПЕРЕХОДНОГО ГЛАГОЛА
логичных явлений за пределами индоевропейских языков. Мы I постараемся представить факты в истинном свете и предложим I совершенно иное их… После появления часто цитируемой статьи Г. Шухардта, в которой он утверждал «пассивный характер переходного глагола в…Meillet,Esquisse, 1-еизд., стр. 68; «Esquisse», 2-еизд., стр. 128.
 |
 К этому взгляду, который Мейе высказал в 1903 г. и которого придерживался до конца, присоединились все языковеды, занимавшиеся этой проблемой, вплоть до авторов новейших исследований об армянском глаголе 20. Тем не менее, соглашаясь с этой точкой зрения, некоторые ученые высказывали по меньшей мере одно возражение. Почему тот же самый оборот не был использован в интранзитивном перфекте? Если можно сказать «имеет место принесение меня», чтобы выразить мысль «я принес», то с тем же основанием можно было бы сказать «имеет место прихождение меня», чтобы передать содержание «я пришел». Однако по-армянски говорят буквально «я есть пришедший». Другая, связанная с первой трудность, на которую наталкивается объяснение Мейе, связана со статусом формы на -eal. He имея никаких оснований для разделения этой формы на две разновидности, мы вынуждены были бы признать, что в перфекте непереходного глагола форма на -eal выступает как причастие, а в транзитивном перфекте, и только) там,— как имя действия. Такое решение относит эту проблему к предыстории форм на -1, и в частности к предыстории инфинитива, связь которого с этим именем действия на -eal оказывается очень неясной. Наконец, значение перфекта этим также вовсе не объясняется: «имеет место принесение меня» скорее должно было бы означать «я несу» или «я нахожусь в процессе несения», чем «я принес». Синтаксическое иносказание, которое предполагается этим объяснением, оставляет армянскую конструкцию такой же изолированной и необычной, какой она была до этого. Выхода из этих трудностей мы не видим.
К этому взгляду, который Мейе высказал в 1903 г. и которого придерживался до конца, присоединились все языковеды, занимавшиеся этой проблемой, вплоть до авторов новейших исследований об армянском глаголе 20. Тем не менее, соглашаясь с этой точкой зрения, некоторые ученые высказывали по меньшей мере одно возражение. Почему тот же самый оборот не был использован в интранзитивном перфекте? Если можно сказать «имеет место принесение меня», чтобы выразить мысль «я принес», то с тем же основанием можно было бы сказать «имеет место прихождение меня», чтобы передать содержание «я пришел». Однако по-армянски говорят буквально «я есть пришедший». Другая, связанная с первой трудность, на которую наталкивается объяснение Мейе, связана со статусом формы на -eal. He имея никаких оснований для разделения этой формы на две разновидности, мы вынуждены были бы признать, что в перфекте непереходного глагола форма на -eal выступает как причастие, а в транзитивном перфекте, и только) там,— как имя действия. Такое решение относит эту проблему к предыстории форм на -1, и в частности к предыстории инфинитива, связь которого с этим именем действия на -eal оказывается очень неясной. Наконец, значение перфекта этим также вовсе не объясняется: «имеет место принесение меня» скорее должно было бы означать «я несу» или «я нахожусь в процессе несения», чем «я принес». Синтаксическое иносказание, которое предполагается этим объяснением, оставляет армянскую конструкцию такой же изолированной и необычной, какой она была до этого. Выхода из этих трудностей мы не видим.
Теория, которую мы могли бы принять, должна решать эту проблему, сохраняя за каждым членом данной конструкции обычную для него в армянском синтаксисе функцию. Главные элементы конструкции — генитив имени или местоимения, обозначающий деятеля, и именная форма на -eal. Последняя представляет собой в армянском языке форму причастия, и ничего иного: причастие от непереходного глагола (ekeal «пришедший») или причастие пассивное, от переходного (bereal «принесенный»). Это установленный факт, отклоняться от которого мы не имеем права. Генитив субъекта-деятеля также следует рассматривать как генитив в одной из тех функций, которые этот падеж выполняет обычно. Таковы исходные данные.
Напомним, что в склонении имени в армянском языке генитив и датив имеют единую флексию; эти два падежа различаются только местоименной флексией в единственном числе. Генитив с глаголом «быть» в армянском языке выступает в роли предиката обладания. В классических текстах множество примеров такого употребления.
 20 Brugmann, Grundrifi, 2-е изд., стр. 502; Pedersen, KZ, XL, стр. 151 и ел., и «Tocharisch», 1941, стр. 46; Schuchardt, WZKM, XIX, стр. 208 и ел.; Deeters, Arm. und Siidkaukas., 1927, стр. 79; Maries, «Rev. Et. Arm.», X (1930), стр. 176;Lyonnet, Le parfait en armenien classique, P., 1933, стр. 68.
20 Brugmann, Grundrifi, 2-е изд., стр. 502; Pedersen, KZ, XL, стр. 151 и ел., и «Tocharisch», 1941, стр. 46; Schuchardt, WZKM, XIX, стр. 208 и ел.; Deeters, Arm. und Siidkaukas., 1927, стр. 79; Maries, «Rev. Et. Arm.», X (1930), стр. 176;Lyonnet, Le parfait en armenien classique, P., 1933, стр. 68.
Вот некоторые из них: Ев. от Луки, III, 11: оуг ic' en erku handerjk' «тот, кто имеет два платья, 6 s^cov био %iT<I>vac;», букв, «кого (оуг) два платья»; Ев. от Матфея, XXII, 28: оуг yewt' anc'n efic'i па kin «кто из семи возьмет жену?, ttvog tuv ёлта еехтса vuv-q», букв, «кого (оуг) из семи будет женщина?»; Ев. от Луки, VI, 32: zinc'Snorh 6 jer «какую благодарность вы за это имеете?, noia ofxtv %apig eoriv;», буквально «какая вас (jer) благодарность?»; Ев. от Луки, VII, 41: erku partapank' gin urumn p'oxatui «один заимодавец имел двух должников, 86о xpsocpeiAirai -qcrav 6avi<rnj tivi», буквально «одного (urumn— генитив от omn неопр.) заимодавца было два должника»; Ев. от Матфея, XXI, 28: afn mio] Ein erku ordik' «один человек имел двух сыновей, <&rv0pconoc; el%e боо texva», букв, «одного человека (агп) было два сына»; Ев. от Марка, XII, 6: ара ordi mi 5r iwr sireli «и еще он имел любимого сына, In eva elxev viov ауащ-tov», букв, «и еще был его (iwr) любимый сын»; Ев. от Луки XVI, 28: en im and elbark' hing «ибо я имею пять братьев, 1х<в y«P nsvte абеАдроуе», букв, «ибо меня (im) есть пять братьев»; Ев. от Иоанна, VIII, 41: mi 6 hayr mer astuac «мы имеем одного отца — бога, svee латгра Ixofxev tov 6s6v», букв, «нас (mer) один отец». Больше нет необходимости приводить тексты для подтверждения посессивной функции этого предикативного генитива п.
Вернемся теперь к транзитивному перфекту и, оставляя за причастием на -eal пассивное значение, которое оно и должно иметь, рассмотрим генитив субъекта в только что иллюстрированной посессивной функции. Оборот пога 6 gorceal переводится «eius est factum, его есть сделано», что представляет собой обычный армянский эквивалент посессивного выражения 22; точно так же говорится nora s handerj «eius est vestimentum, его есть одежда», причем конструкции с именем и с причастием аналогичны. Выстроив в два параллельных ряда эти обороты, мы обнаруживаем идентичность их структуры, из чего с очевидностью вытекает собственное значение транзитивного перфекта:
пога 5 handerj «eius est vestimentum» = «habet vestimentum»;
nora E gorceal «eius est factum» = «habet factum».
Следовательно, перфект переходного глагола не представляет собой ни подражания какому-либо иноязычному типу, ни аномальной формы. Мы имеем в нем посессивное выражение, основанное на идиоматической модели в самом армянском языке, и переда-
 21 Другие примеры можно найти у Мейе, MSL, XII, стр. 411 и в статье
21 Другие примеры можно найти у Мейе, MSL, XII, стр. 411 и в статье
Г. Генде (G. Guendet) о переводе греч. fyeiv в классическом армянском, «Rev. Et.
Indo-europ.» I (1938), стр. 390 и ел.
22 [Эти страницы были уже напечатаны, когда я обнаружил, что И. Ломан
(J. Lohmann, KZ, LXIII (1936), стр. 51 и ел.) пришел точно к такому же толко
ванию армянского перфекта, но другим путем, отправляясь от фактов грузинского
языка.]
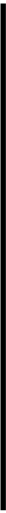 вало оно, очевидно, типичное Значение перфекта переходного глагола. Таким образом, эта форма не только утрачивает свою необычность, но и приобретает особый интерес как для определения перфекта вообще, так и для истории армянского глагола.
вало оно, очевидно, типичное Значение перфекта переходного глагола. Таким образом, эта форма не только утрачивает свою необычность, но и приобретает особый интерес как для определения перфекта вообще, так и для истории армянского глагола.
Синтаксическое своеобразие этого перфекта заключается в том, что от самых штоков письменной традиции он имеет прямое управление, показателем которого выступает частица z-; например, oroC teseal 5r z-na «те, которые видели его, oi Bscopouvteg aoxov» (Ев. от Иоанна, IX, 8). Иными словами, z-gorc gorceal 5 nora «он сделал эту работу» означает не «eius facta est opera», a «eius factum est operam». Поскольку «eius factum est» эквивалентно «habet factum», нет ничего удивительного в том, что оборот «eius factum est» перенимает прямое управление от древнего fecit, на месте которого он появляется в армянском, и предполагает определенный объект. Этим доказывается, что перфект переходного глагола, несмотря на свое перифрастическое строение, функционировал как простая форма и его употребление было вполне устойчивым. Можно предполагать, хотя доказать это и невозможно, что типу «eius factum est operam» предшествовал такой тип, как «eius facta est opera». Во всяком случае, в исторический период перфект переходного глагола по отношению к своему объекту ведет себя как простая форма переходного глагола.
Мы рассмотрели «пассивное» выражение транзитивного перфекта в двух разных языках. В обоих случаях «пассивная» конструкция на поверку оказывается посессивной формой и эта последняя выступает как собственный показатель транзитивного перфекта. Каждое из этих двух явлений по-своему обосновано в истории своего языка. Между ними нет связи, как нет и взаимного влияния. Совпадение между персидским и армянским тем более замечательно, что оба языка приходят к одинаковому результату разными путями и в разные исторические периоды.
Непосредственным следствием нашего анализа является то, что на месте непонятной особенности выражения, как в армянском, или нецелесообразной синтаксической перифразы, как в древне-персидском, мы обнаруживаем в обоих языках давно известную конструкцию: перфект переходного глагола передается с помощью глагола «иметь» или какого-либо его субститута. Таким образом, и древнеперсидский и армянский включаются в ту группу языков, от хеттского до современных западноевропейских, которые для создания или воссоздания перфекта прибегали к вспомогательному глаголу «иметь» г9.
 рк ЭТОГ0 Развития Дан У Ж. Вандриеса в сб. «Melanges J. van Ginneken», 1937, стр. 85—92; эта статья перепечатана в книге: J. Vendryes, Choix d'etudes linguistiques et celtiques, 1952, стр. 102—109.
рк ЭТОГ0 Развития Дан У Ж. Вандриеса в сб. «Melanges J. van Ginneken», 1937, стр. 85—92; эта статья перепечатана в книге: J. Vendryes, Choix d'etudes linguistiques et celtiques, 1952, стр. 102—109.
Что касается иранских языков, то давно известные факты получают теперь новое освещение. Так, перфект с глаголом dar- «иметь» в согдийском языке, обнаруженный вслед за тем и в хорезмий-ском 24, был просто любопытной особенностью этих языков. Было непонятно, как два довольно близких диалекта восточносреднепер-сидского пришли к тому же самому выражению перфекта с глаголом «иметь», что и западноперсидские. Исходный пункт этой инновации оставался неясным. Теперь же мы видим, что рассматриваемое явление представляет собой лишь одно из проявлений более широкого и более древнего процесса, который захватывает также и область западноиранских языков, а именно древнеперсидский. В нем-то и началась эволюция перфекта к посессивному и перифрастическому выражению. Вполне вероятно, что древнесогдийский или какой-то другой древний диалект восточноиранского пережил ту же эволюцию, более позднюю фазу которой мы наблюдаем в исторических согдийском и хорезмийском языках (представляющих собой диалекты среднего периода). Древнеперсидской конструкции «mihi factum est» соответствует согдийская «habeo factum»; в этом вся разница. Оба оборота означают одно и то же, точно так же, как между лат. mihi cognitum est и habeo cognitum существует только разница во времени их распространения. Таким образом, представляется необходимым пересмотреть описание сред-незападноиранских языков в части, касающейся синтаксиса перфекта 25. Целью этого пересмотра будет показать, как названная конструкция постепенно и все более явственно приобретает транзитивный характер через оформление определенности объекта и дальнейшую перестройку личных окончаний.
Процесс, имевший место в армянском языке, свидетельствует о конвергенции в эволюции на всем индоевропейском ареале, даже в тех языках, которые, казалось бы, сильней всего уклонились от древней нормы. Оборот, в котором видели основную аномалию армянского синтаксиса, оказывается, напротив, конструкцией, обнаруживающей устойчивость индоевропейского наследства в армянском языке. Так как армянский и древнеперсидский должны быть теперь причислены к языкам, преобразовавшим древний перфект в выражение действия, которым «обладает» деятель, и это явилось в конечном счете одной из существеннейших черт новой глагольной системы, то существовала тесная связь и отношение преемственности между простой формой индоевропейского перфекта
 24 На параллельное образование перфекта в хорезмийском и согдийском
24 На параллельное образование перфекта в хорезмийском и согдийском
указывал В. Хеннинг: W. Henning, ZDMG, 1936, стр. *33*. Ср. также
А. А. Фрейман, Хорезмийский язык, 1951, стр. 41 и 112. В хотанском языке
транзитивный перфект строится с вспомогательным глаголом уап- «делать». Ср.
S. Konow, Primer of Khotanese Saka, 1949, стр. 50.
25 Что касается среднеперсидского, то основные факты можно найти у В. Хен-
нинга: W. Henning, III, IX (1933), стр. 242 и ел.; относительно среднепарфян-
ского см. A. Ghilain, Essai sur la langue parthe, 1939, стр. 119 и ел.
 и описательной посессивной конструкцией, которая заменила эту форму в таком большом количестве языков.
и описательной посессивной конструкцией, которая заменила эту форму в таком большом количестве языков.
Важно отчетливо представить себе значимость этого посессивного выражения перфекта и учитывать все разнообразие форм, в которых это выражение может выявляться или под которым оно может скрываться. Тот факт, что эту посессивную конструкцию так долго интерпре^ровали как «пассивную», говорит о том, как трудно подчас судить о явлении какого-либо языка в рамках самого этого языка и не переносить на него категории привычного для исследователя, но иного языка. Сочетание формы глагола «быть» с пассивным причастием и формой субъекта в косвенном падеже характеризует пассивную конструкцию в языках большинства исследователей; поэтому перфект, выражающийся посредством тех же элементов, был тотчас отождествлен с пассивной конструкцией. Но ведь не только в фонематическом анализе лингвист должен уметь отказываться от схем, навязанных ему его собственными языковыми навыками.
ГЛАВА XVir
ГЛАГОЛЫ «БЫТЬ» И «ИМЕТЬ» И ИХ ФУНКЦИИ В ЯЗЫКЕ
В основу анализа, как исторического, так и описательного, следует положить различие двух слов, которые смешивают, когда рассуждают о глаголе «быть»:… тическое сосуществование двух слов, двух функций, двух конструкций. Утверждая идентичность указанных двух слов, иногда ссылаются на именное предложение. Мы уже пытались г определить…Ко
L
ное значение. Мы видим здесь, что два совершенно различных типа языка могут сближаться, образуя одну и ту же синтаксическую структуру, посредством конвергенции, орудием которой является местоимение. Наличие аналогичных ситуаций в семитских и тюркских языках заставляет предположить, что подобное решение может встретиться и в других языках, каждый раз, когда двучленное именное предложение при помощи какого-либо формального средства (не просодического) реализуется как утвердительное высказывание и включает новый член, служащий знаком утверждения. Местоимение и является таким знаком. Мы можем теперь привести подтверждение из третьего типа языков, в котором с помощью того же способа была самостоятельно создана форма именного предложения. Это явление имело место и в индоевропейских языках, точнее говоря, в части иранских языков.
Возьмем сначала согдийский язык. Кроме глаголов со значением «быть» ('sty, Pwt, 'skwty), здесь функцию связки в конце предложения выполняет местоимение 'yw «он, ему», которое может даже служить артиклем: tk'wS8ZYmy... ZKH"z'wn8Ywth'Ywkt'r ZY z'tk «посмотрите, ребенок девочка или мальчик» (VJ. 24 и ел.); ywyz'kw nyy 'yw «(закон) необычайно глубок» (Dhu. 77, ср. 222); mwrtk Чп 'yw «он мертв» (R. I, фрагм. II, а, 14); KZNH yrP'nt 'YKZY'pw "stnyh 'yw «чтобы они поняли, каково непостоянство» (Vim. 119); отметим попеременное употребление то Pwt, то/yw b следующем тексте: 'YK' w't6'r pw "y'm yw ms pwt'n'k CWRH pw "y'm Pwt 'YK' w't6'r pw kyr'n 'yw ms pwt'n'k kwtr 'pw kyr'n Pwt «как бытие (есть, yw) бесконечно, так и тело Будды (есть, pwt) бесконечно; как бытие (есть 'yw) беспредельно, готра Будды (есть, Pwt) так же беспредельна» (Dhu. 57 и ел.) — в типичной ситуации «быть» выражено местоимением, в случайной ситуации — с помощью Pwt. В буддийских текстах можно без труда найти сколько угодно примеров с 'yw, построенных так же 4. Эта черта сохранилась в ягнобском, где ах является одновременно и указательным местоимением и связкой 6: с одной стороны, ах odam avvow «этот человек пришел» (ах — местоимение), с другой: incem ku-x «где моя жена?», xuraki max kam-x «наш запас провизии мал» (ах — связка, выступает в виде аффикса -х).
Между согдийским языком и ягнобским в этом отношении существует историческая преемственность. Но подобную функцию указательного местоимения можно наблюдать также и в двух других иранских языках — в пушту и осетинском. В пушту в
 4 Мы в свое время указывали на такое использование местоимения в согдийском и ягнобском языках («Grammaire sogdienne», II, стр. 67—68), но не смогли его объяснить.
4 Мы в свое время указывали на такое использование местоимения в согдийском и ягнобском языках («Grammaire sogdienne», II, стр. 67—68), но не смогли его объяснить.
6 Примеры см.: М. С. Андреев и Е. М. Пешчерева, Ягнобские тексты, М.—Л., 1953, стр. 227Ь, 354 а; ср. также «Grundrifi der iranischen Philologie», II, стр. 342 (§ 94, 3). Под влиянием персидского языка ягнобское -х иногда усиливается с помощью ast,
 настоящем времени глагола «быть» два первых лица •— yam, ye" — противопоставляются 3-му лицу — dai, жен. p. da, множ. ч. dl, формы которого не могут иметь никакой связи с древним глаголом ah-. Действительно, это местоимение dai (древнеиранское ta-), оформленное как прилагательное и введенное в парадигму настоящего времени «быть» при помощи перифрастического спряжения, подобного настоящему времени пассивного залога глагола «делать»: 1. karai yam «я сделан», 2. karai уё «ты сделан», но 3. karai dai «он сделан» (букв, «сделанный он»), жен. p. kare da (букв, «сделанная она»), множ. ч. karl di (букв, «сделанные они»). Наконец, как нами было показано в другой работе, форма 3-го лица ед. числа наст, времени глагола «быть» п — в осетинском языке представляет собой местоимение в аналогичном употреблении в. Таким образом, три иранских языка в результате спонтанного развития независимо друг от друга пришли к сходной синтаксической структуре, внешне так мало похожей на индоевропейскую и закрепившейся также в семитских и тюркских языках.
настоящем времени глагола «быть» два первых лица •— yam, ye" — противопоставляются 3-му лицу — dai, жен. p. da, множ. ч. dl, формы которого не могут иметь никакой связи с древним глаголом ah-. Действительно, это местоимение dai (древнеиранское ta-), оформленное как прилагательное и введенное в парадигму настоящего времени «быть» при помощи перифрастического спряжения, подобного настоящему времени пассивного залога глагола «делать»: 1. karai yam «я сделан», 2. karai уё «ты сделан», но 3. karai dai «он сделан» (букв, «сделанный он»), жен. p. kare da (букв, «сделанная она»), множ. ч. karl di (букв, «сделанные они»). Наконец, как нами было показано в другой работе, форма 3-го лица ед. числа наст, времени глагола «быть» п — в осетинском языке представляет собой местоимение в аналогичном употреблении в. Таким образом, три иранских языка в результате спонтанного развития независимо друг от друга пришли к сходной синтаксической структуре, внешне так мало похожей на индоевропейскую и закрепившейся также в семитских и тюркских языках.
Другое решение названной тенденции заключалось в использовании глагольной формы, однако не той, которая выражает существование. Яркие примеры этого мы находим в поздней латыни, где esse выступает в роли связки, тогда как понятие существования переходит к глаголам existere, extare 7, или в ирландском языке, где в 3-м лице ед. числа is противопоставляется ta (с приставочным элементом — at-). В ирландском языке существуют, таким образом, две самостоятельные полные парадигмы. Для формы, выражающей тождество, в настоящем времени: ед. ч. 1. am, 2. at, 3. is; множ. ч. 1. d-em, 2. adib, 3. it. Для глагола существования: ед. ч. 1. tau, to, 2. tai, 3. ta; множ. ч. 1. taam, 2. taaid, taid, 3. taat. He важно, что этимологически ирл. is продолжает *esti. В системе современного ирландского языка 8 оппозиция is и ta поддерживает различие двух понятий. Так же обстоит дело в кучанском языке 9. С одной стороны, глагол существования nes-, например: nesam ytarye tne samsarmem... laklentamem tsalpatsis «есть (nesam) путь (ytarye) здесь, чтобы освободиться (tsalpatsis) от самсара °и страданий»; с другой стороны— ste, 3-е лицо ед. ч.; мн. ч. stare, способный принимать местоименные суффиксы, для выражения отношения тождества: ayor saima ste «дар (ayor) — охранитель (saima)»; ceym rsaki nissa spalmem stare «эти рши суть (stare) лучше (spalmem), чем я (nissa)». Вряд ли требуется напоминать о двух
 6 Ср. нашу книгу «Etudes sur la langue ossete», P., 1959, стр. 74—75, где пред
6 Ср. нашу книгу «Etudes sur la langue ossete», P., 1959, стр. 74—75, где пред
восхищено настоящее изложение.
7 Более подробно см. Ernout, BSL, L, 1954, стр. 25 и ел.
8 См. L. Sjoestedt, Description d'un parler du Kerry, стр. 112 и ел.
9 Krause, Westtocharische Grammatik, I, 1952, стр. 61, § 64.
глаголах ser и estar в испанском языке. Мы видим, что в этих языках названное различие сохраняется с помощью лексической инновации. Не следует думать, что это различие и языковые потребности, которым оно отвечает, характерны только для индоевропейских языков. Мы встречаемся с ними в самых различных языках. Ф. Мартини, распространившему нашу концепцию именного предложения на языки Индокитая, удалось обнаружить в сиамском (тайском) и камбоджийском (мон-кхмер) языках аналогичную дифференциацию 10. В тайском языке она существует между khu, которое служит для выражения тождества, и реп «существовать, быть живым»; в камбоджийском языке — между gl (связка) и ja «существовать, (быть) хорошим, истинным». Совпадение это тем более поразительно, что в этих языках только синтаксическое поведение форм позволяет определить их как глаголы ".
И наконец, последнее решение — то, которое мы наблюдаем в большинстве индоевропейских языков: использование *es-как в функции связки, так и в качестве глагола существования. Различие между ними отныне устранено. Складывается, таким образом, положение, характерное для современного французского языка, где можно сказать как cela est «это есть», так и cela est bon «это хорошо» без какой бы то ни было дифференциации etre «быть» и exister «существовать». При такой ситуации нет больше ничего, что соответствовало бы лексическому противопоставлению испанского ser : estar или тому противопоставлению, которое выражается в русском языке, с одной стороны, в форме «нулевая морфема: есть», с другой стороны, различием падежа предиката «именительный : творительный». Вместе с тем слияние этих двух категорий в некоторое единство упрощает функционирование временных флексий, поскольку устанавливается система более регулярных парадигм. И в конце концов то, что было не чем иным, как грамматической связью, получает лексическое подкрепление — «быть» становится лексемой, способной и выражать существование, и утверждать тождество.
Несколько странным, вероятно, покажется, что таким же вспомогательным глаголом, как «быть», является и «иметь». Казалось бы, все различает эти два глагола, и непонятно, почему они должны функционировать одинаково. Какая необходимость была для появления в различных языках второго вспомогательного глагола, если, например, в русском или персидском языках обходятся
 10 BSL, LII,1956, стр. 289-306.
10 BSL, LII,1956, стр. 289-306.
11 У нас еще, возможно, будет повод вновь обратиться в свете указанного здесь
различия к сложным фактам, связанным с «быть» в индо-иранских языках, иссле
дованным Р. Л. Тернером (R. L. Turner, BSOS, VIII,1936, стр. 795 и ел.) и
X. Хендриксеном (Н. Hendriksen, BSOAS, XX, 1957, стр. 331 и ел.).
 | |
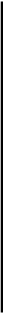 |
 одним? Более того, этот второй вспомогательный глагол «иметь», в отличие от «быть», действительно и в полном смысле слова имеет значение, которым занимаются лексикографы; помимо своей функции вспомогательного глагола он имеет свободную конструкцию — конструкцию глагола в активном залоге, подобного всем другим, и управляет прямым дополнением. По существу, чем больше мы изучаем «иметь», тем труднее нам объяснить, почему мы считаем его вспомогательным глаголом. Попробуем поэтому охарактеризовать его с формальной стороны в нескольких языках. Нужно подвергнуть глагол «иметь» конкретному анализу хотя бы в нескольких языковых системах, даже если (как это и окажется) нам придется в конце концов отказаться от некоторых связанных с ним теоретических понятий, не имеющих оправдания ни в логике, ни в грамматике.
одним? Более того, этот второй вспомогательный глагол «иметь», в отличие от «быть», действительно и в полном смысле слова имеет значение, которым занимаются лексикографы; помимо своей функции вспомогательного глагола он имеет свободную конструкцию — конструкцию глагола в активном залоге, подобного всем другим, и управляет прямым дополнением. По существу, чем больше мы изучаем «иметь», тем труднее нам объяснить, почему мы считаем его вспомогательным глаголом. Попробуем поэтому охарактеризовать его с формальной стороны в нескольких языках. Нужно подвергнуть глагол «иметь» конкретному анализу хотя бы в нескольких языковых системах, даже если (как это и окажется) нам придется в конце концов отказаться от некоторых связанных с ним теоретических понятий, не имеющих оправдания ни в логике, ни в грамматике.
Рассмотрим, как обстоит дело во французском языке сравнительно с глаголом etre «быть». Можно заметить, что у avoir «иметь» есть некоторые свойства, общие с etre, и ряд других свойств, присущих только ему. Мы кратко суммируем отношения между этими глаголами следующим образом:
1. И etre и avoir имеют формальный статус вспомогательных
глаголов, с помощью которых образуются формы времени.
2. Ни etre, ни avoir не имеют формы пассива.
3. Etre и avoir допускаются как вспомогательные глаголы для
образования времен у одних и тех же глаголов в зависимости от
того, являются ли эти глаголы возвратными или нет, то есть в
зависимости от того, обозначают ли субъект и объект одно и то же
лицо или нет: etre используется, когда субъект и объект совпадают
(il s'est blesse «он ушибся»), a avoir — когда они не совпадают
(И т'а blesse «он ушиб меня»).
4. Иначе говоря, вспомогательные глаголы etre и avoir нахо
дятся в отношении дополнительной дистрибуции; все глаголы
обязательно используют либо тот, либо другой (il est arrive «он
приехал», il a mange «он съел»), в том числе и сами etre и avoir,
которые в независимом употреблении сочетаются с avoir (il a ete
«он был», il а ей «он имел»).
Подобная симметрия употребления и отношение дополнительной дистрибуции между двумя вспомогательными глаголами, имеющими, кроме того, одинаковый состав форм и сходные конструкции, вступает в явное противоречие с их лексической природой и с их синтаксическим поведением в независимом употреблении. Здесь etre и avoir разделяет одно существенное различие: вне функции вспомогательного глагола конструкция etre предикативна, в то время как конструкция avoir транзитивна. Тут, казалось бы, между двумя глаголами пролегла пропасть. Непонятно, в частности, каким образом транзитивный глагол может стать вспомогательным.
Это, однако, иллюзия. «Иметь» обладает конструкцией транзн-
тивного глагола и тем не менее таковым не является. Это глагол псевдотранзитивный. Между субъектом и объектом глагола «иметь» не может существовать отношение переходности, когда действие предполагается переходящим на объект и видоизменяющим его. Глагол «иметь» не выражает никакого процесса. По существу, «иметь» как лексема встречается в языках крайне редко; большинство языков ее не знает. Даже в пределах индоевропейской семьи языков это позднее приобретение 12; понадобилось много времени, чтобы оно закрепилось хотя бы в части этих языков. Наиболее распространенным выражением отношения, передаваемого в наших языках с помощью «иметь», является обращенное выражение «быть у», где субъектом становится то, что представляет собой грамматический объект глагола «иметь». Например, единственным возможным эквивалентом «иметь» в арабском языке является капа 1-«быть у». Такова ситуация в большинстве языков.
Мы ограничимся лишь несколькими иллюстрациями, взятыми из самых различных языков. В алтайских языках глагол «иметь» отсутствует; в турецком языке предикат существования var и предикат отсутствия yoq 13 образуются с помощью суффигируемого местоимения: bir ev-im var «один (bir) дом-мой (ev-im) есть; у меня есть дом»; в монгольском (классическом) «быть» соединяется с дательным-местным падежом местоимения или имени обладателя: nadur morin buy «у меня (nadur) лошадь (morin) есть (buy); у меня есть лошадь» 14. Без какого-либо влияния с той или иной стороны в курдском языке говорят так же: min hespek heye «у меня (min) лошадь (hespek) есть (heye)», в то время как в персидском языке, очень близком ему генетически и типологически, используется глагол dastan «иметь». В классическом грузинском 16 мы встречаем ту же конструкцию «быть у», которая в переводах оказывается совпадающей с конструкцией греческих образцов; romelta ara akuns saunze буквально соответствует греч. olg оох lativ rauaelov «у них нет хранилищ» (Ев. от Луки, XII, 24). Существительное или местоимение, здесь относительное местоимение в дательном падеже romelta «которым», может сопровождаться в генитиве или дативе tana «с»: ara ars cuen tana uprojs xut xueza puri «у нас не больше, чем пять хлебов», букв, «нет мы с (cuen tana) больше пяти хлебов, оох etalv -f][nv nXetov ^ aptoi xcevte» (Ев. от Луки IX, 13).
В области африканских языков можно привести в качестве примера язык эве (Того) 1в, где «иметь» выражается как «быть в
 12 См. MeiI let,Le developpement du verbe «avoir», «Antid6ron... J. Wacker-
12 См. MeiI let,Le developpement du verbe «avoir», «Antid6ron... J. Wacker-
nagel», 1924, стр. 9—13.
13 Deny, Grammaire, § 1198.
14 Poppe, Grammar of written Mongolian, 1954, стр. 147, § 509.
16 Различные выражения были изучены Г. Деетерсом, см. «Festschrift A. De-brunner», 1954, стр. 109 и ел.
16 D. Westermann, Worterbuch der Ewe-Sprache, I, стр. 321.

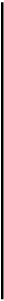 одним? Более того, этот второй вспомогательный глагол «иметь», в отличие от «быть», действительно и в полном смысле слова имеет значение, которым занимаются лексикографы; помимо своей функции вспомогательного глагола он имеет свободную конструкцию — конструкцию глагола в активном залоге, подобного всем другим, и управляет прямым дополнением. По существу, чем больше мы изучаем «иметь», тем труднее нам объяснить, почему мы считаем его вспомогательным глаголом. Попробуем поэтому охарактеризовать его с формальной стороны в нескольких языках. Нужно подвергнуть глагол «иметь» конкретному анализу хотя бы в нескольких языковых системах, даже если (как это и окажется) нам придется в конце концов отказаться от некоторых связанных с ним теоретических понятий, не имеющих оправдания ни в логике, ни в грамматике.
одним? Более того, этот второй вспомогательный глагол «иметь», в отличие от «быть», действительно и в полном смысле слова имеет значение, которым занимаются лексикографы; помимо своей функции вспомогательного глагола он имеет свободную конструкцию — конструкцию глагола в активном залоге, подобного всем другим, и управляет прямым дополнением. По существу, чем больше мы изучаем «иметь», тем труднее нам объяснить, почему мы считаем его вспомогательным глаголом. Попробуем поэтому охарактеризовать его с формальной стороны в нескольких языках. Нужно подвергнуть глагол «иметь» конкретному анализу хотя бы в нескольких языковых системах, даже если (как это и окажется) нам придется в конце концов отказаться от некоторых связанных с ним теоретических понятий, не имеющих оправдания ни в логике, ни в грамматике.
Рассмотрим, как обстоит дело во французском языке сравнительно с глаголом etre «быть». Можно заметить, что у avoir «иметь» есть некоторые свойства, общие с etre, и ряд других свойств, присущих только ему. Мы кратко суммируем отношения между этими глаголами следующим образом:
1. И etre и avoir имеют формальный статус вспомогательных
глаголов, с помощью которых образуются формы времени.
2. Ни etre, ни avoir не имеют формы пассива.
3. Etre и avoir допускаются как вспомогательные глаголы для
образования времен у одних и тех же глаголов в зависимости от
того, являются ли эти глаголы возвратными или нет, то есть в
зависимости от того, обозначают ли субъект и объект одно и то же
лицо или нет: etre используется, когда субъект и объект совпадают
(il s'est blesse «он ушибся»), a avoir—когда они не совпадают
(il m'a blesse «он ушиб меня»).
4. Иначе говоря, вспомогательные глаголы etre и avoir нахо
дятся в отношении дополнительной дистрибуции; все глаголы
обязательно используют либо тот, либо другой (il est arrive «он
приехал», il a mange «он съел»), в том числе и сами etre и avoir,
которые в независимом употреблении сочетаются с avoir (il a ete
«он был», il а ей «он имел»).
Подобная симметрия употребления и отношение дополнительной дистрибуции между двумя вспомогательными глаголами, имеющими, кроме того, одинаковый состав форм и сходные конструкции, вступает в явное противоречие с их лексической природой и с их синтаксическим поведением в независимом употреблении. Здесь etre и avoir разделяет одно существенное различие: вне функции вспомогательного глагола конструкция etre предикативна, в то время как конструкция avoir транзитивна. Тут, казалось бы, между двумя глаголами пролегла пропасть. Непонятно, в частности, каким образом транзитивный глагол может стать вспомогательным.
Это, однако, иллюзия. «Иметь» обладает конструкцией транзи-
тивного глагола и тем не менее таковым не является. Это глагол псевдотранзитивный. Между субъектом и объектом глагола «иметь» не может существовать отношение переходности, когда действие предполагается переходящим на объект и видоизменяющим его. Глагол «иметь» не выражает никакого процесса. По существу, «иметь» как лексема встречается в языках крайне редко; большинство языков ее не знает. Даже в пределах индоевропейской семьи языков это позднее приобретение 12; понадобилось много времени, чтобы оно закрепилось хотя бы в части этих языков. Наиболее распространенным выражением отношения, передаваемого в наших языках с помощью «иметь», является обращенное выражение «быть у», где субъектом становится то, что представляет собой грамматический объект глагола «иметь». Например, единственным возможным эквивалентом «иметь» в арабском языке является капа 1-«быть у». Такова ситуация в большинстве языков.
Мы ограничимся лишь несколькими иллюстрациями, взятыми из самых различных языков. В алтайских языках глагол «иметь» отсутствует; в турецком языке предикат существования var и предикат отсутствия yoq 13 образуются с помощью суффигируемого местоимения: bir ev-im var «один (bir) дом-мой (ev-im) есть; у меня есть дом»; в монгольском (классическом) «быть» соединяется с дательным-местным падежом местоимения или имени обладателя: nadur morin buy «у меня (nadur) лошадь (morin) есть (buy); у меня есть лошадь» 14. Без какого-либо влияния с той или иной стороны в курдском языке говорят так же: min hespek heye «у меня (min) лошадь (hespek) есть (heye)», в то время как в персидском языке, очень близком ему генетически и типологически, используется глагол dastan «иметь». В классическом грузинском 1В мы встречаем ту же конструкцию «быть у», которая в переводах оказывается совпадающей с конструкцией греческих образцов; romelta ara akuns saunze буквально соответствует греч. olg оох ecmv tafuelov «у них нет хранилищ» (Ев. от Луки, XII, 24). Существительное или местоимение, здесь относительное местоимение в дательном падеже romelta «которым», может сопровождаться в генитиве или дативе tana «с»: ara ars cuen tana uprojs xut xueza puri «у нас не больше, чем пять хлебов», букв, «нет мы с (cuen tana) больше пяти хлебов, оох etmv тгщю nKelov ?) aptoi Jtsvte» (Ев. от Луки IX, 13).
В области африканских языков можно привести в качестве примера язык эве (Того) 1в, где «иметь» выражается как «быть в
 12 См. Me i I let, Le developpement du verbe «avoir», «Antid6ron... J. Wacker-
12 См. Me i I let, Le developpement du verbe «avoir», «Antid6ron... J. Wacker-
nageb, 1924, стр. 9—13.
13 Deny, Grammaire, § 1198.
14 Poppe, Grammar of written Mongolian, 1954, стр. 147, § 509.
16 Различные выражения были изучены Г. Деетерсом, см. «Festschrift A. De-brunner», 1954, стр. 109 и ел.
16 D. Westermann, Worterbuch der Ewe-Sprache, I, стр. 321.
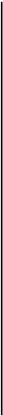 руке» (глагол 1е «быть, существовать» + asi «в руке»): ga le asi-nye «деньги (ga) есть в моей (-пуе) руке; у меня есть деньги». В языке ваи (Либерия) 17, где обладание обязательно уточняется как отчуждаемое или неотчуждаемое, существуют два выражения: с одной стороны, nkun ?be «моя (п) голова (кий) существует (?Ье); у меня есть голова», с другой — ken ?be m'bolo «дом (ken) существует в моей руке (m'bolo); у меня есть дом». Точно так же в канури «я имею» передается как nanyin mbeji, букв, «я-с (nanyin) имеется (mbeji)» 18.
руке» (глагол 1е «быть, существовать» + asi «в руке»): ga le asi-nye «деньги (ga) есть в моей (-пуе) руке; у меня есть деньги». В языке ваи (Либерия) 17, где обладание обязательно уточняется как отчуждаемое или неотчуждаемое, существуют два выражения: с одной стороны, nkun ?be «моя (п) голова (кий) существует (?Ье); у меня есть голова», с другой — ken ?be m'bolo «дом (ken) существует в моей руке (m'bolo); у меня есть дом». Точно так же в канури «я имею» передается как nanyin mbeji, букв, «я-с (nanyin) имеется (mbeji)» 18.
Мы не будем нагромождать здесь для доказательства фактический материал — примеры составили бы огромный список. Каждый может легко убедиться, какие бы языки он ни взлл, в преобладании типа «mihi est» («у меня есть») над типом «habeo» («имею»). И как бы мало нам ни было известно об истории того или иного языка, мы часто наблюдаем, что развитие идет от типа «mihi est» к «habeo», но не наоборот, а это значит, что даже там, где существует «habeo», оно могло возникнуть из предшествующего «mihi est». Если какое-либо выражение этого отношения можно считать «нормальным», то это как раз «mihi est aliquid» («у меня есть нечто»), в то время как «habeo aliquid» («имею нечто»), как бы ни было важно само по себе появление «иметь» как самостоятельного глагола,— всего лишь вторичный вариант этого выражения, имеющий ограниченную сферу распространения.
Следует только предупредить здесь возможное недоразумение, которому легко может дать повод выражение «mihi est», если его рассматривать в таком виде, не уточняя его места в системе каждого отдельного языка. Выражение «быть у», о котором идет речь, абсолютно не тождественно французскому обороту etre а — се livre est a moi «эта книга моя». Между тем и другим необходимо проводить строгое различие. Французскому est a moi нельзя приписать ту же функцию, что лат. est mihi; в латинском языке est mihi передает то же отношение, что и habeo, которое является не чем иным, как его трансформацией: est mihi liber «у меня есть книга» было заменено habeo librum «я имею книгу». Во французском же языке здесь выражаются два разных отношения: avoir выражает обладание (j'ai un livre «у меня есть книга»); etre а выражает принадлежность (се livre est a moi «эта книга моя»). Различие отношений вытекает из различия конструкций: etre а требует всегда определенного субъекта; un livre est a moi «какая-то книга моя» было бы невозможно, нужно сказать: се livre est a moi «эта книга моя». Напротив, avoir требует всегда неопределенного объекта; j'ai ce livre «я имею эту книгу» даже в лучшем случае имело бы слабый шанс появиться в речи; нужно сказать: j'ai un livre «я
 "A. Klingenheben, Nachrichten der Gotting. Gesellschaft, 1933, стр. 390.
"A. Klingenheben, Nachrichten der Gotting. Gesellschaft, 1933, стр. 390.
la J. Lukas, A Study of the Kanuri Language, стр. 28—29, § 72.
имею (одну) книгу». Вот почему латинское est mihi соответствует французскому j'ai, а не est a moi.
В силу того же методологического требования не следует смешивать две конструкции, которые одновременно встречаются в древних индоевропейских языках: «быть» с дательным падежом и «быть» с генитивом 19. Это два различных типа предикации. В случае генитива мы имеем предикат принадлежности, служащий для определения объекта: авест. kahya ahi? «чей ты? кому принадлежишь ты?»; вед. ahar devanam asid ratrir asuranam «день принадлежал богам, ночь — Асурам»; хетт, kuella GUD-us UDU-uS «кому принадлежат быки (и) бараны»; греч. гомер. тоо (зд. Aiog) yap xpaxog scrti piiyurrov «ему (богу) принадлежит высшая сила»; лат. Galliam potius esse Ariovisti quam populi romani «(он не мог поверить), что Галлия принадлежит больше Ариовисту, чем римскому народу» (Цезарь, BG, 1,45,1); ст.-ел. котораго отъ седми бадетъ жена «которого из семи будет женщина?; rivoc, %5>v kma. scrtai Yovy|» (Ев. от Матфея XXII, 28). С дательным же падежом «быть» определяет предикат обладания: так, хетт, tuqqa UL kuitki eszi «тебе ничего нет = у тебя ничего нет»; греч. гсттл ген %pvao$ «есть тебе золото = у тебя есть золото» и др.
Нас интересует, следовательно, отношение обладания (посес-сивности) и его выражение с помощью «быть у». Потому что «иметь» это не что иное, как инвертированное «быть у»: mihi est pecunia «у меня есть деньги» инвертируется в habeo pecuniam «я имею деньги». В отношении посессивное™, выраженном с помощью mihi est, предмет обладания осмысляется как субъект; обладатель указывается лишь периферийным падежом, дативом, и обозначается им как тот, в ком «быть у» реализуется. В конструкции (ego) habeo pecuniam «я имею деньги» это отношение не может стать «транзитивным»; ego «я», понимаемое теперь как субъект, тем самым отнюдь не становится действующим лицом процесса: оно представляет собой средоточие состояния в синтаксической конструкции, которая лишь имитирует выражение процесса.
Все проясняется, когда мы наконец признаем «иметь» тем, чем он и является — глаголом состояния. И подтверждение этому мы находим в системах самых различных языков. В готском языке «иметь», aih, является перфекто-презентным глаголом. Он входит в класс, содержащий исключительно глаголы субъективного состояния, отношения, настроения, но не действия 20: wait «знать», mag «мочь», skal «долженствовать», man «полагать», og «бояться» и т. п. Таким образом, aih «иметь» характеризуется как глагол состояния уже самой своей формой. У него есть соответствие в индоиранских языках — вед. 1§е, авест. ise «иметь, обладать»; и здесь
 19 В статье Мейе, цитированной выше, различие между ними не проводится.
19 В статье Мейе, цитированной выше, различие между ними не проводится.
Для хеттского языка оно указано в «Archiv Orientelni», XVII, 1949, стр. 44 и ел.
20 Ср. «Archivum Linguisticum», I, 1949, стр. 19 и ел. (в наст, книге гл. XI);
«Die Sprache», VI, 1960, стр. 169t
 глагол также существует только в виде перфекта среднего залога, обозначающего состояние21: Ise— это редуплицированный перфект *31i-a1is-ai, который послужил основой для настоящего времени 22. По существу, все перфекто-презентные глаголы готского языка можно было бы передать перифрастически с помощью «иметь», указывающего состояние субъекта: wait «я имею сведения», mag «я имею возможность», og «я имею страх (охвачен страхом)», t>arf «я имею надобность», man «я имею мнение» и т. п. Само «иметь» означает только состояние. Это подтверждается аналогичным явлением на другом конце земного шара, в одном из американо-индейских языков. В языке туника (Луизиана) существует класс глаголов, называемых статическими **; их своеобразие состоит в том, что они не могут спрягаться без местоименных префиксов и, кроме того, требуют префиксов «неотчуждаемого» обладания. Если рассматривать статические глаголы в их семантической дистрибуции, все их можно свести к понятиям состояния: состояния эмоционального («стыдиться, сердиться, быть возбужденным, счастливым» и т. п.); состояния физического («быть голодным, замерзшим, пьяным, усталым, старым» и т. п.); состояния умственного («знать, забывать») и также, если можно так сказать, состояния обладания: «иметь» в целом ряде выражений. Включение «иметь» в число глаголов состояния соответствует и сущности данного понятия. При этом становится понятно, почему «иметь» используется многими языками в описательных оборотах, передающих субъективные состояния: «испытывать голод, холод, желание...» (франц. il a faim «он голоден»), далее, «испытывать жар» (франц. il a la fievre «у него жар»), менее отчетливо, но с ясным указанием на затрагивание действием субъекта — «иметь больного сына» (франц. elle a un fils malade «1. у нее больной сын; 2. у нее сын болен»). Ни в одном из своих употреблений «иметь» не указывает на объект — всегда только на субъект.
глагол также существует только в виде перфекта среднего залога, обозначающего состояние21: Ise— это редуплицированный перфект *31i-a1is-ai, который послужил основой для настоящего времени 22. По существу, все перфекто-презентные глаголы готского языка можно было бы передать перифрастически с помощью «иметь», указывающего состояние субъекта: wait «я имею сведения», mag «я имею возможность», og «я имею страх (охвачен страхом)», t>arf «я имею надобность», man «я имею мнение» и т. п. Само «иметь» означает только состояние. Это подтверждается аналогичным явлением на другом конце земного шара, в одном из американо-индейских языков. В языке туника (Луизиана) существует класс глаголов, называемых статическими **; их своеобразие состоит в том, что они не могут спрягаться без местоименных префиксов и, кроме того, требуют префиксов «неотчуждаемого» обладания. Если рассматривать статические глаголы в их семантической дистрибуции, все их можно свести к понятиям состояния: состояния эмоционального («стыдиться, сердиться, быть возбужденным, счастливым» и т. п.); состояния физического («быть голодным, замерзшим, пьяным, усталым, старым» и т. п.); состояния умственного («знать, забывать») и также, если можно так сказать, состояния обладания: «иметь» в целом ряде выражений. Включение «иметь» в число глаголов состояния соответствует и сущности данного понятия. При этом становится понятно, почему «иметь» используется многими языками в описательных оборотах, передающих субъективные состояния: «испытывать голод, холод, желание...» (франц. il a faim «он голоден»), далее, «испытывать жар» (франц. il a la fievre «у него жар»), менее отчетливо, но с ясным указанием на затрагивание действием субъекта — «иметь больного сына» (франц. elle a un fils malade «1. у нее больной сын; 2. у нее сын болен»). Ни в одном из своих употреблений «иметь» не указывает на объект — всегда только на субъект.
Но если «иметь» следует определять как глагол состояния, то в каком отношении оказывается он с «быть», который также .является глаголом состояния, который, собственно говоря, и есть настоящий глагол состояния? Поскольку в своем употреблении в качестве вспомогательных глаголов «быть» и «иметь» находятся в дополнительной дистрибуции, можно предположить, что это
 21 Лемма aes-, выделенная Б артол омэ, «Altiranisches Worterbuch», s.v., ил
21 Лемма aes-, выделенная Б артол омэ, «Altiranisches Worterbuch», s.v., ил
люзорна. Основу aes- можно было бы в крайнем случае постулировать для сущест
вительного аёЗа-. Но как глагольные формы существуют только перфект ise (чи
тать Ise) и причастие isana- (читать isana-), тождественные вед. ise, isana-. Формы
i§te, Ша недостоверны, они либо неправильно засвидетельствованы, либо пред
ставляют собой поправки, внесенные издателями.
22 Лойман в «Morphologische Neuerungen im altindischen Verbalsystem»
(«Meddel. Nederl. Akad.», NR, XV, 3), 1952, стр. 13 (86), справедливо подчеркивает
сходство готского и индо-иранских языков, в которых исходной формой является
перфект.
23 М. Haas, Tunica, § 4. 71, стр. 59 и ел.
отношение сохраняется между ними и в области лексики. Они действительно оба указывают состояние, но не одно и то же состояние. «Быть» — это состояние существующего, того, кто сам что-то есть; «иметь» — это состояние имеющего, того, у которого что-то есть. Различие между ними вырисовывается следующим образом. Между двумя членами, соединенными глаголом «быть», устанавливается внутреннее отношение тождества (состояние кон-субстанциальности). Напротив, два члена, соединенные глаголом «иметь», остаются различными; связь между ними является внешней и определяется как отношение принадлежности; это. отношение обладаемого к обладателю. «Иметь» обозначает только обладателя и делает это с помощью того, что с грамматической точки зрения выступает как (псевдо)объект.
Этим и объясняется, почему «иметь», будучи по существу лишь инвертированным «быть у», сопротивляется переводу в пассив. Так, во французском языке у avoir «иметь» нет пассивного залога. Отсутствует пассив даже у лексического эквивалента avoir — posseder «владеть». Невозможно было бы сказать: се domaine a ete possede par X.; il est maintenant possede par l'Etat «это поместье владелось г-ном X; теперь оно владеется государством»; неприемлемой подобная форма пассива является в силу того факта, что posseder затрагивает не объект, а субъект. И только в своем непрямом значении, в котором posseder становится эквивалентом dominer, subjuguer, assujettir «господствовать, порабощать, покорять», он допускает формы пассива: il est possede du demon «он одержим дьяволом», il est possede par la jalousie «он одержим ревностью» — и тогда можно говорить о un possede «одержимом».
Такое своеобразное положение глагола «иметь», активная конструкция которого маскирует инвертированное «быть у», позволяет правильнее понять диатезу латинского habere «иметь», греческого Ixeiv «иметь». Habere и £%eiv обычно приводят как иллюстрацию того, что индоевропейский глагол по своей природе не является ни переходным, ни непереходным и допускает оба эти значения. В действительности же мы должны рассматривать habere и ly.eiv как прежде всего глаголы состояния в силу особенностей самого их употребления. Широко известны выражения sic habet «(дело) идет так, что» или bene habet «дело идет хорошо». Совершенно прозрачны также наиболее древние производные от habere, как, например, habitus «способ бытия, поведение, осанка», habilis «такой, который хорошо держать, удобный» (habilis ensis «удобный меч»; calcei habiles ad pedem «удобные для ноги башмаки») и настоящее время от habitare «обычно находиться, пребывать», которое в этом значении даже вытесняет habere; ср., однако, quis istic habet? «кто здесь живет?» у Плавта. Даже став транзитивным, habere сохраняет свое значение состояния; следует обратить внимание на обороты, где habere означает «иметь на (при) себе» и опи-
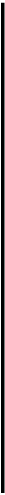 сывает состояние субъекта: habere vestem «иметь на себе (носить) одежду»; habere iaculum, coronam «иметь (при, на себе) дротик, венец», а также habere vulnus «получить рану, быть раненным» и «иметь в себе» (habere dolorem «причинять боль», букв, «нести в себе причину боли для других»; habere in animo «замышлять, намереваться», букв, «иметь в душе», habes nostra consilia «ты знаешь наши планы»). Все это предопределяет понятие обладания: habere fundum — это одновременно и «пребывать (на земле)» и «занимать (землю)» (юридически). Что касается др.-греч. s'xeiv, то следует вспомнить не ^только случаи так называемого интранзитивного употребления eu, mxffig I/eiv «хорошо, плохо себя чувствовать», но и уже в самых древних текстах такие формулы, как гомер. sxaq, e%eiv «держаться в стороне»; е£ю 8'<Lg ore tig атере-г] Я!9од «я буду держаться твердо, как скала»; обороты с I%eiv для обозначения физического или душевного состояния: яобг^, ciXyea, novov, nsvSog i'xeiv или хгкос, '£%eiv «завершаться», iqovxiav e%eiv «держаться спокойно», Xnnav 8iy]Oiv s'xeiv «уметь укрощать лошадей». Субъектом e%eiv может быть и название предмета: Papog e%eiv «нести на себе, иметь вес», подобно лат. pondus habere.
сывает состояние субъекта: habere vestem «иметь на себе (носить) одежду»; habere iaculum, coronam «иметь (при, на себе) дротик, венец», а также habere vulnus «получить рану, быть раненным» и «иметь в себе» (habere dolorem «причинять боль», букв, «нести в себе причину боли для других»; habere in animo «замышлять, намереваться», букв, «иметь в душе», habes nostra consilia «ты знаешь наши планы»). Все это предопределяет понятие обладания: habere fundum — это одновременно и «пребывать (на земле)» и «занимать (землю)» (юридически). Что касается др.-греч. s'xeiv, то следует вспомнить не ^только случаи так называемого интранзитивного употребления eu, mxffig I/eiv «хорошо, плохо себя чувствовать», но и уже в самых древних текстах такие формулы, как гомер. sxaq, e%eiv «держаться в стороне»; е£ю 8'<Lg ore tig атере-г] Я!9од «я буду держаться твердо, как скала»; обороты с I%eiv для обозначения физического или душевного состояния: яобг^, ciXyea, novov, nsvSog i'xeiv или хгкос, '£%eiv «завершаться», iqovxiav e%eiv «держаться спокойно», Xnnav 8iy]Oiv s'xeiv «уметь укрощать лошадей». Субъектом e%eiv может быть и название предмета: Papog e%eiv «нести на себе, иметь вес», подобно лат. pondus habere.
Мы подходим, таким образом, к определению статуса глаголов «быть» и «иметь» в соответствии с природой связи, устанавливаемой ими между именными членами конструкции: «быть» предполагает внутреннюю связь, «иметь» — связь внешнюю. То, что их сближает, и то, что их различает, проявляется в параллелизме их функций как вспомогательных глаголов и в отсутствии параллелизма их функций как глаголов в независимом употреблении. Наличие у «иметь» транзитивной конструкции отличает его от «быть». Но эта конструкция транзитивна только по форме, она не дает основания отнести «иметь» к разряду переходных глаголов. Если с формальной точки зрения синтаксические элементы франц. Pierre a une maison «Пьер имеет дом» образуют такую же конструкцию, что и Pierre batit une maison «Пьер строит (построил) дом», то второе высказывание может быть преобразовано в пассив, в то время как первое не может. Это и доказывает, что у «иметь» нет такого управления, как у переходного глагола.
Но в тех языках, которые используют в качестве вспомогательных глаголов одновременно и «иметь» и «быть», параллелизм их употребления является фактом огромной важности. Следует только еще раз подчеркнуть: нет никакой необходимости в существовании двух вспомогательных глаголов, в языках может существовать и один вспомогательный глагол. Но даже там, где используются два вспомогательных глагола, нагрузка между ними может распределяться очень неравномерно, как, например, во французском языке, где etre употребляется лишь с десятком глаголов, a avoir — со всеми остальными. Поэтому, рассматривая языки, в которых глагол образует свои формы с помощью вспомогательного глагола — «иметь» или «быть», в разных случаях по-разному — следу-
W
ет остановиться на конвергенции «иметь» и «быть» при образовании перфекта: ср. франц. il est venu «он пришел» и il a vu «он увидел».
То обстоятельство, что в этих языках перфект связан с использованием вспомогательных глаголов «быть» и «иметь», что у него нет другого возможного выражения, кроме как через «быть» или «иметь» плюс причастие прошедшего времени глагола, и что эта перифрастическая форма образует полную парадигму,— совокупность всех этих признаков проливает свет на сущность категории перфекта. Перфект—это такая форма, в которой понятие состояния, соединенное с понятием обладания, отнесено к действующему лицу; в перфекте действующее лицо предстает как обладатель осуществленного действия.
И действительно, перфект, в частности в индоевропейских языках, есть форма состояния, связанного с обладанием. Это можно продемонстрировать путем внутреннего анализа перифрастических форм. Как нам представляется, переход компактного перфекта (scripsl «я написал») в перфект перифрастический (habeo scriptum «я написал», букв, «имею написанным») обнажает в отношении между элементами формы значение, внутренне присущее перфекту в индоевропейских языках.
Поразительную иллюстрацию этому мы находим в структуре перфекта армянского языка. В одной из наших предшествующих работ и мы проанализировали это в высшей степени своеобразное явление в системе синтаксиса армянского языка, в связи с его местом в этой системе, что единственно и позволяет его объяснить. В армянском языке перфект имеет две разновидности, которые — явление удивительное и первоначально сбивающее с толку — различаются падежом «субъекта», но во всем остальном содержат те же самые элементы. Перфект непереходного глагола: субъект в номинативе + пассивное причастие на -eal + спрягаемая форма глагола «быть»; перфект переходного глагола: субъект в генитиве + пассивное причастие на -eal + форма 3-го лица ед. числа глагола «быть». Таким образом, мы имеем sa ekeal g «он пришел», но пога (генитив ед. числа) teseal 5 «он увидел». В этих синтаксических вариантах мы обнаружили противопоставление между конструкцией перфекта непереходного глагола с «быть» и конструкцией перфекта переходного глагола с «иметь», то самое противопоставление, которое проявляется в общем развитии индоевропейских языков. Особенностью армянского языка является то, что здесь отношение «иметь» выражается таким синтаксическим оборотом, который превращает субъект в «обладателя»; это синтагма «быть + предикативный член в генитиве», эквивалентная в армянском языке глаголу «иметь». По-армянски говорят nora tun 5 букв.
 24 См. в наст, книге, гл. XVI.
24 См. в наст, книге, гл. XVI.
 «eius (nora) aedes (tun) est (g), его дом есть» в значении «habet aedem, у него есть дом»; точно так же перфект переходных глаголов, где существительное заменяется причастием, звучит nora teseal б букв, «eius visum est, его видено есть» и означает «habet visum, он увидел». После того как принципиальный путь к объяснению указан, нетрудно понять, почему данная конструкция послужила выражением для перфекта переходных глаголов, который выступает, таким образом, в буквальном смысле слова как «посессивная форма» и становится эквивалентом перфекта знака «иметь» других языков. Только вместо того чтобы проявляться в использовании двух различных вспомогательных глаголов («быть» и «иметь»), различие между перфектом непереходного и перфектом переходного глагола в армянском языке преобразовано в различное отношение перифрастической глагольной формы к субъекту.
«eius (nora) aedes (tun) est (g), его дом есть» в значении «habet aedem, у него есть дом»; точно так же перфект переходных глаголов, где существительное заменяется причастием, звучит nora teseal б букв, «eius visum est, его видено есть» и означает «habet visum, он увидел». После того как принципиальный путь к объяснению указан, нетрудно понять, почему данная конструкция послужила выражением для перфекта переходных глаголов, который выступает, таким образом, в буквальном смысле слова как «посессивная форма» и становится эквивалентом перфекта знака «иметь» других языков. Только вместо того чтобы проявляться в использовании двух различных вспомогательных глаголов («быть» и «иметь»), различие между перфектом непереходного и перфектом переходного глагола в армянском языке преобразовано в различное отношение перифрастической глагольной формы к субъекту.
Перед нами прекрасный пример того, как одни и те же отношения могут приобретать в различных языках совершенно различные формальные выражения. Конструкция транзитивного перфекта в армянском языке находит свое объяснение в том факте, что «иметь» по-армянски выражается как «быть у» (букв, «быть кого-либо»). Укажем мимоходом, что поразительное сходство с перфектом армянского языка обнаруживает развитие перфекта в древнеегипетском языке. Согласно интерпретации, предложенной В. Вестендорфом 25, перфект транзитивных глаголов в египетском языке имел посессивное выражение; mr n-j s"n «я любил брата» буквально значит: «любимый (mr) у меня (n-j) брат (sn)». А та же самая конструкция с дательным падежом на п- передает посессив-ность: nb n-j «золото у меня (n-j) = у меня есть золото». Типы языка могут полностью различаться, и тем не менее некоторые фундаментальные отношения реализуются в них, по-видимому в силу потребностей структуры, сходными формальными средствами.
Такая интерпретация транзитивного перфекта в армянском языке, выбранного нами в качестве примера конструкции «mihi est factum, у меня сделано» вместо «habeo factum, я имею сделанным», имеет следствие, приобретающее огромное значение для совокупности глагольных форм, образованных с «быть». Оно сводится к следующему: в армянском языке форма перфекта переходных глаголов активного залога отличается от перфекта пассивного залога только в тех случаях, когда при помощи частицы г- особо указан объект. В противном случае обе формы совпадают.
Это можно продемонстрировать на нескольких примерах. Возьмем, например, Ев. от Марка, XV, 46: ed i gerezmani zor Er p'oreal i vime «(он) положил его в могилу, которую выдолбили в камне». Такой перевод напрашивается в соответствии с текстом рукописей; управление z-or показывает, что это транзитивный перфект, хотя
 26 «Mitteilungen des Institute Шг Orientforschung», I, 1953, стр. 227 и ел.
26 «Mitteilungen des Institute Шг Orientforschung», I, 1953, стр. 227 и ел.
и без эксплицитно выраженного субъекта. Но у Оскана мы находим or вместо zor 2e. Если частица г- отсутствует, or er p'oreal следует обязательно перевести в пассиве: «которая была выдолблена», в соответствии с греч.о ■qv A,eA/xTO[vnfi&vov k% я4трас;. Далее, Марк, XVI, 4: hayee'eal tesin zi t'awalec'uc'eal Er zvemn «посмотрев, они увидели, что камень отвалили»; но если, вслед за Осканом, мы пропустим z-, то придется перевести: «камень был отвален, отч avaxexoXurtai 6 Шое». Возьмем, наконец, Ев. от Луки, II, 5: Maremaw handerj zor %awseal gr nma «с Марией, которую с ним обручили»; если опустить z- (Оскан), получится: «которая с ним была обручена, ah Mapidu. t% eu/vrjaTeufjivT] аотф».
В описательном обороте «причастие + «быть» идея «состояния» настолько сильна, что при отсутствии субъекта, как в неличных формах перфекта переходных4 глаголов, только показатель объекта (z-) позволяет определить, обозначает ли форма состояние действующего лица или состояние затрагиваемого действием предмета. Мы видим, таким образом, насколько слабой и узкой становится пограничная полоса, разделяющая две диатезы п.
Более того. Можно найти примеры, в которых только контекст позволяет решить, является ли перфект активным или пассивным. Возьмем Ев. от Луки, XIX, 15: ... (ew koe'eal zcafaysn) oroc' tueal Er zarcat'n. Если рассматривать эту конструкцию строго в том виде, в каком она дана, ее следовало бы перевести «те, кто дал деньги». Нет недостатка в параллелях: oroc' tueal Er совершенно аналогично, например, oroc' teseal er «те, кто видел, oi i66vT.ee» (Марк, V, 16). И тем не менее, несмотря на такое формальное сходство, мы уверены, что текст Луки, XIX, 15 (притча о талантах) следует понимать не «те, кто дал деньги», но «(он позвал слуг), которым он давал деньги (xoog боиХоах;) olg 6e6a>xei то apYfipiov». Контекст показывает нам, что oroc' здесь не субъект, а косвенный объект tueal er. Это значит, следовательно, что, строя рассуждение только на основе данной конструкции, мы получили бы противоположный смысл, потому что само по себе oroc' tueal (или afeal) Er zarcat'n значило бы скорее «те, которые дали (или взяли) деньги». Аналогичная двусмысленность может возникнуть в том случае, когда субъект не назван: yaynzam... hraman afeal i t'agaworEn буквально значило бы «в этот момент... приказ был получен царем», потому что дополнение глагола в пассивном залоге действительно выражается при помощи i и аблатива. В действительности же предложение означает «получил приказ царя» (субъект не указан; связка опущена). Подобные неясности, даже если контекст исключает возможность ошибочного понимания, показывают, что перфект переходных глаголов, лишенный однозначных характеристик, весь-
 ав Ср. S. Lyonnet, Le parfait en armenien classique, P., 1933, стр. 100. 27 Лионнэ, цит. соч., стр. 95, замечает: «...в некоторых случаях трудно решить, указывает ли перфект состояние объекта или субъекта».
ав Ср. S. Lyonnet, Le parfait en armenien classique, P., 1933, стр. 100. 27 Лионнэ, цит. соч., стр. 95, замечает: «...в некоторых случаях трудно решить, указывает ли перфект состояние объекта или субъекта».
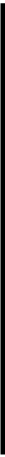 ма нечетко отличался от пассивного перфекта, с которым у него совпадало по крайней мере два элемента из трех (причастие на -eal и глагол «быть»). Если субъект остается только подразумеваемым, но не выраженным, различие может реализоваться лишь за пределами самой формы. Возьмем следующий отрывок текста: zi c'ew ews 6r arkeal... i bant. Перевод будет таким: «потому что он еще не был ввергнут в темницу», что точно совпадает с греч. оиясо yip rjv Pepbinsvog ei'g ttjv yuXax-iv (Ев. от Иоанна, III, 24). Теперь восстановим контекст. Мы опустили дополнение zyovhannes; предложение на самом деле звучит: zi c'ew ews gr arkeal zyovhannes i bant — и, следовательно, его нужно перевести как «Иоанна не ввергли вновь в темницу»; конструкция в армянском языке является активной в отличие от пассивной конструкции греческого, но достаточно было, чтобы в армянском тексте оказалось yovhannes без z-, и она превратилась в пассивный перфект, как в греческом.
ма нечетко отличался от пассивного перфекта, с которым у него совпадало по крайней мере два элемента из трех (причастие на -eal и глагол «быть»). Если субъект остается только подразумеваемым, но не выраженным, различие может реализоваться лишь за пределами самой формы. Возьмем следующий отрывок текста: zi c'ew ews 6r arkeal... i bant. Перевод будет таким: «потому что он еще не был ввергнут в темницу», что точно совпадает с греч. оиясо yip rjv Pepbinsvog ei'g ttjv yuXax-iv (Ев. от Иоанна, III, 24). Теперь восстановим контекст. Мы опустили дополнение zyovhannes; предложение на самом деле звучит: zi c'ew ews gr arkeal zyovhannes i bant — и, следовательно, его нужно перевести как «Иоанна не ввергли вновь в темницу»; конструкция в армянском языке является активной в отличие от пассивной конструкции греческого, но достаточно было, чтобы в армянском тексте оказалось yovhannes без z-, и она превратилась в пассивный перфект, как в греческом.
Мы не будем прослеживать дальше последствия подобной ситуации в армянском языке. Она, несомненно, явилась одной из причин, приведших к перестройке системы залогов в современном языке — пассив имеет отныне особый показатель, морфему -v-, вставляемую между основой и окончанием. Но то, что нам позволил установить армянский язык, могли бы продемонстрировать и другие языки. Еще не было уделено внимания такой конструкции аналитического перфекта, по синтаксическим особенностям которой нельзя с первого взгляда решить, обозначает ли именная форма, «управляемая» перфектом, того, кто осуществляет процесс, или того, кто является его адресатом. В греческом языке &с, ioi jxpotepov бебт^олш (Hdt. VI, 123) означает «как я раньше показал», а не «как мне было показано»; шапгр %а nporepov ioi ei'pr]T.cu (Thuc. XI, 94) «как я сказал», а не «как мне было сказано» 28, и тем не менее буквальный перевод на латинский язык «sicut mihi iam prius dictum est» мог бы вызвать сомнения в смысле. В самом латинском языке также время от времени возникает неясность в выражении действующего лица. Приведем только — потому что, по мнению самих римлян, это «древняя формула» — слова, которые освящают регулярный акт купли-продажи, согласно Варрону: «Antiqua fere formula utuntur, cum emptor dixit: Tanti sunt mi emptae (oves)? Et ille respondit: sunt» (RR II, 2, 5). Покупатель хочет, чтобы продавец признал, что сделка заключена: «Их купил я за столько?» Оборот sunt mihi emptae имеет целью устранить и другую неясность, неясность перфекта, который звучал бы sunt a me emptae и значил бы и «я их имею купленными (я их купил)», и «они у меня
 28 Ср. другие примеры в кн. Schwyzer — Debrunner, Griechische Gram-matik, II, стр. 150. В статье Швицера «Zum pe'rsonlichen Agens beim Passiv» в «Abh. Bed. Akad.», 1942, 10, стр. 15—16, идеи автора довольно расплывчаты; он не различает датива с отглагольным прилагательным и датива с пассивными формами глагола.
28 Ср. другие примеры в кн. Schwyzer — Debrunner, Griechische Gram-matik, II, стр. 150. В статье Швицера «Zum pe'rsonlichen Agens beim Passiv» в «Abh. Bed. Akad.», 1942, 10, стр. 15—16, идеи автора довольно расплывчаты; он не различает датива с отглагольным прилагательным и датива с пассивными формами глагола.
были куплены» (ab aliquo emere «покупать у кого-либо»). И граница между двумя возможностями очень расплывчата.
Чтобы завершить перечисление двусмысленностей выражения, порожденных аналитической формой транзитивного перфекта с «быть», укажем неясность, которая сходным образом проникла в пассив, по мере того как с компактной формой старого пассивного* перфекта начинала конкурировать описательная форма «пассивное причастие + «быть». Мы встречаем две эти формы вместе в любопытном противопоставлении, например Ев. от Иоанна, XX, 30— 31: ПоШ (xiv obv xcd SiXXa атцхеТа snoir}oev о 'Itj<to5c;..; a oox lativ YeYPaH'^va ®v ТФ РФ^Ф тоот<р-таота бг угураятоа I'va лкт-теглуге... «Иисус совершил также и многие другие чудеса, которые не записаны в этой книге; эти же были записаны, чтобы вы верили». Для передачи этого различия в латинском языке не было другого средства, кроме перестановки членов: quae non sunt scripta..., haec scripta sunt. В Готской Библии эта глава отсутствует, но мы встречаем тот же прием в других ее местах: swaswe ist gamelit» «хссЭсод scttiv yeYpajxnivov, ибо написано» (Иоанн, XII, 14) в противопоставлении bi panei gamelip ist «яер! oo угураятац о котором написано» (Матфей, XI, 10). Армянский язык избрал другой путь, в нем oox ecTtiv Yeypau^evov передается как ос' 5 greal, но yiypanxai с помощью аориста grec'aw 2S>. Это значит, что описательная форма «причастие страдательного залога + «быть» все больше проявляет тенденцию к тому, чтобы стать эквивалентом пассивного залога настоящего времени. Мы наблюдаем подобное явление уже в латыни, где aspectus est вытесняет собой aspicitur «на него смотрят». Повсюду замена компактной формы, представляющей собой соединение морфем, формой аналитической, в которой морфемы разъединены, и в активном залоге и в пассиве приводит к противоречию между формой активного или пассивного перфекта и выражением состояния в настоящем времени с помощью конструкции «быть» + отглагольное прилагательное». В этом столкновении мы усматриваем одно из условий, которые подготовили появление новой формы перфекта переходного глагола. Решающий сдвиг совершился, когда est mihi «у меня есть» было заменено глаголом habeo «я имею» не только как лексическая единица, но и как элемент формы перфекта, то есть когда архаическое лат. tanti sunt mihi emptae, упомянутое выше, стало звучать tanti habeo emptas «я их за столько-то имею купленными». Внедрение глагола habere ji появившаяся отныне возможность выражать с помощью habeo aliquid «имею нечто» отношение aliquid est mihi «у меня есть нечто» способствовали установлению однозначного транзитивного перфекта habeo factum «я сделал» и восстановлению в перфекте четкого различия залогов. С этого времени старый перфект fed «сделал», освобожденный от функции выражения перфекта, смог сохраниться в ка-
 См. Лионнэ, цит. соч., стр. 56—56.
См. Лионнэ, цит. соч., стр. 56—56.
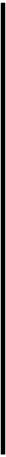 честве аориста. Подобным же образом на крайнем востоке индоевропейского ареала, в согдийском языке, произошло размежевание между прошедшим временем (претеритом), превратившимся в аорист, и новым перфектом, образованным с помощью dar- «иметь» + причастие прошедшего времени.
честве аориста. Подобным же образом на крайнем востоке индоевропейского ареала, в согдийском языке, произошло размежевание между прошедшим временем (претеритом), превратившимся в аорист, и новым перфектом, образованным с помощью dar- «иметь» + причастие прошедшего времени.
Как продолжение наших наблюдений возникает одна частная проблема: появление формы перфекта с «иметь» в германских языках. Развился ли германский перфект спонтанно? Или он возник под влиянием латинского перфекта с habEre? Мейе видел в нем подражание латинским моделям 30. Большинство германистов оставляет этот вопрос без ответа, не находя, по-видимому, решающих аргументов ни в пользу одного, ни в пользу другого предположения 31. По правде говоря, данная проблема рассматривалась только в традиционной перспективе «исторической» грамматики, когда доказательными считались лишь эмпирические факты. Но как можно ставить решение подобной проблемы в зависимость от обнаружения материальных фактов? Факты говорят нам только, что в готском языке такого перфекта не существовало, но что в других ветвях германских языков он был. Важно, однако, выяснить, как эти факты организуются в системе германских языков. Рассмотрение системы, как нам представляется, подсказывает вполне определенное решение.
Одно обстоятельство кажется нам существенным в готском языке: это конструкция «причастие + «быть» для передачи перфекта или пассивного претерита по модели: qip>an ist «spp-^бт], сказано»; gamelif) ist «уеураятса, написано»; gasulid was «тебец-Шсото, был укреплен» (Ев. от Луки, VI, 48); intrusgans warst «sve>cevTp[00T]g, ты был привит» (К Римл. XI, 24) и т. д.32. Тот же оборот выступает как обязательный в древнеисландском языке, где причастие страдательного залога в сочетании с vera является обычным выражением пассива 33. А. Хойслер справедливо подчеркивает, что var harm vegenn значит не только «ег war erschlagen (war tot)» и «ег war er-schlagen worden», «он был поражен (был убит)», но также и «ег wurde erschlagen», «он был убиваем (его убивали)». В исландском языке существует транзитивный перфект с «иметь»: ek hefe fundet «я нашел», ek hefe veret «я был», находящийся в дополнительной дистрибуции с перфектом переходных глаголов с «быть». В языке древнего периода и в поэзии причастие транзитивного перфекта согласуется с объектом, выраженным именем: hefe ik J>ik nu mintan
 30 A. Meillet, Caracteres generaux des langues germaniques, 5-е изд., стр. 130.
30 A. Meillet, Caracteres generaux des langues germaniques, 5-е изд., стр. 130.
31 Ср., например, из последних работ, S6rensen, «Travaux du Cercle lin-
guistique de Copenhague», XI, 1957, стр. 145.
32 Инверсия — «быть», предшествующее прилагательному,— указывает на
предикативную синтагму, а не на перфект: J>atei was gadraban, как в греч. о ?,v
%еХатощ1ёу<п/ «(могила), которая была высечена (в камне)» (Ев. от Марка, XV, 46).
33 A. Heusler, Altislandiches Elementarbuch, 4-е изд., § 434.
«Ich habe dich nun erinnert, теперь я тебя вспомнил»; в прозе же это причастие обычно имеет фиксированную форму — аккузатив ед. числа среднего рода: hefe ik t>ik nu mint.
В других германских языках, так же как и в северной ветви, существует пассив с «быть» и транзитивный перфект с «иметь», и оба эти явления следует считать взаимосвязанными. В древневерхненемецких памятниках перфект представлен весьма широко: tu habest tih selbo vertriben «ты сам изгнал себя, ipse te potius expulisti» (Ноткер). Во франкской зоне, например в древних баварских и алеманских текстах, как это показал Ж- Бара (J. В а г a t)34, вспомогательным глаголом перфекта в единственном числе является haben, во множественном числе — eigun: ih haben iz funtan; thaz eigun wir funtan. В древнеанглийском языке, где пассив оформлялся с помощью beon, wesan, weorctan, мы уже в самых ранних текстах встречаем транзитивный перфект с «иметь»: ic £g soctllce andette paet ic cfldllce geleornad hsebbe «я доверяю тебе правдиво то, что я узнал достоверным образом» (Алфред) как перевод «Ego autem tibi verissime, quod certum didici, profiteor» 35. Можно констатировать, таким образом, в северных и западных германских языках наличие очень важного обстоятельства — связи между конструкцией пассива «быть» + причастие» и конструкцией транзитивного перфекта «иметь» + причастие». Обе формы взаимосвязаны: первая обычно подготавливает появление второй — по этому пути пошли другие индоевропейские языки, создав новый транзитивный перфект. В готском языке конструкция «быть» + причастие» уже существует. Не будет поэтому слишком дерзкой экстраполяцией наше предположение о вероятности того, что в готском языке в ходе его дальнейшей истории, спустя тысячелетие или более после имеющихся у нас текстов, также должен был появиться транзитивный перфект с haban или aigan. Во всяком случае, структурные условия для этого нововведения в германских языках имелись. Совпадение целого ряда черт в северной и западной подгруппах не оставляет, как нам кажется, н-икакого сомнения в том, что возникновение транзитивного перфекта с «иметь» является в германских языках результатом самостоятельного развития, а отнюдь не влияния латыни. Напротив, для того чтобы столь глубокая перестройка германского глагола могла произойти под воздействием латинского языка, нужны были некоторые исторические и социальные условия, которые так никогда и не сложились, а именно длительный период германо-латинского двуязычия. Возьмем более ясный пример: если мы можем объяснить влиянием турецкого языка зарождение форм «наклонение очевидца» ~ «пересказыва-тельное наклонение» (perceptif/imperceptif) в македонском славянском языке, то главным образом потому, что в силу ряда обстоя-
 34 MSL, XVIII, стр. 140 и ел.
34 MSL, XVIII, стр. 140 и ел.
35 См. MosSe, Mantlel de l'anglais du Moyen Age, I, стр. 150 и 236.
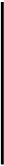 тельств Македонии в течение пяти столетий было навязано славянотурецкое двуязычие зв. Влияние же латыни на германские языки носило характер сугубо литературный. Германским языкам не нужна была чужая модель для реализации формы перфекта, которую с неизбежностью должна была породить их собственная структура. И если, следовательно, в готском языке аналитический пассивный перфект уже утвердился, внутренняя необходимость побуждала к созданию симметричного транзитивного перфекта и к восстановлению тем самым в спряжении взаимодополняющего функционирования вспомогательных глаголов «быть» и «иметь».
тельств Македонии в течение пяти столетий было навязано славянотурецкое двуязычие зв. Влияние же латыни на германские языки носило характер сугубо литературный. Германским языкам не нужна была чужая модель для реализации формы перфекта, которую с неизбежностью должна была породить их собственная структура. И если, следовательно, в готском языке аналитический пассивный перфект уже утвердился, внутренняя необходимость побуждала к созданию симметричного транзитивного перфекта и к восстановлению тем самым в спряжении взаимодополняющего функционирования вспомогательных глаголов «быть» и «иметь».
ГЛАВА XVIII
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ПРОБЛЕМА ОБЩЕГО СИНТАКСИСА
Ср. Zbigniew ОоЦЬ, «Folia Orientalia» (Cracovie), I (1959), стр. 34 и сЯ. В настоящей статье делается попытка применить метод сравнения при изучении… Избранный нами метод совершенно иной. В различных языках, рассматриваемых по отдельности, каждый язык сам по себе и на…I
«работа-делать-тот») «рабочий». Возьмем, например, выражение wu asi акэ (букв, «ударять-рука-грудь») «наниматься»; на основе этого выражения, распространенного за счет па «давать», которое используется как морфема дательного падежа, и ате «человек», образуется с помощью 1а сложное имя деятеля: asi-wu-ako-na-ame-la (букв, «рука-ударять-грудь дат. пад. человек-тот») «тот, кто нанимается к другому».
Таким образом, относительное предложение в языке эве характеризуется наличием «относительного местоимения» si, множ. ч, siwo в препозиции и 1а в постпозиции, в тех случаях, когда относительное предложение предшествует главному. Ясно — и Вестерман говорит об этом вполне определенно 3,— что данное «относительное местоимение» является не чем иным, как указательным местоимением si, и что в действительности оно не предшествует относительному предложению, но следует за предшествующим существительным (субстантивным антецедентом), как в приведенных примерах. Именно таким образом должна рассматриваться структура предложений, подобных нижеследующим:
lakle si miekpo etso la («леопард-тот мы-видели-вчера-который») «леопард, которого мы видели вчера»;
lakle siwo miekpo etso la («леопард-те мы-видели-вчера-кото-рый») «леопарды, которых мы видели вчера»;
la si uekpo la, menye kese wonye о («животное-то ты-видел-который это не (menye) обезьяна-он есть не») «животное, которое ты видел, не обезьяна».
devi siwo mede suku o la («дети-те не-шли-школа-не-который») «дети, которые не шли в школу».
Если субстантивный антецедент отсутствует, с помощью префиксации местоимения е субстантивируется само si; например, esi mekpo la («он-тот я-видел-который») «тот, кого я видел».
Мы видим, что в формальной структуре синтаксиса языка эве «относительное предложение» получается путем превращения глагольного предложения в именное выражение с помощью местоименных определителей. Полученная таким образом синтагма затем присоединяется как приложение (аппозиция) к существительному или местоимению, наподобие прилагательного в определенной форме.
В языке туника (Луизиана) 4 имена образуют класс, формально отличающийся от других классов, например местоимений, глаголов и т. д. Существительное, являющееся само по себе неопределенным,
 3 Вестерман, цит. соч., § 93: «Относительное местоимение si есть то же са
3 Вестерман, цит. соч., § 93: «Относительное местоимение si есть то же са
мое, что указательное, и можно было бы поэтому с таким же успехом назвать si
указательным местоимением предшествующего существительного».
4 Наш анализ основан на описании Mary R. Haas, Tunica, 1941 (HAIL, IV).
Мы использовали § 4.843 и 7.45.
•' 227
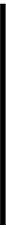 становится определенным, если перед ним стоит артикль ta-, t-или местоимение, указывающее обладание; существует два ряда таких местоимений-префиксов — для указания на обладание отчуждаемое и неотчуждаемое соответственно. Артикль и местоимение взаимно исключают друг друга.
становится определенным, если перед ним стоит артикль ta-, t-или местоимение, указывающее обладание; существует два ряда таких местоимений-префиксов — для указания на обладание отчуждаемое и неотчуждаемое соответственно. Артикль и местоимение взаимно исключают друг друга.
Примечателен тот факт, что только существительные, получившие подобным образом определенность, способны принимать флексии склонения, включающего три падежа: падеж «окончательный» (deiinitif, соответствует приблизительно номинативу-аккузативу), падеж «неокончательный» (non-definitif, не имеет показателей склонения, рода и числа) и падеж местный. «Окончательный» падеж требует употребления суффиксов рода и числа; это единственный падеж, в котором формально выражены род и число имени. Так, с префи-гированным артиклем ta- мы получаем из ta+ £эпа «вождь» + ku муж. р. ед. ч.— tacbhaku «(определенный) вождь»; из ta- 4- naka «воин» + sema муж. р. множ. ч.— tanakaseman «(определенные) воины»; из t(a) + ala «тростник» + h£ жен. р. ед. ч.— talahc «(определенное) количество тростника». Местоименный префикс со значением обладания (посессивности) встречается в терминах родства: ?esiku «мой отец», из ?i- преф. 1-го л. ед. ч., неотчужд. + esi «отец» + ku муж. р. ед. ч.; РэЬзуапё «ее сестра», из ?и- преф. 3-го л. ед. ч., неотчужд. + ahaya «сестра» +пб(1)жен. р. ед. ч. С префиксом отчуждаемого обладания образованы: ?ihk?oniseman «мои люди», из ?ihk- преф. 1-го л. ед. ч. + ?oni «лицо» + sema муж. р. множ. ч.; ?uhk?onissman «его люди», где ?uhk- преф. 3-го л. ед. ч. муж. p.; tisasiniman «еесобаки», из ti(hk)- преф. 3-го л. ед. ч. жен. р. + sa «собака» + sinima жен. р. множ. ч.
Таким образом, мы замечаем, что аналогичные суффиксы рода и числа могут добавляться к спрягаемой глагольной форме и превращать ее в «относительное предложение». При этом суффиксация может наблюдаться одновременно и в именном антецеденте и в глагольной форме или только в глагольной форме.
Первый случай представлен следующим примером: tonissman taberit?e kicun ?uk ?eraseman «люди, которые сидели в лодке» ' : tonislman «люди (определенные)», из артикля t (a)- + ?6ni «лицо» + -sima муж. р. множ. ч.; taherit?e «(определенная) лодка», из артикля ta- + herit?e «большая лодка»; послелог ki£un «внутри»; ?uk Iras eman, из ?uk?era «они сидели», 3-е л. множ. ч. + sema суфф. муж. р. множ. ч. Примером второго случая может служить: toni hip?ontass-man «люди, которые танцевали», где toni «(определенные) люди», из t(a) + ?oni, как и в предыдущем примере, на этот раз не имеет суффикса рода и числа; этот суффикс присоединен к глагольной форме hip?ontas4man, из hip?onta «они танцевали» + -sema муж. р. множ. ч. Показатели рода и числа, присоединенные в виде суффик-
 6 Mary R. Haas, Tunica Texts, 1950, «Univ. of California Publications in Linguistics», VI, № 1, стр. 62 d,
6 Mary R. Haas, Tunica Texts, 1950, «Univ. of California Publications in Linguistics», VI, № 1, стр. 62 d,
сов к глагольной форме, превращают ее в глагольное сказуемое, характерное для «относительного предложения».
Иначе говоря, перенесение суффикса, принадлежащего именной определенной форме, на глагольную форму превращает эту последнюю в глагольную определенную форму, то есть, если пользоваться обычной терминологией, в «относительное предложение».
Обратимся теперь к другому типу американоиндейских языков, представленному большой группой языков — атапаскской,— и посмотрим, как выражается «относительность» сначала в языке на-вахо, а затем в языке чипеви.
В языке навахо6 в функции «транспозиции в относительность» (fonction « relativante ») и с именами и с глаголами одинаково используются энклитические частицы: в большинстве случаев это частицы -1 и -г (долгая гласная с низким тоном); первая частица указывает состояние или действие мгновенное, вторая — состояние или действие длительное. Так, от ?acid «он кует» образуются ?acid-i «тот, кто находится в процессе ковки» и ?acid-i- «тот, кто кует по профессии, кузнец»; от na.lniS «он работает»—na-lni§i «тот, кто работает». Подобным же образом от глагольных форм можно образовать прилагательные: neskPah «оно толстое»—neskPahi- «тол-стый7 толстяк»; xasti'n c?osi «человек, который худ»; PasziJ- yazi «женщина, которая мала ростом». Точно так же в относительные выражения превращаются и глагольные предложения: bina- Padin букв, «его глаза (bi- обладание + па-? «глаз») отсутствуют» = «он слеп» превращается в bina. ?adin-i «чьи глаза отсутствуют, слепец». Аналогичным образом из префикса ?i-+ Ten «жениться» + + показывающая относительность энклитическая частица -г получается dinePi-^ehi- «человек, который женится».
В языке чипеви7 (Альберта, Канада) мы также встречаем частицу -i с функцией относительности. С одной стороны, с ее помощью образуются относительные существительные: ya-1-tei «он говорит» — —yaltey-i «проповедник, жрец»; de-l-d8er «это трещит» — deld6er-i «трещотка, болтун»; с другой стороны, относительные предложения: tP^hj sas-xsl 0etj-i (букв, «тот-медведь-с он спит-который») «тот, кто спал с медведем»; tPahu sas-xlt nefitj-i (букв, «когда медведь-с, он лег-спать-который с тех пор») «с тех пор, как он лег спать с медведем».
Сходный синтаксический механизм мы обнаруживаем в шумерском языке 8, где прибавление суффикса -а к именной форме делает ее определенной и где тот же суффикс -а, стоящий после самостоя-
 6 Мы использовали материалы кн.: Berard Haile, Learning Navaho, I—IV,
6 Мы использовали материалы кн.: Berard Haile, Learning Navaho, I—IV,
St Michaels, Arizona, 1941—1948. Примеры взяты в частности из т. I, стр. 50, 92,
128, 164; из т. III, стр. 37; из т. IV, стр. 167.
7 Цит. по статье F. К. L i в «Linguistic Structures of Native America», ed. by
Hoijer, 1946, § 12 d, стр. 401 и § 45 1, стр. 419—420.
8 См. многочисленные примеры у R. J est i n, Le verbe sumerien: Determinants
verbaux et infixes, стр. 162 и ел.
 тельного предложения, превращает его в предложение относительное: lu ё mu-du-a-§e «для человека, который построил храм» (Ш «человек», е «храм», mu-du-a-Se = префикс mu + du «строить» + + суфф. а + £е «для»), букв, «человек он построил храм тот-для». Еще пример: Gudea PATESI-Laga&ki lu E-ninnu- dNingir-suka indua «Гудеа, Патеси из Лагаша, человек (=тот), который построил Енинну бога Нингирсу». Относительная глагольная форма indua расчленяется на префикс in + du «строить» + суффикс относительности -а. Но это -а появляется также в Ningirsu-(k)a «тот, который от Нингирсу», где оно служит определителем имени. Определителем подчинительной синтагмы, как и определителем относительного предложения, является, следовательно, один и тот же формальный показатель -аэ .
тельного предложения, превращает его в предложение относительное: lu ё mu-du-a-§e «для человека, который построил храм» (Ш «человек», е «храм», mu-du-a-Se = префикс mu + du «строить» + + суфф. а + £е «для»), букв, «человек он построил храм тот-для». Еще пример: Gudea PATESI-Laga&ki lu E-ninnu- dNingir-suka indua «Гудеа, Патеси из Лагаша, человек (=тот), который построил Енинну бога Нингирсу». Относительная глагольная форма indua расчленяется на префикс in + du «строить» + суффикс относительности -а. Но это -а появляется также в Ningirsu-(k)a «тот, который от Нингирсу», где оно служит определителем имени. Определителем подчинительной синтагмы, как и определителем относительного предложения, является, следовательно, один и тот же формальный показатель -аэ .
В синтаксисе арабского языка 10 относительное предложение характеризуется как «качественное определение», наравне с прилагательным или словосочетанием, образованным предлогом и управляемым словом. Особо нужно подчеркнуть параллелизм, который обнаруживается в синтаксической характеристике прилагательного и относительного предложения. Прилагательное может иметь форму либо неопределенную: ?imamun?3dilun «справедливый имам», либо определенную: al ?irnsmu'l ?adilu «(определенный) справедливый имам» (прилагательное является определенным, когда определенным является существительное).
Точно так же и относительное предложение может выступать как неопределенное и как определенное. Когда имя, от которого зависит относительное предложение, стоит в неопределенной форме, относительное предложение имеет нулевой показатель: darabtu rajulan ja?a букв, «я ударил (какого-то) человека, он пришел» = «... (неопред.) человека, который пришел»; kamaBali Ч himari yahmilu asfaran «как осел, он везет книги» = «как осел, который везет книги», kana lahu 'bnun summiya muhammadan «у него был сын, он был назван Мохаммадом = ... которого назвали...». Но когда имя, которому подчинено относительное предложение, имеет определенную форму, относительное предложение содержит местоимение, которое в предложении, представляющем собой определенный вариант приведенного выше неопределенного относительного предложения, имело бы вид alladi: darabtu 'rrajula 'Had! ja?a «я ударил (определенного) человека, который пришел». Это «относительное слово» alladi является собственно указательным местоимением и, следовательно, по самой своей функции указателем (детерминати-
 9 Сходную интерпретацию дал в настоящее время V. Christian, Beitrage
9 Сходную интерпретацию дал в настоящее время V. Christian, Beitrage
zur sumerischen Grammatik, 1957, Sitzber. Osterreich. Akad., Phil.-hist. Kl Bd
231, 2, стр. 116.
10 A. Socin —К. Brockelmann, Arabische Crammatik, 11-е изд., 1941,
вом). Оно склоняется и согласуется: al-bintu allatl kana Pabuha waziran «девушка, отец который был визирем» (букв, «которая ее отец был визирем»). Отличительным знаком определенности относительного предложения является местоименный указатель, который выполняет ту же функцию, что и префигированный артикль — показатель определенности прилагательного. Между этими двумя типами определителей существует известный параллелизм, который ясно выступает при следующем сопоставлении: 1) прилагательное в неопределенной форме (нулевой показатель): Pimamun Padilun; неопределенное «относительное предложение» (нулевой показатель): (darabtu) rajulan ]a?a; 2) прилагательное в определенной форме: alPimamu'lPadilu; «относительное предложение» в определенной форме: (darabtu)'rrajula'lladi ja?a. Единственное различие заключается в присутствии формы «относительного местоимения» аПаЙГ, жен. p. allatl, и т. д., которое представляет собой усиление префикса, передающего определенность, или артикля (al) дейкти-ческим элементом -1а-, за которым следует морфема, показывающая род и число: -dl муж. р. ед. ч., -tl жен. р. ед. ч.; -3ani муж. р. дв. ч., -tani жен. р. дв. ч. и т. д.
В целом «относительное предложение» в арабском языке имеет тот же синтаксический статус, что и квалификативное прилагательное, и так же, как и прилагательное, оно может выступать в форме как неопределенной, так и определенной.
Теперь мы можем обратиться к языкам индоевропейским. И первым условием плодотворного исследования, условием, осуществить которое, вероятно, труднее всего, здесь является отказ от традиционной схемы, в рамках которой факты оказываются раз и навсегда расставленными по определенным местам. Сравнительный синтаксис не сумел еще здесь освободиться от мерок, которые нельзя даже назвать греко-латинскими, потому что — как мы надеемся показать дальше — они не применимы ни к греческому языку, ни к латыни.
Согласно классической концепции, относительное предложение — единственный тип придаточного предложения, существование которого может быть отнесено к периоду, предшествовавшему диалектному дроблению, — строилось в общеиндоевропейском языке по модели, известной нам из санскрита, греческого или латыни или же из современных западноевропейских языков. Оно состояло из местоимения, выступающего в приложении (аппозиции) к именному антецеденту и управляющего глагольным предложением. Этот тип представлен санскр. ayam... yo jajana rodasi «тот, кто породил небо и землю» (RV. I, 160, 4); греч. av6pa...og xak<x zioKka. rikby%Q'x «человек, который столько блуждал» (а 1); лат. Numitori, qui stirpismaximus erat «Нумитору, который был величайшим по роду...» (Liv. I, 3,10). Никто, разумеется, не станет оспаривать
того факта, что этот тип фразы был весьма употребительным и даже стал начиная с известного исторического периода моделью относительного предложения. Вопрос, однако, заключается в том, возможно ли отнести это явление в таком его виде к общеиндоевропейскому состоянию, и тут сравнение языков между собой нам ничего не даст, поскольку индоевропейское состояние не что иное, как ретроспективная проекция некоторой исторически засвидетельствованной ситуации, а ее происхождение и функция остаются тогда от нас совершенно скрытыми. Однако уже простой перечень фактов, известных по наиболее древним языкам, показывает, что употребление «относительного местоимения» не совпадает с рамками «относительного предложения», выходит далеко за границы употребления последнего и не может быть сведено к модели, ставшей сейчас для нас привычной. Это и побуждает нас пересмотреть обычное определение.
Необходимо поэтому проанализировать те случаи использования относительного местоимения, которые не совпадают с понятием «относительное предложение» и. Из соображений удобства мы сгруппируем приводимый материал в соответствии с основой относительного местоимения. Известно, что индоевропейские языки подразделяются на группу, в которой местоименной основой является *уо- и в которую входят индо-иранские, греческий и славянские языки (сюда же мы отнесем и некоторые варианты, например др.-перс, hya-, так же как *to-, которое использовалось в греческом языке гомеровского эпоса наряду с *уо-), и на группу, в которой используется основа *kwo-/*kwi- и которая включает, в частности, хеттский и латинский языки.
При описании относительных предложений, вводимых местоимением *уо- в индо-иранских языках и в гомеровском греческом, так и не удалось найти место некоторым случаям, когда это местоимение связано с именными формами без глагола. Речь идет о синтагмах, в которых *уо- играет роль определительного слова между существительным и прилагательным или даже просто при имени, которому оно предшествует или за которым следует. Эти факты известны давно. Они упоминаются во всех исследованиях по синтаксису древнеиндийских и древнеиранских языков, но упоминаются как особенности, не поддающиеся никакому объяснению, или — на худой конец—как предложения без глагола, «именные» предложения.
Мы же, напротив, считаем, что употребление относительного местоимения в этих неглагольных синтагмах по меньшей мере столь же древне, что и в обычном типе относительного предложения, и — обстоятельство в данном случае еще более важное— что функция
 11 Вряд ли нужно говорить, что мы не описываем здесь разновидностей относительного предложения в индоевропейских языках, но только конструкцию индоевропейского типа. Мы намеренно ограничились лишь существом дела. Умножить число примеров, а их можно найти во всех учебных пособиях, было бы нетрудно, но это без пользы увеличило бы объем работы.
11 Вряд ли нужно говорить, что мы не описываем здесь разновидностей относительного предложения в индоевропейских языках, но только конструкцию индоевропейского типа. Мы намеренно ограничились лишь существом дела. Умножить число примеров, а их можно найти во всех учебных пособиях, было бы нетрудно, но это без пользы увеличило бы объем работы.
местоимения *уо- определяется одновременно и конструкцией неглагольной и конструкцией глагольной.
О первом, неглагольном типе конструкции вспоминают реже всего. Представляется поэтому небесполезным привести в качестве иллюстрации хотя бы несколько примеров. Обратимся сначала к фактам ведийского языка 12.
Поскольку местоимение уа- связывает с существительным или местоимением именное определение, которое в противном случае должно бы было с ними согласовываться, а при наличии уа- остается в номинативе, данное местоимение играет по существу роль подлинного определенного артикля. Именно так его всегда и приходится переводить *: visve maruto ye sahSsah «все Маруты, те, сильные» (RV. VII, 34, 24); am! са уё maghavano vayam ca... nis tatanyuh «те, благородные, и мы... хотим проникнуть» (I, 141, 13). Независимость синтагмы с уа- в отношении падежа видна, например, в kakstvantam ya auSijah «Каксиванта (акк.), тот, потомок Усиджа» (I, 18, 11); agnim... data yo vanita magham «Агни (акк.), тот, благодетель, завоеватель даров» (II, 13,3); indram... hanta yo vrtram «Ин-дру (акк.), тот, победитель Вртры» (IV, 18, 7);s6mam... bhuvanasya yas patih «Сому (акк.), владыка мира» (V, 51, 12); ср. также в определениях с несколькими однородными членами: tvam visvesam varunasi raja, ye ca deva" asura ye ca martah «ты, Варуна, повелитель'всех, те, боги, о Азура, или смертные» (II, 27, 10); pasun... vayavyari aranyan gramyaS ca уё «летающие животные, те, дикие, или те, домашние» (X, 90, 8); vi janlhy aryan уё ca dasyavah «различай арийцев и те, (которые) Дасью!» (I, 51, 8); antar jatesv uta уё janitvah «среди тех, кто родился, и те (кто) должен родиться» (IV, 18,4)' и т. п.
Подобное использование уа- в именной синтагме, примеров которого в одной только Ригведе мы насчитываем десятки 13, имеет параллель в авестийском языке, где оно получило еще большее распространение. В Авесте местоимение уа- имеет значение определенного артикля при многочисленных и разнообразных именных определениях 14 : агэгп yo ahuro mazda «меня, тот, (который) А. М.»
 12См. Delbr fick, VergleichendeSyntax, III, стр. 304 и ел.; Wackernagel — Debrunner, Altindische Grammatik, III, стр. 554—557 (с библиографией); более новый краткий обзор употреблений в работе: L. Renou, Grammaire de la langue vedique, § 446 и ел., где справедливо подчеркивается (§ 448) архаический характер употребления уа- в качестве артикля.
12См. Delbr fick, VergleichendeSyntax, III, стр. 304 и ел.; Wackernagel — Debrunner, Altindische Grammatik, III, стр. 554—557 (с библиографией); более новый краткий обзор употреблений в работе: L. Renou, Grammaire de la langue vedique, § 446 и ел., где справедливо подчеркивается (§ 448) архаический характер употребления уа- в качестве артикля.
* На языки, имеющие артикль; по-русски мы передаем его указательным местоимением тот. — Прим. ред.
18 В. Порциг (IF, 41, стр. 216 и ел., приводит 51 пример для mandalas в Ригведе (II—VII).
14 Примеры см. Bartholomae, Worterbuch, колонка 1221 и ел.; ср. Rei-chel t, Awestische Elementarbuch, § 749 и ел. Описание фактов авестийского языка было предметом сообщения на XXIV Международном конгрессе ориенталистов в Мюнхене 29-го августа 1957 г.: Hansjakob Seller, Das Relativpronomen ira jungeren Awesta,
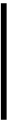 (Y., 19, 6); tam dagnam ya hat^m vahi&ta «эта религия, та, (которая) лучшая для сущих» (Y., 44, 10); vlspe mainyava dagva уаёёа уагэпуа drvanto «все духовные дейвы и те, варниенские другванты» (Yt., X, 97); fravaSibyoyamainyavanam yazatanam «(им), Фравартисам, (которые) от богов духовных» (Y., 23, 2); отсюда индивидуализированные обозначения типа: тШгб уб vouru. gaoyaoitiS «Митра, тот, обширных пастбищ»; ае§а druxS ya nasuS «та, Друк (которая) Насу»; aego spa yo urupig «собака, та, (которая) урупи» (Vd., 5, 33). Во всех древних примерах подобного типа автономия уа- в отношении падежа — всегда номинатив — является правилом. И только благодаря последующей нормализации на местоимение и на вводимое им определение распространяется согласование: dagum yim apaoSsm «дейва, того, (который) An.» (Yt., 8, 28); imam dagnam ya,m ahuirim «эту веру, ту, (которая) ахуров» (Yt., 14, 52). Точно так же и в древ-неперсидском языке именно в связи с этим древним употреблением следует оценивать кажущуюся аномалию darayava(h)um hya mana pita «Дария (акк.), тот, (который) мой отец» по сравнению с более обычным оборотом gaumatam tyam magum «Гаумата, того, мага», где все слова связаны согласованием.
(Y., 19, 6); tam dagnam ya hat^m vahi&ta «эта религия, та, (которая) лучшая для сущих» (Y., 44, 10); vlspe mainyava dagva уаёёа уагэпуа drvanto «все духовные дейвы и те, варниенские другванты» (Yt., X, 97); fravaSibyoyamainyavanam yazatanam «(им), Фравартисам, (которые) от богов духовных» (Y., 23, 2); отсюда индивидуализированные обозначения типа: тШгб уб vouru. gaoyaoitiS «Митра, тот, обширных пастбищ»; ае§а druxS ya nasuS «та, Друк (которая) Насу»; aego spa yo urupig «собака, та, (которая) урупи» (Vd., 5, 33). Во всех древних примерах подобного типа автономия уа- в отношении падежа — всегда номинатив — является правилом. И только благодаря последующей нормализации на местоимение и на вводимое им определение распространяется согласование: dagum yim apaoSsm «дейва, того, (который) An.» (Yt., 8, 28); imam dagnam ya,m ahuirim «эту веру, ту, (которая) ахуров» (Yt., 14, 52). Точно так же и в древ-неперсидском языке именно в связи с этим древним употреблением следует оценивать кажущуюся аномалию darayava(h)um hya mana pita «Дария (акк.), тот, (который) мой отец» по сравнению с более обычным оборотом gaumatam tyam magum «Гаумата, того, мага», где все слова связаны согласованием.
Ту же ситуацию мы наблюдаем в греческом языке гомеровского эпоса. Здесь необходимо еще раз привлечь внимание к конструкции — используемой настолько широко, что она дает устойчивые обороты типа формул,— состоящей из местоимения og, ocrng, осгте «который» с именными определениями в неглагольных синтагмах, где оно играет роль артикля, при независимости синтагмы от антецедента в отношении падежа. Этот тип конструкции хорошо известен: ИгЫ8ц..., og ц&у' apicTTog «Пелид, тот, (который) намного лучший» (П 271) Teoxpog,og apiatog 'A^aiuv «Тевкр, тот, (который) лучший из ахейцев» (N 313); Kpovoti Jtatg, og toi сто'пцд, «сын Кроноса, тот, (который) супруг» (О 91); та еШтса, og %' sni6si)T]g «(имущество), которого жаждет всякий, (кто) неимущ» (Е 481); <Ш,О1, og rig 'kyamv «другие, всякий из ахейцев» (У 285); eyrifxev 'A^ai&v og ug apiorog «женился, из ахейцев (который) лучший» (X 179); Zrjva, og^ tig те 6euv apiatog «Зевса, (который) лучший из богов» (W 43); oivov... acpuaaov S6uv, oug fxexa tov Яаршта-xog ov ob (piAaaaeig «они налили сладкое вино, (которое) самое приятное после того, (которое) ты сохраняешь» ф 349—350) и т. д. Это не «именные предложения», но синтагмы, в которых местоимение, вводящее именное определение, выполняет функцию артикля. Если взять это положение за отправную точку, то мы замечаем, что между og, связанным с именной формой, и 6g, связанным с формой глагольной, нет разницы по существу. Местоимение не изменяет своего качества, когда вводит глагол: 6g к' km8evrc, «который неимущ» и og ке Gav-ficriv «который умрет» (Т 228) совершенно аналогичны. Если мы считаем естественным, что в последовательности %pr tov fiiv xaTa9ajiTs[xev, og ке Gav^aiv «нужно, чтобы был похоронен тот, который умрет», «относительное местоимение» 6g стоит в номи-
нативе, следует признать в равной степени регулярным, что и в gg и' eniSeu^g местоимение остается в номинативе, каким бы ни был падеж .антецедента. "Og имеет функцию «артикля» и в «относительном предложении», совершенно так же, как и в именной синтагме og iiy' A'piOTog «который намного лучше». В ведийском языке в (agnim) yo vasuh «Агни (акк.), тот, (который) добрый» (V, 6, 1), как и в уб no dve§ti «тот, (который) нас ненавидит» (III, 53, 21), местоимение выполняет одну и ту же функцию, как это показывает и параллелизм конструкций. В авестийском языке местоимение-артикль появляется как в определительной именной синтагме, например уб yimo хёаёЧб букв, «тот, Йама, (который) великолепный» (Yt, 5, 25), так и в относительной глагольной форме, например уа da a§T§ «те, награды, (которые) ты раздашь» (Y., 43, 4). И в том и в другом случае с помощью уа-, связанного в первом примере с именной формой, а во втором — с формой глагольной, выражается категория определенности.
Нет больше оснований сомневаться в том, что эта двойная функция присуща местоимению *уо- уже в общеиндоевропейском. Явные соответствия между индо-иранскими языками и греческим находят подтверждение и в славянских и балтийских языках. Столь важная категория, как определенная (членная) форма прилагательного, в древних славянских и балтийских языках есть не что иное, как присоединение к прилагательному местоимения *уо-для определения существительного. Это местоимение фиксируется в постпозиции, но даже и это не является новшеством в порядке слов, потому что и в ведийском уа- часто встречается в постпозиции: sa rairl paritakmya ya «эта ночь, (которая) убывающая, та» (RV.V, 30, 14). Таким образом, в древнем состоянии славянских и балтийских языков местоимение *уо- имеет две функции: функцию определительную (именную) в определенном (членном) прилагательном и функцию относительную (глагольную) в форме, распространенной за счет частицы ie, ср. ст.-слав, местоимение нже. К историческому периоду эти две функции уже разъединились, и местоимение i2e впоследствии было вытеснено основой вопросительно-неопределенного местоимения, но свидетельство славянских и балтийских языков относительно первоначальных синтаксических функций местоимения *уо- не становится от этого менее убедительным 15.
Что касается хеттского языка, то здесь форма местоимения была иной — kuiS, однако это не вносит никаких существенных изменений в описанную нами общую картину. Синтаксическим функ-
 15 В работе Мейе — Вайяна (A. Meillet — А. V ai 11 ant, Le Slave commun, P., 1934, стр. 446) конструкция прилагательного в определенной форме рассматривается как черта, сближающая иранские, славянские и балтийские языки. В действительности же это явление общеиндоевропейское, как мы стремимся показать во всем нашем изложении. [Русский перевод: А. Мейе, Общеславянский язык,' М., 1951, стр. 358.— Прим. ред.]
15 В работе Мейе — Вайяна (A. Meillet — А. V ai 11 ant, Le Slave commun, P., 1934, стр. 446) конструкция прилагательного в определенной форме рассматривается как черта, сближающая иранские, славянские и балтийские языки. В действительности же это явление общеиндоевропейское, как мы стремимся показать во всем нашем изложении. [Русский перевод: А. Мейе, Общеславянский язык,' М., 1951, стр. 358.— Прим. ред.]
циям kuiS le, для которых в хеттских текстах находятся многочисленные примеры, мы придаем особое значение. Мы видим, что ато местоимение широко используется в относительных предложениях, обычно предшествующих главному, например: kuiSmat iyezi apeniSuwan uttar na&URU HattuSi UL huiSs'uzi akipa «тот, кто это сделал, эту вещь, тот не остается в живых в Хаттуша, но умирает»; IRMES-IA-waza kue§ da§... nuwaraSmu arha uppi букв, «каких моих слуг ты взял, пришли их мне обратно!» Эта конструкция весьма употребительна. Но в равной степени многочисленны примеры 17, в которых местоимение связано и согласуется с именной формой без глагола. Некоторые из них можно было бы принять за именные предложения, правда без большой уверенности: kuit handan apat iSsa «quod iustum, ho*", fac, что справедливо, то делай». В большинстве примеров местоимение, несомненно, играет роль — и мы должны теперь ее за ним признать — средства определения имени, роль квазиартикля: SallayaSkan DINGIRMES-a§ kuiS SalliS «(среди) великих богов тот великий»; memiyaS kuiS iyawas «то, что делать»; kuii dan pedaS DUMU nu LUGAL-uS apaS ki§aru «тот сын второго ранга, тот пусть станет царем»; nuza namma GUDHIA UDUHIA DUMU. LU. ULUMES UL armahhanzi armauwantes'-a kuieS nuza apiya UL haSsiyanzi «звери и люди больше не зачинают; те, (которые) беременные, больше не разрешаются от бремени» 18; hantezzies (ma) kuieS MADGALATI nu SA L"KUR kuieS KASKAL*»-* «те сторожевые посты и те дороги врагов»; naemaza kuieS ENMES DUMUMES LUGAL-ya «те, те властители и государи»; surama§(ma) kuisSLU-MES SAG «вы, те, (которые) сановники». Было бы искусственным и неправомерным каждый раз восстанавливать связку; определения часто относятся к такому типу, который исключает глагол «быть». Следует признать, не пытаясь втиснуть данную конструкцию в класс глагольных, чего она не допускает, что kuis ведет себя подобно уа-индо-иранских языков и что оно сочленяет именные синтагмы, совершенно аналогичные тем, какие мы видели в индо-иранских языках. Функциональное сходство в данном случае тем более разительно, что в хеттском языке используется иная местоименная основа. Теперь мы подошли к латыни, которая занимает в этом отношении весьма своеобразное место. Поскольку в латинском языке как средство синтаксической связи используется qui, латынь попадает в одну группу с хеттским. Однако такая группировка позволяет тем более ярко увидеть то, что, по-видимому, их различает. Мы только что видели, что хеттский язык отвечает древнему индоевро-
 1в См. Е. A. Hahn, «Language», XXI (1946), стр. 68 и ел; XXV (1949), стр. 346 и ел.; J. Friedrich, Hethitisches Elementarbuch, § 336. [Русский перевод: И. Фридрих, Краткая грамматика хеттского языка, М., 1952, стр. 166—167.— Прим. ред.]
1в См. Е. A. Hahn, «Language», XXI (1946), стр. 68 и ел; XXV (1949), стр. 346 и ел.; J. Friedrich, Hethitisches Elementarbuch, § 336. [Русский перевод: И. Фридрих, Краткая грамматика хеттского языка, М., 1952, стр. 166—167.— Прим. ред.]
| , , (§ ) 18 Отрывок из мифа о Телипину (Laroche, RHA, 1955, стр. 19). |
17 Некоторые из приводимых ниже примеров взяты из текстов, изданных
Э. фон Шулером: Е. von Schuler, Hethitische Dienstanweisungen, Graz, 1957,
стр. 14, 17, 41 (§ 8-9).
18 О
I
пейскому состоянию, так как местоимение выступает в нем в двух синтаксических конструкциях. Можно ли обнаружить эту двойную синтаксическую функцию у латинского qui? Подобный вопрос может оскорбить чувства латиниста. Относительное местоимение qui, управляющее глагольным предложением, представляет собой в латинском языке явление настолько общеизвестное, что его берут в качестве модели относительного предложения вообще. Напротив, qui, стоящее в сочинительной связи с именной формой, покажется такой аномалией, которую невозможно совместить с синтаксисом относительных конструкций в латыни; ни в одном описании латинского языка не дается ни одного подобного примера. Тем не менее нужно поставить вопрос: не использовалось ли и в латыни, как и в других языках, местоимение как определитель имени? Структурные соображения побуждают нас признать такую теоретическую возможность и попытаться ее проверить. Молчание, хранимое по этому поводу грамматиками, нельзя считать ответом, поскольку поднятый здесь вопрос никогда раньше не ставился.
После обследования текстов и сбора материала, самый замысел чего первоначально казался слишком смелым, нам удалось обнаружить в древних латинских текстах желанное подтверждение. В связи с тем, что эти факты, насколько нам известно, нигде не были отмечены, необходимо изложить их более подробно.
Фест (Festus, 394, 25) сохранил для нас формулу, которой обозначали всю совокупность сенаторов, включавшую, помимо patres «отцов», тех, кто в качестве conscripti «записанных» должен был пополнить их число: qui patres qui conscripti букв, «которые отцы, которые записанные» (ср., кроме того, Festus, sub voce: allecti «отобранные» 6, 22; conscripti «записанные» 36, 16). Мы видим в qui patres qui conscripti тот же тип синтагмы, который мы встречали с уа- в ведийском языке для уточнения членов при перечислении: уй gungur уа" sinlvali у£ гака" уа sarasvati (II, 32, 8). Другая формула^, также древняя, приведена у Варрона (Lingu. Lat., V, 58), который обнаружил ее в Книгах Авгуров (Священных Книгах): hi (sc. dei) quos Augurum Libri scriptos habent sic «divi qui potes» pro illo quod Samothraces Geoi 6ovccTot «эти (то есть боги), которых Книги Авгуров записали как «боги, которые могущественные», вместо того, что самофракийцы называли 6eot 8trvaTot («боги властительные»). Архаичность формы potes соответствует синтаксическому архаизму — qui в роли определителя имени в обороте divi qui potes, унаследованном от ритуала кабиров (ср. В а р р о н, там же: hi Samothraces dii, qui Castor et Pollux «эти боги самофракийцев, которые Кастор и Поллукс»), и этот оборот ни в коем случае нельзя исправлять на divi potes «боги могущественные», как это делается в современных изданиях 1в. Третий пример мы находим на этот раз в художественном тексте, у Плавта: salvete, Athenae, quae nutri-
 19 К сожалению, так обстоит дело в издании Кента (Kent) в «Loeb Classical Library», I, стр. 54, который, следуя за Летусом (Laetus), исправляет divi qui
19 К сожалению, так обстоит дело в издании Кента (Kent) в «Loeb Classical Library», I, стр. 54, который, следуя за Летусом (Laetus), исправляет divi qui
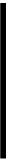 ces Graeciae «привет, Афины, кормилица Греции!» (Stich., 649). Даже если это подражание древним формулам, что вполне возможно, или окказиональное употребление, то, во всяком случае, несомненно, что конструкция подлинна: qui прямо связывает определение с обращением, и, таким образом, Athenae, quae nutrices Graeciae полностью соответствует в языке гат: 0wa... уэт a&a vahiSta" hazaoeam... ySsa «я умоляю тебя, который сторонник20 Аши Ва-хишты» (Y. 28, 8). Наконец, также у Плавта, мы находим несколько случаев, когда qui, выполняя функцию квазиартикля, употребляется с причастием среднего рода множ. числа: ut quae mandata... tradam «чтобы передать эти поручения» (букв, «которые порученные») (Merc, 385); tu qui quae facta infitiare «ты, который пытаешься отрицать факты» (букв, «которые совершенные») (Amph., 779); omnes scient quae facta «все узнйют эти факты» (букв, «все узнают, которые совершенные») (там же, 474); optas quae facta «ты желаешь то, что сделано» (букв, «желаешь, которое совершенное») (там же, 575). Даже у Вергилия мы встречаем именную конструкцию с qui, которая соседствует с конструкцией глагольной,— например, в отрывке из «Энеиды» (VI, 661 и ел.) эти конструкции следуют друг за другом: quique sacerdotes casti... quique pii vates... aut qui vitam excoluere... quique fecere... «и которые чистые жрецы... и которые благочестивые пророки... или которые жизнь прожили... и которые совершили...» 21. Эти примеры не претендуют на полноту, и, возможно, они побудят специалистов в области латинского языка продолжить исследование. Но их достаточно, чтобы показать, что вплоть до начала классического периода в латинском языке сохранялось в виде пережитка бесспорно унаследованное им от индоевропейского состояния синтаксическое явление, воспроизводящее способность к двоякому употреблению, которая была присуща и хеттскому kuiS и которая была также известна языкам с относительным местоимением *уо-.
ces Graeciae «привет, Афины, кормилица Греции!» (Stich., 649). Даже если это подражание древним формулам, что вполне возможно, или окказиональное употребление, то, во всяком случае, несомненно, что конструкция подлинна: qui прямо связывает определение с обращением, и, таким образом, Athenae, quae nutrices Graeciae полностью соответствует в языке гат: 0wa... уэт a&a vahiSta" hazaoeam... ySsa «я умоляю тебя, который сторонник20 Аши Ва-хишты» (Y. 28, 8). Наконец, также у Плавта, мы находим несколько случаев, когда qui, выполняя функцию квазиартикля, употребляется с причастием среднего рода множ. числа: ut quae mandata... tradam «чтобы передать эти поручения» (букв, «которые порученные») (Merc, 385); tu qui quae facta infitiare «ты, который пытаешься отрицать факты» (букв, «которые совершенные») (Amph., 779); omnes scient quae facta «все узнйют эти факты» (букв, «все узнают, которые совершенные») (там же, 474); optas quae facta «ты желаешь то, что сделано» (букв, «желаешь, которое совершенное») (там же, 575). Даже у Вергилия мы встречаем именную конструкцию с qui, которая соседствует с конструкцией глагольной,— например, в отрывке из «Энеиды» (VI, 661 и ел.) эти конструкции следуют друг за другом: quique sacerdotes casti... quique pii vates... aut qui vitam excoluere... quique fecere... «и которые чистые жрецы... и которые благочестивые пророки... или которые жизнь прожили... и которые совершили...» 21. Эти примеры не претендуют на полноту, и, возможно, они побудят специалистов в области латинского языка продолжить исследование. Но их достаточно, чтобы показать, что вплоть до начала классического периода в латинском языке сохранялось в виде пережитка бесспорно унаследованное им от индоевропейского состояния синтаксическое явление, воспроизводящее способность к двоякому употреблению, которая была присуща и хеттскому kuiS и которая была также известна языкам с относительным местоимением *уо-.
Теперь, когда рассмотрены в совокупности соответствия между древними формами индоевропейских языков, мы уже не можем считать использование местоимения в качестве определителя имени существительного или прилагательного явлением вторичным. Более того, именно такое употребление показывает самую точку зарождения его основной функции, а его употребление в качестве «относительного местоимения» есть лишь последующее распространение на глагольное предложение. В обоих случаях роль местоимения одна и та же — роль определителя, только в одном случае оно определяет именное слово, а в другом — целое предложение.
 potes на divi potes. Подобные «исправления» уничтожают в текстах подлинные черты, которые не могут объясняться ошибками переписчика.
potes на divi potes. Подобные «исправления» уничтожают в текстах подлинные черты, которые не могут объясняться ошибками переписчика.
20 Букв, «который тех же вкусов, что Аша Вахишта».
21 Другие примеры см. Havers, IF, 43 (1926), стр. 239 и ел., где они неточно
характеризуются как «emphatische Relativsatze» — «эмфатические относительные
предложения».
Этот тип связи оказался затемненным, на наш взгляд, вследствие того, что в большинстве индоевропейских языков определение к имени стало выражаться другими способами, не относительным предложением; относительное местоимение превратилось таким образом — в результате процесса, лишившего его функции определителя имени, которая была в большинстве случаев передана «артиклю»,— в средство исключительно синтаксическое, каким оно и является уже в классической латыни. В этом отношении, следовательно, индоевропейские языки испытали коренное преобразование. То, что было существенной чертой общей синтаксической структуры, является теперь лишь пережитком, сохранившимся только в некоторых языках.
Однако даже там, где в силу исторических причин синтаксическая система языка известна нам только в ее «современном» состоянии, иногда происходит частичный возврат к древней конструкции, хотя и новыми путями. В древнеирландском языке нет особой формы, которая выполняла бы роль относительного местоимения; функция выражения относительности 22 осуществляется обычно либо с помощью назализации или морфологических изменений (особые флексии), либо с помощью преверба по или местоименных инфиксов и т. п. Имеется, однако, один случай, а именно после предлога, когда появляется особое относительное местоимение, и это относительное слово есть не что иное, как форма именно артикля -(s)an- без изменения рода или числа: ind-altoir for-an-idparar «алтарь, на котором приносят жертвы»; inti di-an-airchessi dia «is cui parcit deus, тот, кого щадит бог». Необходимость соединить предлог с дополнением привела в данных конкретных синтаксических условиях к тому, что в качестве относительной частицы был использован артикльгз. Мы могли бы, разумеется, также вспомнить о двойной функции — артикля и относительного слова — местоименного ряда der, die, das и т. д. в немецком языке; однако, несмотря на внешнее сходство, аналогия здесь более отдаленная, поскольку здесь двойная функция в действительности является следствием использования этого местоимения как указательного.
Синтаксические особенности относительного предложения в общеиндоевропейском языке обнаруживают, таким образом, ту же структуру, которую мы находим в языках других семей, проанали-
22 Ср. J. Vendryes, Grammaire du vieil-irlandais, стр. 331 и ел., а также
Thurneysen, Grammar of Old Irish, § 492 и ел.
23 Данные кельтских языков приобрели бы особую ценность, если бы удалось
доказать гипотезу Турнейзена («Grammar», § 50 и ел.) о том, что галльская форма
относительного местоимения 3-го лица множ. числа dugiiuntiio содержит в качест
ве конечного элемента местоимение *уо- в постпозиции. Этот случай Диллон
(«Trans. Phil. Soc», 1947, стр. 24) сближает с постпозицией местоимения kuiS
в хеттском языке. Ср., впрочем, другую интерпретацию, предложенную Ю. По
корным («Die Sprache», I, 1949, стр. 242).
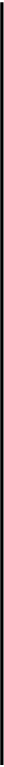 зированных нами сначала. Сопоставимыми в этих совершенно различающихся между собой языковых системах оказываются именно функции, а также отношения между функциями, выраженные формально. Мы показали, хотя пока еще и схематично, что относительное предложение, независимо от того, как оно связывается с антецедентом (с помощью местоимения, частицы и т. д.), ведет себя как «синтаксическое прилагательное» в форме определенности, а относительное местоимение в свою очередь играет роль определяющего «синтаксического артикля», детерминатива. Иными словами, сложные единицы предложения можно, исходя из их функции, распределить по тем же формальным классам, к которым в силу своих морфологических свойств относятся простые единицы, слова.
зированных нами сначала. Сопоставимыми в этих совершенно различающихся между собой языковых системах оказываются именно функции, а также отношения между функциями, выраженные формально. Мы показали, хотя пока еще и схематично, что относительное предложение, независимо от того, как оно связывается с антецедентом (с помощью местоимения, частицы и т. д.), ведет себя как «синтаксическое прилагательное» в форме определенности, а относительное местоимение в свою очередь играет роль определяющего «синтаксического артикля», детерминатива. Иными словами, сложные единицы предложения можно, исходя из их функции, распределить по тем же формальным классам, к которым в силу своих морфологических свойств относятся простые единицы, слова.
ГЛАВА XIX
СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИМЕННОГО СЛОЖЕНИЯ
Йо морфологический анализ оставляет без ответа, а по существу, даже не позволяет поставить основной вопрос: какова функция сложных имен? Что делает… Под этим углом зрения ниже рассматриваются основные классы сложных имен в том… Мы исходим из того принципиального положения, что сложное имя заключает в себе всегда два и только два слова. Из…ЧЕЛОВЕК В ЯЗЫКЕ
Глагол наряду с местоимением представляет собой единственный разряд слов, которому свойственна категория лица. Но местоимение имеет столько… Во всех языках, имеющих глагол, формы спряжения классифицируются по их… В том виде, в каком эта классификация была разработана греками для описания их собственного языка, она считается и в…ОТНОШЕНИЯ ВРЕМЕНИ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ГЛАГОЛЕ
Попытки свести оппозиции, проявляющиеся в материальной структуре глагольных форм, к временным различиям также наталкиваются на большие трудности.… Задача состоит, таким образом, в том, чтобы найти в синхронной картине… Парадигмы существующих грамматик заставляют считать, что все глагольные формы, произведенные от одной основы,…Ш7
 |
 настоящим моментом речи. Как только снимается соотношение указателя с моментом речи, в котором он манифестируется, язык начинает использовать термины, соответствующие каждому указателю, но имеющие референцию уже не с моментом речи, а с «реальными» объектами, с «историческими» временем и местом. Отсюда возникает такая корреляция, как: я : он — здесь : там — теперь : тогда — сегодня : в тот день — вчера : накануне — завтра : на следующий день — на будущей неделе : на следующей неделе — три дня назад : за три дня до того и т. д. Сам язык вскрывает глубокое различие между двумя этими планами.
настоящим моментом речи. Как только снимается соотношение указателя с моментом речи, в котором он манифестируется, язык начинает использовать термины, соответствующие каждому указателю, но имеющие референцию уже не с моментом речи, а с «реальными» объектами, с «историческими» временем и местом. Отсюда возникает такая корреляция, как: я : он — здесь : там — теперь : тогда — сегодня : в тот день — вчера : накануне — завтра : на следующий день — на будущей неделе : на следующей неделе — три дня назад : за три дня до того и т. д. Сам язык вскрывает глубокое различие между двумя этими планами.
Референтную соотнесенность с «говорящим», имплицитно ео-держащуюся во всей этой группе выражений, оценивали слишком поверхностно, как нечто само собой разумеющееся. Эта референция лишается собственного значения, если не раскрыть основную черту, отличающую ее от других языковых знаков. Между тем оригинальность и фундаментальная важность этого явления состоят как раз в том, что эти так называемые местоименные формы соотносятся не с «реальностью» и не с «объективным» положением в пространстве и времени, ас единственным каждый раз актом вы-. сказывания, которы«"зй1(ЛЯчае'г~в~себе эти формы7"ТС~таТ£им обра-зв$г, они соотнесены со своими собственными употреблениями (рефлексивны). Важная роль этих форм в языке соразмерна с природой задачи, которую они призваны разрешать и которая есть не что иное, как коммуникация на межсубъектном уровне. Язык разрешил эту задачу, создав серию «пустых» знаков, свободных от референтной соотнесенности с «реальностью», всегда готовых к новому употреблению и становящихся «полными» знаками, как только говорящий принимает их для себя, вводя в протекающий акт речи. Лишенные материальной референции, они не могут быть употреблены неправильно; ничего не утверждая, они не подчинены ни критерию истинности, ни критерию ложности. Роль этих знаков заключается в том, что они служат инструментом для процесса, который можно назвать обращением языка в речь. Идентифицируя себя как единственное^лицо, произносящее я, каждый из говорящих поочередно становится «субъектом». Употребление таких слов, следовательно, обусловлено только ситуацией речи и ничем другим. Если бы каждый говорящий располагал для выражения своей неповторимой субъективности особым «опознавателем» (как каждый радиопередатчик имеет свои особые позывные), языков оказалось бы столько же, сколько людей, языковое общение стало бы совершенно невозможным. Язык устраняет эту опасность, создавая единый, но мобильный знак я, который может быть взят для себя каждым говорящим при условии, что этим я он будет отсылать каждый раз только к данному моменту своей собственной речи. Этот знак, таким образом, связан с языком в процессе его использования и утверждает говорящего именно как говорящего. Это свойство и лежит в основе индивидуальной речи, когда каждый
говорящий как бы берет весь язык для личного пользования. Привычка делает нас нечувствительными к глубокому различию между языком как системой знаков и языком в процессе его использования каждым индивидом. Как только индивид присваивает себе язык для личного пользования, язык обращается в акты речи, характеризующиеся системой внутренних референций с их ключом — я, и определяющие индивида благодаря той особой языковой конструкции, к которой он прибегает, выражая себя в качестве говорящего. Таким образом, указатели я и ты не могут существовать как виртуальные знаки, они существуют лишь как знаки, актуализуемые в единовременных речевых актах, где они каждым из актов своего появления отмечают процесс присвоения языка говорящим.
Системный характер языка приводит к тому, что присвоение языка, первоначально сигнализируемое указателями, отражается вслед за тем — в пределах данного речевого акта — на других языковых элементах, способных к формальной «настройке», прежде всего на глаголе, в котором оно оформляется различными в зависимости от характера языка способами. Следует подчеркнуть, что «глагольная форма» находится во взаимообусловливающем отношении с актом индивидуальной речи, так как она постоянно и обязательно актуализуется в определенном акте речи и зависит от этого акта. Глагол не может иметь никакой виртуальной и «объективной» формы. И если глагол как единица лексики во многих языках обычно представлен в форме инфинитива, то это чистая условность; инфинитив в языке есть нечто совершенно иное, нежели инфинитив в лексикографическом метаязыке. Все элементы глагольной парадигмы — вид, время, род, лицо и т. д.— вытекают из актуализации и из зависимости от единовременного акта речи. Таково, например, «время» глагола, всегда соотносимое с актом речи, в котором данная глагольная форма фигурирует. Итак, законченное индивидуальное высказывание строится в двух планах: во-первых, оно приводит в действие назывную функцию языка и устанавливает в форме различных лексических знаков референтные соотнесенности с объектами; во-вторых, оно организует эти референты с помощью аутореферентов, соответствующих каждому классу форм данного языка.
Но всегда ли это так? Если язык в процессе его использования необходимо реализуется в дискретных актах речи, то не обрекает ли его эта необходимость на существование исключительно в актах речи «личного» характера? По опыту мы знаем, что нет. Имеются и такие акты речи, которые вопреки их индивидуальной природе не связываются с лицом, они ориентированы не на самих себя, а на «объективную» ситуацию. Это область того, что называют «третьим лицом».
В самом деле, «третье лицо» представляет немаркированный член корреляции лица. Вот почему не будет тривиальным утверждение
10 Бенвеиис
 о том, что не-лицо есть единственно возможная форма выражения для таких актов речи, которые не должны указывать на самих себя, а представляют процесс, ориентированный на кого угодно или на что угодно, кроме самого акта речи, и эти кто или что угодно способны всегда иметь объективную референцию.
о том, что не-лицо есть единственно возможная форма выражения для таких актов речи, которые не должны указывать на самих себя, а представляют процесс, ориентированный на кого угодно или на что угодно, кроме самого акта речи, и эти кто или что угодно способны всегда иметь объективную референцию.
Таким образом, в формальном классе местоимений так называемые местоимения «третьего лица» по своей природе и функции совершенно отличны от я и ты. Как было уже давно замечено, формы типа П «он», 1е «ему, его», cela «это» употребляются лишь в качестве сокращающих субститутов (Pierre est malade; il a la fievre «Пьер болен, у него жар»); они заменяют или повторяют различные материальные элементы высказывания. Однако эта функция не является исключительной привилегией местоимений; она может выполняться элементами других классов, в частности во французском языке некоторыми глаголами: cet enfant ecrit main-tenant mieux qu'il ne faisait Pannee derniere «ребенок пишет теперь лучше, чем он делал это в прошлом году». Здесь налицо функция синтаксической «репрезентации», которая распространяется таким способом на единицы языка, относящиеся к другим «частям речи», и которая отвечает потребности в экономии, заменяя какой-либо сегмент высказывания или даже целое высказывание более гибким субститутом. Нет, таким образом, ничего общего между функцией этих субститутов и функцией указателей лица.
То, что «третье лицо» в действительности «не-лицо», в некоторых языках можно наблюдать непосредственно *. Приведем здесь лишь один из многочисленных примеров такого рода; вот как в языке юма (Калифорния) представлены местоименные посессивные префиксы в двух рядах (приблизительно: неотчуждаемой принадлежности и отчуждаемой принадлежности): 1-е л. ?-, ?ап?-; 2-е л. т-, тапУ-; 3-е л. нулевая морфема, п*- 2. Референция по линии лица здесь нулевая, всюду, кроме отношения я/ты. В других языках (в частности, индоевропейских) регулярность формальной структуры и симметрия, имеющая уже вторичное происхождение, создают впечатление, что здесь между тремя лицами существуют отношения координации. Таково положение в современных языках с обязательным местоимением, где «он» кажется наряду с «я» и «ты» равноправным членом трехчленной парадигмы; то же во флексии индоевропейского настоящего времени -mi, -si, -ti. На самом деле симметрия здесь только формальная. «Третье лицо» отличается следующими свойствами: 1) оно может комбинироваться с любой объектной референцией; 2) оно никогда не соотнесено с его собственным употреблением в акте речи (нерефлек-
сивно)- З) оно может иметь некоторое, иногда довольно значительное число местоименных или указательных вариантов; 4) оно не соотносимо с парадигмой референции типа здесь, сейчас и т. п. Таким образом, даже суммарный анализ форм, традиционно определяемых как местоимения вообще, приводит к выводу о том, что среди них следует различать классы совершенно различной природы а следовательно, приводит к необходимости проводить различие' между языком как совокупностью знаков и системой их комбинаций, с одной стороны, и, с другой стороны, языком как деятельностью, проявляющейся в единовременных актах речи, которые характеризуются как таковые особыми показателями.
 1 По этому поводу мы уже высказывались, см. BSL, XLIII, (1946), стр. 1 и ел.;
1 По этому поводу мы уже высказывались, см. BSL, XLIII, (1946), стр. 1 и ел.;
см. также в настоящем сборнике гл. XX.
2 По данным А. М. Н а 1 р ег n, Yuma, «Linguistic Structures of Native America»,
ed. Harry Hoijer and others (=Viking Fund Publications in Anthropology, 6), 1946,
стр. 264.
ГЛАВА XXIII О СУБЪЕКТИВНОСТИ В ЯЗЫКЕ
Если язык, как принято говорить, является орудием общения, то чему он обязан этим свойством? Вопрос может удивить, как удивляют все те случаи, когда как будто бы ставится под сомнение очевидное. Но иногда полезно потребовать у очевидного подкрепить свою очевидность. В данном случае на ум приходят два обоснования. Одно из них заключается в том, что язык фактически употребляется таким образом — без сомнения, потому, что люди не нашли лучшего или хотя бы столь же эффективного способа коммуникации. Этот довод равносилен тому, чтобы просто констатировать то, что мы желаем понять. В качестве второго довода можно было бы предположить, что язык обладает такими качествами, которые делают его подходящим орудием коммуникации. С его помощью удобно передавать то, что я ему поручаю: приказ, вопрос, сообщение, и вызывать у собеседника всякий раз соответствующее поведение. Развивая эту мысль в более специальном плане, можно было бы добавить, что язык и в самом деле ведет себя так, что допускает бихевиористское описание в терминах стимула и реакции, из чего вытекает вывод о посредническом и орудийном характере языка. Но о языке ли здесь говорится? Не смешивается ли здесь язык с речью? Если мы принимаем, что речь — это язык в действии, и притом обязательно между партнерами, то незаметно допускаем логическую ошибку, petitio principii, ибо природа этого «орудия» объясняется через его положение как «орудия». Что касается роли языка как средства передачи информации, то не следует забывать, что, с одной стороны, эта роль может выполняться другими, не языковыми способами — жестами, мимикой, а с другой стороны, говоря о языке как об «орудии», мы неправомерно переносим на язык свойства некоторых орудий и способов связи, которые в человеческих обществах являются все без исключения
вторичными по отношению к языку и имитируют его функционирование. Таковы все как элементарные, так и сложные знаковые
системы.
На самом же деле сопоставление языка с орудием — а для того, чтобы такое сопоставление было хотя бы понятным,, язык приходится сравнивать с орудием материальным — должно вызывать большое недоверие, как всякое упрощенное представление о языке. Говорить об орудии — значит противопоставлять человека природе. Кирки, стрелы, колеса нет в природе. Их изготовили люди. Язык же — в природе человека, и человек не изготавливал его. Мы постоянно склонны наивно воображать некую первоначальную эпоху, когда вполне сформировавшийся человек открывает себе подобного, такого же вполне сформировавшегося человека, и между ними постепенно начинает вырабатываться язык. Это чистая фантазия. Невозможно вообразить человека без языка и изобретающего себе язык. Невозможно представить себе изолированного человека, ухитряющегося осознать существование другого человека. В мире существует только человек с языком, человек, говорящий с другим человеком, и язык, таким образом, необходимо принадлежит самому определению человека.
Все свойства языка: нематериальная природа, символический способ функционирования, членораздельный характер, наличие содержания — достаточны уже для того, чтобы сравнение с орудием, отделяющее от человека его атрибут — язык, оказалось сомнительным. Безусловно, в повседневной практике возвратно-поступательное движение речи вызывает мысль об обмене, и потому та «вещь», которой, как нам кажется, мы обмениваемся, представляется нам выполняющей орудийную или посредническую функцию, которую мы склонны гипостазировать в «объект». Но — подчеркнем еще раз — эта роль принадлежит речи.
Как только мы отнесем эту функцию к речи, мы можем поставить вопрос о том, что именно предрасполагает речь выполнять ее. Для того чтобы речь обеспечивала «коммуникацию», она должна получить полномочия на выполнение этой функции у языка, так как речь представляет собой не что иное, как актуализацию языка. Действительно, мы должны искать основание этого свойства в языке. Оно заключено, как нам кажется, в одной особенности языка, которая мало заметна за скрывающей ее «очевидностью» и которую мы пока можем охарактеризовать только в общем виде.
Именно в языке и благодаря языку человек конституируется как субъект, ибо только язык придает реальность, свою реальность, которая есть свойство быть,— понятию «Ego» — «мое я».
«Субъективность», о которой здесь идет речь, есть способность говорящего представлять себя в качестве «субъекта». Она определяется не чувством самого себя, имеющимся у каждого человека (это чувство в той мере, в какой можно его констатировать, является
всего лишь отражением), а как психическое единство, трансцендентное по отношению к совокупности полученного опыта, объединяемого этим единством, и обеспечивающее постоянство сознания. Мы утверждаем, что эта «субъективность», рассматривать ли ее с точки зрения феноменологии или психологии, как угодно, есть не что иное, как проявление в человеке фундаментального свойства языка. Тот есть «ego», кто говорит «ego». Мы находим здесь самое основание «субъективности», определяемой языковым статусом «лица».
Осознание себя возможно только в противопоставлении. Я могу употребить я только при обращении к кому-то, кто в моем обращении предстанет как ты. Подобное диалогическое условие и определяет лицо, ибо оно предполагает такой обратимый процесс, когда я становлюсь ты в речи кого-то, кто в свою очередь обозначает себя как я. В этом обнаруживается принцип, следствия из которого необходимо развивать во всех направлениях. Язык возможен только потому, что каждый говорящий представляет себя в качестве субъекта, указывающего на самого себя как на я в своей речи. В силу этого я конституирует другое лицо, которое, будучи абсолютно внешним по отношению к моему «я», становится моим эхо, которому я говорю ты и которое мне говорит ты. Полярность лиц — вот в чем состоит в языке основное условие, по отношению к которому сам процесс коммуникации, служивший нам отправной точкой, есть всего лишь прагматическое следствие. Полярность эта к тому же весьма своеобразна, она представляет собой особый тип противопоставления, не имеющий аналога нигде вне языка. Она не означает ни равенства, ни симметрии: «ego» занимает всегда трансцендентное положение по отношению к «ты», однако ни один из терминов немыслим без другого; они находятся в отношении взаимодополнительности, но по оппозиции «внутренний ~ внешний», и одновременно в отношении взаимообратимости. Бесполезно искать параллель этим отношениям: ее не существует. Положение человека в языке неповторимо.
Таким образом, рушатся старые антиномии «я» и «другой», индивид и общество. Налицо двойственная сущность, которую неправомерно и ошибочно сводить к одному изначальному термину, считать ли этим единственным термином «я», долженствующее будто бы утвердиться сначала в своем собственном сознании, чтобы затем открыться сознанию «ближнего»; или же считать таким единственным изначальным термином общество, которое как целое будто бы существует до индивида, из которого индивид выделяется лишь по мере осознания самого себя. Именно в реальности диалектического единства, объединяющего оба термина и определяющего их во взаимном отношении, и кроется языковое основание субъективности.
Но действительно ли это основание языковое? Какие свойства языка служат основанию субъективности?
По сути дела, язык отвечает этому во всех своих частях. Язык настолько глубоко отмечен выражением субъективности, что возникает вопрос, мог ли бы он, будучи устроенным иначе, вообще функционировать и называться языком? Мы говорим именно о языке вообще, а не об отдельных языках. Но факты отдельных языков, согласуясь друг с другом, свидетельствуют уже о языке в целом. Ограничимся указанием лишь наиболее очевидных из
них.
Уже сами термины я, франц. je, и ты, франц. tu, которыми мы здесь пользуемся, следует рассматривать не как простые фигуры, а как языковые формы, обозначающие «лицо». Весьма примечательный факт—но кто думает примечать его, настолько он обычен! — что среди знаков любого языка любого типа, какой бы эпохе или области земного шара он ни принадлежал, всегда обнаруживаются «личные местоимения». Язык без выражения лица немыслим. Может быть только, что в некоторых языках в определенных обстоятельствах эти «местоимения» намеренно опускаются; таково положение в большинстве языков Дальнего Востока, где среди некоторых коллективов людей правила вежливости требуют употребления перифраз или особых форм для замены прямых личных указаний. Но такого рода употребления только подчеркивают значимость тех форм, которых избегают, ибо имплицитное наличие местоимений и придает определенное социальное и культурное значение субститутам, определяемым коллективными общественными отношениями.
Местоимения, о которых идет речь, отличаются от всех других обозначений, оформляемых языком, следующим: они не соотносятся ни с понятием, ни с индивидом.
Нет понятия «я», объемлющего все я, произносимые в каждый момент всеми говорящими, в том смысле, в каком существует понятие «дерево», с которым соотносятся все индивидуальные употребления слова дерево. Таким образом, я не обозначает никакой лексической сущности. Можно ли сказать, что я соотносится как референт с каким-то определенным индивидом? Если бы это было так, то такое положение было бы постоянным противоречием, принятым в языке, и на практике привело бы к анархии: каким образом одно и то же слово могло бы безразлично относиться к любому индивиду и одновременно идентифицировать каждого отдельно взятого индивида в его индивидуальной особенности? Перед нами класс слов, «личных местоимений», положение которых отличается от статуса всех других знаков языка. С чем же соотносится я? С чем-то весьма специфическим и исключительно языковым: я имеет референтную соотнесенность с актом индивидуальной речи, в котором оно произносится и в котором оно обозначает говорящего. Этот термин может быть идентифицирован только в том, что мы ранее, в другой главе, назвали единовременным актом речи (instance de discours), имеющим только текущую рефе-
рентную соотнесенность. Реальность, к которой он отсылает, есть реальность речи. Именно в том акте речи, где я обозначает говорящего, последний и выражает себя в качестве «субъекта». Следует буквально понимать ту истину, что основание субъективности лежит в самом процессе пользования языком. Если как следует поразмыслить над этим, то оказывается, что нет другого объективного свидетельства идентичности субъекта, чем то, которое он дает таким способом сам о себе.
Язык устроен таким образом, что позволяет каждому говорящему, когда тот обозначает себя как я, как бы присваивать себе язык целиком.
Личные местоимения являются первой опорной точкой для проявления субъективности в языке. От этих местоимений зависят в свою очередь другие классы местоимений, разделяющие тот же статус. Таковы указатели дейксиса, указательные местоимения, наречия, прилагательные. Они организуют пространственные и временные отношения вокруг «субъекта», принятого за ориентир: это (ceci), здесь (id), теперь (maintenant) и их различные корре- ■ ляты — то (cela), вчера (hier), в прошлом году (Гап dernier), завтра (demain) и т. д. Они имеют одну общую черту — все они определяются только по отношению к единовременному акту речи, в котором они производятся, то есть все они находятся в зависимости от я, высказывающегося в данном акте.
Легко заметить, что область субъективности еще шире и подчиняет себе временные отношения. Каков бы ни был тип языка, повсюду можно констатировать определенную языковую организацию понятия времени. Не существенно, обозначается ли это понятие посредством глагольной флексии или словами других классов (частицами, наречиями), лексически и т. п., это вопрос формальной структуры языка. Тем или другим способом каждый язык всегда различает «времена» — или так, что прошедшее и будущее отделены друг от друга «настоящим», как во французском языке; или так, что настоящее-прошедшее противопоставляется будущему; или настоящее-будущее отличается от прошедшего, как в различных языках американских индейцев; эти различия в свою очередь могут зависеть от вариаций вида глагола и т. д. Но всегда линией раздела служит референтное соотношение с «настоящим». А это «настоящее» в свою очередь имеет в качестве временной референтной соотнесенности только одну языковую данность: совпадение во времени описываемого события с актом речи, который его описывает. На линии времени ориентир настоящего времени может находиться только внутри акта речи. Французский академический словарь («Dictionnaire general») определяет «настоящее» («present») как «время глагола, обозначающего время, в котором мы находимся». Но к этому определению следует подходить с осторожностью: нет ни другого критерия, ни другого способа выражения, чтобы обозначить «время, в котором мы нахо-
димся», как только принять за это время «время, когда мы говорим». Это момент вечного «настоящего», хотя и никогда не относящийся к одним и тем же событиям «объективной» хронологии, так как он определяется для каждого говорящего каждым соответствующим единовременным актом речи. Лингвистическое время является аутореферентным (sui-referentiel). В конечном результате анализ человеческой категории времени со всем ее языковым аппаратом открывает субъективность, внутренне присущую самому процессу пользования языком.
В языке есть, таким образом, возможность субъективности, так как он всегда содержит языковые формы, приспособленные для ее выражения, речь же вызывает возникновение субъективности в силу того, что состоит из дискретных единовременных актов. Язык предоставляет в некотором роде «пустые» формы, которые каждый говорящий в процессе речи присваивает себе и применяет к своему собственному «лицу», определяя одновременно самого себя как я, а партнера как ты. Акт речи в каждый данный момент, таким образом, является производной от всех координат, определяющих субъект, из которых мы вкратце перечислили только самые очевидные.
Наличие «субъективности» в языке создает в самом языке, и по нашему мнению, и за его пределами категорию лица. Кроме того, оно имеет разнообразные последствия в самой структуре языков как в формальном устройстве, так и в семантических отношениях. Здесь мы по необходимости обратимся к реальным языкам, чтобы показать, какие изменения в точке зрения на язык может произвести введение понятия «субъективность». Заранее трудно сказать, насколько распространены отмеченные нами особенности во всех реальных языках; в настоящий момент важнее их указать, нежели точно ограничить. Французский язык дает в этом смысле несколько наглядных примеров.
Вообще говоря, когда я употребляю настоящее время какого-либо глагола, имеющего (по традиционной номенклатуре) три лица, возникает впечатление, что различие лиц не вызывает никакого изменения в значении спрягаемой глагольной формы. Между я ем, ты ешь, он ест есть то общее и постоянное, что глагольная форма представляет собой описание действия, одинаковым образом относимого соответственно то к «я», то к «ты», то к «он». В формах я страдаю, ты страдаешь, он страдает равным образом является общим описание одного и того же состояния. Это кажется очевидным уже в силу включения форм в парадигму спряжения.
Однако некоторые глаголы не имеют такого постоянства значения при изменении лица. Речь идет о глаголах, обозначающих некоторые состояния духа или мыслительные операции. Говоря я страдаю, я описываю свое протекающее состояние. Говоря я
чувствую (что погода изменится), я описываю какое-то возникшее у меня впечатление. Но что произойдет, если вместо я чувствую (что погода изменится), я скажу: я думаю (что погода изменится)? Между я чувствую и я думаю существует полный параллелизм формы. Но есть ли он в значении этих глаголов? Могу ли я считать форму я думаю описанием самого себя совершенно так же, как форму я чувствую? Описываю ли я себя думающим, когда говорю я думаю (что...)? Разумеется, нет. Мыслительная операция ни в коей мере не является объектом высказывания; я думаю (что...) эквивалентно ослабленному утверждению. Говоря я думаю (что...), я обращаю в субъективное высказывание безличное утверждение о факте погода изменится, которое и является подлинным предложением.
Рассмотрим еще следующие высказывания: «Вы, я полагаю, господин X...; Я предполагаю, что Жан получил мое письмо; Он вышел из больницы, из чего я заключаю, что он выздоровел». Эти предложения содержат глаголы, обозначающие мыслительные операции: полагать, предполагать, заключать — это логические операции. Но глаголы полагать, предполагать, заключать, будучи употребленными в первом лице, ведут себя не так, как, например, глаголы рассуждать, мыслить, которые на первый взгляд кажутся весьма сходными. Формы я рассуждаю, я мыслю описывают меня как рассуждающего или мыслящего. Совершенно другое в формах я полагаю, я предполагаю, я заключаю. Говоря я заключаю (что...), я не описываю себя как делающего вывод, заключающего, да и что за действие представляло бы собой «заключать»? Я также не представляю себя полагающим что-либо или предполагающим что-либо, когда говорю я полагаю или я предполагаю. Я заключаю указывает на то, что в данной ситуации я устанавливаю отношение заключения или вывода, касающееся какого-то определенного факта. Это логическое отношение и содержится в личном глаголе. Точно так же я полагаю (франц. je suppose), я предполагаю (франц. je presume) весьма далеки от я утверждаю (франц. je pose), я резюмирую (франц. je resume). В формах я полагаю (je suppose), я предполагаю (je presume) содержится указание отношения субъекта, а не описание мыслительной операции. Включая в свою речь «я полагаю», «я предполагаю», я тем самым утверждаю определенное отношение к последующему высказыванию. Действительно, за всеми перечисленными глаголами следуют союз что и какое-то предложение — оно и является подлинным высказыванием, а не личная глагольная форма, которая им управляет. Но зато эта личная форма является, если можно так сказать, указателем субъективности. Она придает последующему утверждению определенный субъективный контекст — сомнение, предположение, заключение,— который характеризует отношение говорящего к произносимому высказыванию. Это проявление субъективности обнаруживается только в первом лице..Невозможно представить себе подо0-
ные глаголы во втором лице, если только не ставится цель дословно воспроизвести аргументацию собеседника: ты предполагаешь, что он уехал, но это лишь один из способов повторить то, что только что было высказано каким-либо «ты»: «Я полагаю, что он уехал». Если же мы снимем выражение лица, оставив только он предполагает, что... то получим с точки зрения «я», произносящего эту фразу, только простую констатацию факта.
Природа указанной «субъективности» распознается еще лучше, если рассмотреть изменения значения, происходящие при изменении лица в некоторых глаголах говорения. Это глаголы, обозначающие индивидуальный акт социального значения: клясться, обещать, гарантировать, удостоверять, а также их варианты — глагольные словосочетания типа взять на себя, дать обещание. В социальных условиях, в которых осуществляется языковое общение, акты, обозначаемые этими глаголами, рассматриваются как принудительные. Поэтому именно здесь различие между высказыванием «субъективным» и «несубъективным» проявляется с особой ясностью, если мы не упускаем из вида сущность противопоставления «лиц» глагола. Следует помнить, что «третье лицо» представляет собой такую форму глагольной (или местоименной) парадигмы, которая не отсылает ни к какому лицу, так как имеет референтную соотнесенность с объектом, находящимся вне речевого акта. Но она существует и получает характеристику лишь в силу противопоставления с лицом «я» говорящего субъекта, который, произнося эту форму, определяет ее как «не-лицо». В этом и заключается ее статус. Форма он... получает свою значимость в силу того факта, что она необходимо принадлежит речи, произносимой каким-либо «я».
Таким образом, я клянусь является формой с особой значимостью, поскольку она налагает на произносящего «я» реальность клятвы. Здесь высказывание есть' одновременно выполнение: «клясться» состоит именно в произнесении я клянусь, благодаря чему Ego «я» и оказывается связанным клятвой. Высказывание я клянусь есть сам акт принятия на себя обязательства, а не описание выполняемого мною акта. Говоря я обещаю, я гарантирую, я тем самым даю обещание и гарантии. Последствия (социальные, юридические и т. д.) моей клятвы или моего обещания начинаются с момента речи, содержащего я клянусь, я обещаю. Высказывание становится тождественным самому акту. Но это не заложено в значении глагола — именно «субъективность» речи делает такое отождествление возможным. Различие окажется заметным, если заменить я клянусь на он клянется. В то время как я клянусь является обязательством, он клянется — всего лишь описание того же рода, что и он бежит, он курит. Здесь, в условиях, характерных для данных выражений, видно, что один и тот же глагол приобретает различное значение в зависимости от того, принимает ли «субъект» выражаемое им действие как свое или же этот глагол находится вне «лица». Это
следствие того, что единовременный акт речи, содержащий глагол, утверждает действие одновременно с созданием субъекта действия. Таким образом, действие совершается через высказывание «имени» действия (чем и является «клясться»), и одновременно субъект становится субъектом через высказывание своего указателя (чем и является «я»).
Многие понятия в лингвистике, а возможно, и в психологии предстанут в ином свете, если восстановить их в рамках речи, которая есть язык, присваиваемый говорящим человеком, а также если определить их в ситуации двусторонней субъективности (intersubjectivite), которая только и делает возможной языковую коммуникацию.
ГЛАВА XXIV АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ЯЗЫК
Опыты философского истолкования языка вызывают обычно у лингвистов некоторую настороженность. Поскольку лингвист плохо осведомлен в области развития идей, он склонен думать, что проблемы, связанные с языком,— проблемы в первую очередь формальные — не могут привлечь внимание философа, и наоборот, что философа интересуют в языке главным образом такие явления, из которых лингвист не может извлечь никакой пользы. К этому, вероятно, примешивается известная робость перед общими идеями. Но прежде всего неприязнь лингвиста к тому, что он в целом характеризует как «метафизику», проистекает из все более ясного понимания формального своеобразия языковых явлений, которое философы осознают еще недостаточно.
С тем большим интересом познакомится лингвист с концепциями так называемой аналитической философии. Философы Оксфорда обращаются к анализу обычного языка в том виде, как на нем говорят, для обновления самых основ философии, стремясь освободить ее от абстракций и условностей. В Руайомоне состоялся коллоквиум, целью которого как раз и явилось изложение и обсуждение идей этой философской школы *. По словам одного из ее представителей, Оксфордская школа рассматривает естественные языки как уникальное явление, заслуживающее самого тщательного изучения по причинам, которые далее четко формулируются и которые стоит здесь привести:
«...Оксфордские философы почти без исключения приходят к философии после весьма серьезного изучения классической
 1 «La Philosophie analytique», Paris, Editions de Minuit, 1962, «Cahiers de Royaumont, Philosophie», N IV. К сожалению, в публикации нет никакого указания о дате коллоквиума.
1 «La Philosophie analytique», Paris, Editions de Minuit, 1962, «Cahiers de Royaumont, Philosophie», N IV. К сожалению, в публикации нет никакого указания о дате коллоквиума.
филологии. Их поэтому, естественно, интересуют слова, синтаксис, идиоматика. Они не хотели бы использовать анализ языка только для разрешения философских проблем, исследование языка представляет для них интерес само по себе. В связи с этим философы данной школы являются, вероятно, более подготовленными и более склонными к восприятию тонкостей языка, чем большинство философов.
В их глазах естественные языки (которые философы имеют обыкновение клеймить как неуклюжие и не подходящие для мышления) действительно содержат огромное богатство понятий и тончайших оттенков и выполняют многообразные функции, к которым философы обычно остаются слепы. Кроме того, поскольку естественные языки развивались в соответствии с потребностями тех, кто ими пользуется, философы Оксфордской школы считают "вероятным, что в них сохраняются только полезные понятия и минимально достаточные разграничения, что языки точны там, где нужна точность, и неопределенны там, где в ней нет необходимости. Все говорящие на том или ином языке, несомненно, имплицитно владеют этими понятиями и этими оттенками. Однако, по мнению представителей Оксфордской школы, философы, пытаясь описать эти понятия и эти разграничения, либо совсем их не понимают, либо упрощают до крайности. Во всяком случае, они занимались всем этим лишь поверхностно. Подлинные сокровища, которые таят в себе языки, остаются до сих пор сокрытыми.
Вот почему Оксфордская школа занялась очень тщательным, очень кропотливым изучением обычного языка, изучением, с помощью которого она надеется обнаружить таящиеся в глубине богатства и сделать явными такие языковые различия, о которых мы имеем лишь смутное представление, описывая разрозненные функции всевозможных языковых выражений. Этот метод трудно охарактеризовать в общих словах. Часто изучают два или три выражения, на первый взгляд синонимичных; оказывается, что их нельзя использовать недифференцированно; тогда нужно исследовать контексты употребления, с тем чтобы выяснить внутреннюю закономерность, обусловливающую их выбор»2.
Насколько все это имеет отношение к философии, предстоит решить философам других направлений. Но для лингвистов, по крайней мере тех, которые не отворачиваются от проблем значения^ h_jсчитают, что содержание классов выражения также относится к их компетенции, подобная программа представляет большой интерес. Впервые, если не считать более ранних работ Витгенштейна, имеющих иную ориентацию, философы обратились к глубокому анализу понятийных ресурсов естественного языка и сделали это с надлежащей объективностью, пытливостью и терпением, потому что — говорит нам тот же автор — «все или почти
 2 J. Urmson, цит. изд., стр. 19 и ел.
2 J. Urmson, цит. изд., стр. 19 и ел.
все великие философы требовали, чтобы исследовались слова, которыми мы пользуемся, и признавали,/что неправильно истолкованное слово может стать источником заблуждения. Однако, по мнению философов современной Оксфордской школы, никогда еще должным образом не осознавалась важность и сложность работы, с которой связано подобное предварительное исследование. Они посвящают статьи или даже целые книги вопросам, которые раньше решались в нескольких строчках» 3.
Мы совершенно естественно обращаемся поэтому к опубликованной в том же сборнике статье философа, считающегося «признанным метром данной дисциплины», к статье Дж.-Л. Остина под названием «Перформатив и констатив» («Performatif: constatif») 4. Перед нами образец подобного типа анализа, примененного к так называемым перформативным высказываниям в противопоставлении высказываниям декларативным или констативным. Перфор-мативное высказывание «имеет свою особую функцию, оно служит для осуществления действия. Произнести подобное высказывание — это и есть осуществить действие; действие, которое, может быть, вообще нельзя было бы осуществить, по крайней мере с такой же точностью, никаким другим способом. Вот несколько примеров:
Д даю этому судну имя «.Свободам. Прошу извинения. Желаю вам счастливо доехать. Советую вам это сделать.
...Сказать я обещаю (сделать), назвать, как принято выражаться, это перформативное действие и есть само действие обещания...» 5
Но можно ли безошибочно распознать подобное высказывание? Дж.-Л. Остин высказывает в этом сомнение и в конечном итоге отрицает существование сколько-нибудь надежных критериев: он считает «необоснованной и в значительной степени тщетной» надежду найти «какой-либо грамматический или лексический критерий, который позволил бы нам в каждом конкретном случае решить вопрос, является ли данное высказывание перформативным». Конечно, существуют «нормальные» формы, содержащие, как в приведенных выше примерах, глагол в первом лице единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения активного залога; или же высказывания в пассивном залоге и во втором или третьем лице настоящего времени изъявительного наклонения, как, например, les voyageurs sont pries d'emprunter la passerelle pour traverser les voies «для перехода через (железнодорожные) пути пассажиров просят пользоваться мостом». Однако, продолжает он, «нормальные» формы отнюдь не необходимы: «...Для
 3 Там же, стр. 21.
3 Там же, стр. 21.
* J.-L. Austin, цит. изд., стр. 271—281.
6 Там же, стр. 271.
того чтобы быть перформативным, высказывание вовсе не обязательно должно выступать в одной из так называемых нормальных форм... Высказывание закройте дверь, очевидно, столь же перфор-мативно, столь же является осуществлением действия, как и высказывание приказываю вам ее закрыть. Даже слово собака само по себе может иногда выступать как эксплицитный и формально правильный перформатив: с помощью этого маленького слова совершают то же действие, что и при помощи высказывания предупреждаю вас, что на вас собирается напасть собака, или же ставим в известность посторонних, что здесь злая собака. Для того чтобы сделать наше высказывание перформативным, и притом недвусмысленно, мы можем прибегнуть вместо эксплицитной формулировки к множеству более простых средств, например к интонации или жестам. Кроме того, и в первую очередь, сама обстановка, в которой произносятся слова, может достаточно определенно указывать, как их нужно понимать, например как описание или как предупреждение...» в
Основная часть статьи Остина — анализ «неудач» перформа-тивного высказывания и тех условий, при которых оно становится недействительным: либо когда тот, кто его осуществляет, не имеет на это права, либо когда он неискренен, либо когда он нарушает обещание. Рассматривая далее констативное высказывание или утверждение факта, автор замечает, что это понятие не является ни более ясным, ни лучше определенным, чем противостоящее ему понятие перформативного высказывания, и что оно к тому же подвержено аналогичным «неудачам». В целом, заключает он, «нам, по-видимому, нужна более общая теория таких речевых действий, и в свете этой теории вряд ли уцелеет наша антитеза констативных и перформативных высказываний» 7.
Мы привели из указанной статьи Остина только наиболее показательные для его рассуждения места и из аргументов упомянули лишь те, которые затрагивают собственно языковые факты. Мы не будем останавливаться ни на анализе логических «неудач», которые могут постигнуть тот или иной тип высказывания и сделать его неэффективным, ни на выводах, к которым на основании этого приходит Остин. Правильно ли, установив различие, сразу же делать его расплывчатым и ослаблять до того, что его существование становится проблематичным, как это делает Остин, это другой вопрос. Но остается фактом, что в данном случае в основу анализа положено явление языка, и это нам кажется тем более интересным, что мы сами, независимо от Остина, указали на своеобразную роль в языке этого типа высказывания. Описывая несколько лет назад субъективные формы языкового выражения 8,
 e J.-L. Austin, цит. изд., стр. 274.
e J.-L. Austin, цит. изд., стр. 274.
7 Там же, стр. 279.
8 «De la subjectivite dans le langage», «Journal de Psychologie», 1958, стр. 267
и ел.; см. также в настоящей книге гл. XXIII.
мы отметили в общих чертах различие между «я клянусь», которое представляет собой некоторое действие, и «он клянется», представляющим собой лишь сообщение. Термины «перформативный» и «констативный» еще не использовались », однако суть определения была в том же. Таким образом, теперь представляется случай развить и уточнить наши собственные взгляды, сопоставив их со взглядами Дж.-Л. Остина.
Прежде всего следует ограничить область исследования, указав, какие примеры высказываний мы считаем перформативными. Выбор примеров имеет в данном случае первостепенное значение, потому что, рассмотрев сначала очевидные примеры, мы из особенностей их реального употребления выведем, в чем состоит их функция, и в конечном итоге установим критерии определения перформативных высказываний. Мы отнюдь не уверены, что приведенные выше высказывания: желаю вам счастливо доехать; прошу извинения; советую вам это сделать — могут служить убедительной иллюстрацией понятия перформативного высказывания. Или по крайней мере в наши дни они не могут быть использованы как доказательство, настолько банальными стали они в общении. Они попали в разряд простых формул, и для того, чтобы они вновь обрели свою перформативную функцию, нужно восстановить их первоначальное значение. Таков, например, случай, когда я приношу свои извинения является публичным признанием вины, действием, которое улаживает ссору. Следы перформативного высказывания можно обнаружить в еще более стершихся формулах: спокойной ночи в своей полной форме Я вам желаю спокойной ночи* представляет собой перформативное высказывание магического характера, утратившее свою первоначальную торжественность и силу. Но разыскание перформативных высказываний, вышедших из употребления, с тем чтобы вдохнуть в них новую жизнь в составе устаревших ныне контекстов употребления, было бы особой задачей. Мы предпочитаем не производить эти раскопки, а выделить
 9 Одно замечание в связи с терминологией. Поскольку performance уже вошло в употребление, нетрудно будет ввести и performatif в том специальном значении, которое ему придается в данной работе. Мы, по существу, просто восстанавливаем во французском языке гнездо слов, которое ранее английский язык заимствовал из старофранцузского: англ. perform «совершать» восходит к старофранцузскому parformer. Что касается термина constatif, то он представляет собой регулярное образование от constat «констатация»: констативное высказывание и есть высказывание (выражение) некоторой констатации. Хотя этимологически constat восходит к латинской форме наст, времени constat «он постоянен», во французском языке оно рассматривается как существительное того же ряда, что resultat «результат», и связывается с гнездом древнего глагола conster «быть постоянным». Отношение conster : constat аналогично, таким образом, отношению resulter : resultat. И так же как от resultat, predicat образуются прилагательные resultatif, predicatif, от constat закономерно производится constatif.
9 Одно замечание в связи с терминологией. Поскольку performance уже вошло в употребление, нетрудно будет ввести и performatif в том специальном значении, которое ему придается в данной работе. Мы, по существу, просто восстанавливаем во французском языке гнездо слов, которое ранее английский язык заимствовал из старофранцузского: англ. perform «совершать» восходит к старофранцузскому parformer. Что касается термина constatif, то он представляет собой регулярное образование от constat «констатация»: констативное высказывание и есть высказывание (выражение) некоторой констатации. Хотя этимологически constat восходит к латинской форме наст, времени constat «он постоянен», во французском языке оно рассматривается как существительное того же ряда, что resultat «результат», и связывается с гнездом древнего глагола conster «быть постоянным». Отношение conster : constat аналогично, таким образом, отношению resulter : resultat. И так же как от resultat, predicat образуются прилагательные resultatif, predicatif, от constat закономерно производится constatif.
* В оригинале французский пример: bonjour «добрый день, здравствуйте», и Je vous souhaite le bon jour «Желаю вам доброго дня».— Прим. pea.
ГЛАВА XXVII СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ
Понятия семантики выступают все еще в столь неопределенном виде, что прежде чем рассматривать какой-либо ее аспект, необходимо было бы сначала установить ряд точных определений. Но такие определения в свою очередь потребовали бы обсуждения самих принципов категории значения в языке. Все это большая и трудная задача, о которой опубликованные до сих пор работы по семантике дают лишь слабое представление. Вот почему в этой статье, которая ограничивается темой, предложенной издателями настоящего сборника*, мы должны будем действовать скорее эмпирически и, оставляя в данный момент теоретический анализ в стороне, во всей конкретности рассмотрим некоторые типы проблем, с которыми сталкивается лингвист, когда он занимается реконструкцией.
Как общее положение, критерии реконструкции формы могут быть строгими, поскольку они вытекают из точных правил, отступление от которых допустимо лишь в том случае, если считают возможным заменить их еще более точными правилами. Весь аппарат фонетики и морфологии при этом в распоряжении лингвиста, когда требуется подкрепить или опровергнуть эти попытки. Но в области значения мы можем опираться лишь на соображения правдоподобия, основанные на «здравом смысле», на личной оценке лингвиста, на параллелях, которые он может указать. Проблема здесь всегда заключается в том, чтобы—на всех уровнях анализа, внутри диодного и того же языка или на различных этапах сравнительной реконструкции,— решить, могут ли две формально тождественные или сопоставимые морфемы отождествляться также и по своему значению, и если да, то каким образом.
 Речь идет о первой публикации этой статьи, см. Библиографию.— Прим.
Речь идет о первой публикации этой статьи, см. Библиографию.— Прим.
Это лишь один из примеров многих ложных трудностей, создаваемых в семантической реконструкции или из-за недостаточно четкого определения анализируемых слов, или из-за неправомерного переноса значений из семантической системы одного языка в систему другого.
5. Та же самая проблема могла бы быть поставлена и не в пределах одного исторически засвидетельствованного языка, а в синхронии какой-либо формальной реконструкции. Существует индоевропейский корень *dwei- «бояться», несомненно засвидетельствованный в греч. 8sog «боязнь» (*dweyos), перфекте 6£-8Foi-oc «я испугался» («я боюсь»), дающем настоящее время бе[бю «я боюсь», в авест. dva60a- «угроза, причина боязни», в настоящем времени в арм. erknc'im «я боюсь». Это *dwei- «бояться» материально тождественно основе числительного *dwei- «два». Сходство сохраняется и в исторически засвидетельствованных производных: гомеровское 8s-6Foi-a «я испугался» («я боюсь») кажется построенным на той же основе, что и прилагательное 8Foi-6g «двойной», а арм. erknc'im «я боюсь» напоминает erku «два» (*dwo); чередование в гомеровском перфекте 1 л. ед. ч. 6e-8Foi-a: 1 л. мн. ч. 6s-6Fi-(xev соответствует чередованию в числительном *dwei- (*dwoi-) : *dwi-. Короче говоря, все, как кажется, указывает на формальное тождество двух корней. Случайно ли это? Для того чтобы исключить случайность, нужно было бы доказать, что формальная тождественность подтверждается семантически. Но какую же смысловую связь, кроме шарады, можно представить себе между «бояться» и «два»? Тем не менее следует приглядеться к этому внимательнее и без анализа не отвергать возможности связи. В самом деле— и это существенно,— если мы можем рассматривать понятие «два» как «простое», у нас нет никакого права предполагать, что «простым» является и такое понятие, как «бояться». Ничто нас не убеждает а priori, что на древних этапах индоевропейского языка оно имело ту же самую семантическую структуру, что и в языке наших собственных рассуждений. Анализ же этой семантической структуры сам имеет условием изучение случаев употребления *dwei- «бояться» там, где мы можем наблюдать их лучше всего. Гомеровский греческий язык поддается подобному изучению и вознаграждает за него. Именно в тексте «Илиады», хотя и читанном и перечитанном тысячи раз, открывается еще не известное решение. Приведем отрывок: Xirv iiya лт]ц,а ... eiaopocovteg/ 8eio4fxevev 6oiyj 6s aa(oaii&v rj aitoAicrSai/ vrftq, (I, 229—231) буквально «предвидя большое несчастье, мы боимся (6si6ijj,ev): сомнительно (sv 8oiet), спасем ли мы или погубим корабли». Сам текст, ставя рядом в одной и той же фразе 6stfitjj,ev и sv 8oieT, ясно, как в школьном опыте, демонстрирует их связь. Выражение sv 8(F)ooeT 2 (sari) означает собственно:
 а Форма Soiel (дат.) восходит к *dwoyyai и соответствует дат. пад. ед. ч. жен. р. санскр. dvayyai (Wackernagel, «Nachr. Gott. Qes.», 1914, стр. 119).
а Форма Soiel (дат.) восходит к *dwoyyai и соответствует дат. пад. ед. ч. жен. р. санскр. dvayyai (Wackernagel, «Nachr. Gott. Qes.», 1914, стр. 119).
Ш
«вещь является двоякой, находится под сомнением, en doute, in du-bio», т. е. «elle est a redouter, ее следует опасаться». Отсюда вытекает, что *dwei- «бояться» означает «быть в двух, колебаться между двумя, сомневаться» (как глагол douter в старофранцузском языке = совр. франц. redouter «бояться, опасаться»). Ситуация, описанная в цитируемом тексте (чувство, испытываемое перед опасной альтернативой), восстанавливает искомую связь между числительным *dwei-и глаголом *dwei-. Отныне их можно отождествлять и по значению. Как дополнительные примеры можно использовать такие параллели, как лат. duo «два», dubius «сомнительный», in dubio esse «быть сомнительным, в сомнении» (букв, «быть в двух»), dubitare «сомневаться»; нем. zwei «два», zweifeln «сомневаться» и т. д. Таким образом, благодаря решающему контексту в индоевропейском языке вырисовывается такое понятие, как «бояться», со своими специфическими связями, которые может обнаружить только употребление и которые отличаются от связей, определяющих это понятие сегодня 3.
6. Необходимость прибегать к контекстам может показаться очевидным методическим принципом, настаивать на котором излишне. Но когда значение выявляют в разнообразии употреблений, то возникает настоятельная потребность убедиться, что случаи употребления позволяют не только сближать значения, кажущиеся различными, но и мотивировать различия. В реконструкции какого-либо семантического процесса должны учитываться и такие факторы, которые вызывают появление нового «вида» значения. Если этого не делается, перспектива оказывается искаженной субъективными оценками. В качестве примера приведем одно тривиальное сближение: лат. testa «черепок, глиняный сосуд, кувшин» и франц. tete «голова». Не перестают повторять, что переход от значения «черепок» к значению «голова» вызван якобы шутливым переносом значения. Такое объяснение находит место даже в новейших словарях 4. Пора бы рассмотреть факты, которые, впрочем, совершенно очевидны, но до сих пор просто не принимались во внимание. Проблема начинается с обозначения «головы» в классической латыни. Слово caput означает не только «голова», но и «лицо, персона», а также «капитал (финансовый)» и «столица»; оно входит в такие словосочетания, как caput amnis «исток (или устье) реки», caput con-iurationis «глава заговора», caput cenae «главное блюдо за обедом», caput libri «глава книги», caput est ut... «главное в том, чтобы...» и т. д. Число и широта этих вариантов ослабляли специфичность значения caput «голова», что вело к двум возможным решениям. Его или переосмысляли как *caput corporis «главная часть тела», что в свою очередь было бы двусмысленным и что так или иначе язык
 г Это доказательство не публиковалось. Однако на такой вывод я указывал в письме к Ю. Покорному (J. Pokorny), который упомянул о нем в своем «Слова-Ре» (Idg. Etym. Wb., 1949, стр. 228).
г Это доказательство не публиковалось. Однако на такой вывод я указывал в письме к Ю. Покорному (J. Pokorny), который упомянул о нем в своем «Слова-Ре» (Idg. Etym. Wb., 1949, стр. 228).
4 Ср. Bloch — Wart burg, Diet, etym., 2 (1950), стр. 602.
отверг; или же его заменяли другим словом. Это и произошло в самой латыни, когда обратились к слову testa, обозначающему всякую твердую скорлупу; первоначально оно применялось к тому, что мы называем еще «черепная коробка» (ср. англ. brainpan, нем. Hirnschale «черепная коробка»). Значение «череп» четко вырисовывается в поздней латыни 6 (Антонин Плацентин: vidi testam de homine «я увидел человеческий череп»), и уже там служит для обозначения головы: testa — caput vel vas fictile «голова или глиняный сосуд» (С. G. L., V, 526—539), откуда в старофранцузском teste «череп». Вероятно, что как анатомический термин testa было в употреблении у римских медиков задолго до того, как оно стало встречаться в текстах. В этом процессе, следовательно, нет ни какой-либо шутки, ни, в сущности, какой-либо особенности, привлекающей внимание. Можно даже считать, что случай testa : tete не по праву захватил место, которое он занимает в традиционном преподавании. Он представляет собой просто частный случай обновления, охватившего большинство названий частей тела. В этом процессе выявляются последовательные противопоставления: лат. caput : testa>ст.-франц. chef: teste> совр. франц. tete : crane «голова» : «череп». Но в свете этой исправленной перспективы рассуждения о testa как о юмористическом обозначении головы уже не находят основания. Истинный вопрос заключается скорее в том, чтобы изучить, как сосуществуют и отграничиваются соответственно caput и testa в поздней латыни, chef и teste в старофранцузском, приведшие к современному распределению. То, что такое исследование до сих пор не сделано, объясняется, по крайней мере частично, тем, что неточная оценка природы этого процесса затруднила его понимание.
7. В рамках сравнения в крупном масштабе, с привлечением многих языков, часто констатируют, что явно родственные формы отличаются друг от друга своеобразными разновидностями значения. Хотя семантическое единство гнезда слов неоспоримо, оно, как кажется, не может быть точно определено. Создается впечатление, что «первичное значение», сохраняемое в точности каким-либо одним языком, отклонилось в сторону в силу особых причин в каждом из других языков, в результате чего возникает многосоставный образ семантической ситуации. Когда формальные соответствия удовлетворительны, компаративисты обычно спешат ее исследовать. Если же они рассматривают отдельную судьбу одной из форм, то не принимают во внимание целого. Таков, например, случай с наименованием дороги: санскр. panthah, авест. panta, арм. hun, ст.-слав, п^ть, др.-прусск. pintis, греч. novxoc,, лат. pons. Архаичность флексии говорит об индоевропейской древности
термина. Нельзя сказать, чтобы значение препятствовало восстановлению общей формы. Тем не менее возникают достаточно серьезные расхождения, приводящие к одному вопросу. В индо-иранском, славянском и балтийском речь идет о «дороге». Но греч. ябутод означает «море», лат. pons — «мост», а арм. hun — «брод». Так как эти значения не эквивалентны и так как в диалектном отношении расхождения проявляются именно в греческом и латинском, то их обычно объясняют причинами, связанными со стилем или типом культуры. Считают, что в греческом «море» уподоблено «дороге» в силу поэтического способа изображения; в латинском переход от значения «дорога» к значению «мост» обусловлен культурой «тер-рамаре» и т. п. Эти гипотезы имеют основанием другую гипотезу, не признаваемую таковой, неосознанную и несформулированную: первичным значением является значение «дорога» — то ли потому что оно засвидетельствовано в таком древнем диалекте, как индоиранский, то ли из-за совпадения в индо-иранском, славянском и балтийском, или же по причине своей «простоты»,— а значения «море», «мост», «брод» рассматриваются как отклонения от этого первичного значения. Но случаи употребления, которыми мы располагаем в наиболее богатых примерами текстах на ведийском языке позволяют точнее определить основное понятие и более тонко описать его различные реализации. Прежде всего, в ведийском существует много других названий дороги, и все они так или иначе отличаются от этой последней; уапа- обозначает «дорогу» душ к их
местопребыванию (devayana, pitryana); marga- тропу диких
животных (mrga); adhvan — проложенную дорогу; rathya—путь колесниц. Для panthah характерно то, что это не просто «дорога» как пространство, которое нужно пройти из конца в конец. Понятие panthah включает в себя труд, неуверенность и опасность, у такой дороги есть непредвиденные повороты, она может меняться вместе с тем, кто ее проходит, и к тому же она не только земная: у птиц своя такая дорога, у рек — своя. Panthah, следовательно,— это дорога, которая не проложена заранее и по которой нет регулярного движения. Это скорее «переход», который пытаются проделать через неизвестную и часто враждебную местность, путь, открытый богами стремительному движению вод, переправа через естественные препятствия или дорога, которую выбирают птицы в небе,— короче говоря, дорога куда-то, куда не ходят просто, средство преодолеть опасное, полное непредвиденных случайностей пространство. Самым близким эквивалентом здесь и будет скорее «переход, преодоление», чем «дорога», и именно это значение объясняет разнообразие засвидетельствованных вариантов. Начиная с санскр. pathya и во всей истории индоевропейского мы имеем значение «дорога», но это значение не более «первично», чем другие; это лишь одна из

 6 Основные примеры с вытекающим из них правильным выводом были даны Е. Лёфстедтом (Е. Lofstedt, Syntactics, I, 1933, стр. 352). Но никто, насколько известно, не принял этот вывод во внимание,
6 Основные примеры с вытекающим из них правильным выводом были даны Е. Лёфстедтом (Е. Lofstedt, Syntactics, I, 1933, стр. 352). Но никто, насколько известно, не принял этот вывод во внимание,
6 Полезное собрание основных ведийских примеров составил П. Тиме: P. Thieme, Der Fremdling im Rigveda, Leipzig, 1938, стр. 110—117.
реализаций общего значения, определение которого дано здесь. В других языках эти реализации представлены иначе. В греческом «переход, переправа» — это «переход через пролив» (ср. 'ЕКХ-ца-Jtovrog), затем, в более широком смысле, через морское пространство, служащее «проходом» между двумя континентами; в армянском — это «переход вброд»; а в латинском pons станет обозначением «переправы» через поток или через впадину, т. е. «мост». Мы не в состоянии вскрыть точные причины, связанные с географией или культурой, всех этих частных, причем еще доисторических, разновидностей. Можно, однако, заметить, что «дорога», «пролив», «брод», «мост» являются как бы вариантами одного значения, которое они позволяют реконструировать, и что проблема касается не семантической стороны слова в том или ином отдельном языке, а каждого из этих слов и в целом всей группы, членами которой они являются.
8. Когда при сравнении слов какой-либо единой группы обнаруживаются изменения значения, распределяющиеся по четко различающимся группам, часто бывает необходимо указать, в каком направлении изменилось значение и какое из установленных значений породило другое. Тогда приходится ссылаться на какой-либо достаточно общий и постоянный критерий, чтобы не быть вынужденным каждый раз прибегать к доказательствам заново. Одним из наиболее обычных критериев служит здесь «конкретный» или «абстрактный» характер значения, причем предполагается, что развитие идет от «конкретного» к «абстрактному». Излишне говорить о двусмысленности этих терминов, унаследованных от устаревшей философии. Дело только в том, чтобы выяснить, могут ли они, даже будучи принятыми без возражений, служить одним из принципов семантической реконструкции. Лучшим средством их проверки будет анализ того, как они — неосознанно — применялись при исследовании какой-либо одной достаточно важной лексической проблемы. Мы имеем в виду любопытный случай этимологического гнезда, которое четко определяется в своих формальных связях, но значения которого распределяются между понятиями о совершенно материальных вещах, с одной стороны, и о моральных и социальных категориях, с другой.
Речь идет о термине, который соответствует обычно понятию «•верность, преданность» (trust) и который у германских народов в средние века имел большое социальное и культурное значение (ср. trust, true, truce и т. д.). Единство значения в германских формах видно из их простого перечисления. В готском языке имеется trauan «nenoiQivai, быть доверчивым», ga-trauan «лкттепестЭси, доверяться», trauains «яежкб^снд, доверие», traustei (по генитиву trausteis) «бюб^хт), соглашение, союз»; кроме того, др.-исл. trfla, алем. trflon, др.-в.-нем. tru(w)gn «верить», производные от *trfl-wo — в др.-исл. tru «уважение», алем. truwa «религиозное почитание, верование», др.-исл. trur «верный», в полной ступени алем.
treowian, др.-в. нем. triuwen «доверяться», производное *drou-sto-
дает др.-исл. traustr «надежный» и абстрактное *draustya в гот,
trausti, др.-исл. traust «доверие», др.-в.-нем. trost «факт высказы
вания доверия, ободрения»; прилагательное *dreuwo в гот.
triggws, др.-исл. tryggr, др.-в.-нем. gi-triuwi «верный» и в существительном алем. treow жен. р., др.-в.-нем. triuwa «верность». Но за пределами германских языков родственные термины несут совсем отличное значение, которое, впрочем, частично представлено и в германских. Они обозначают «дерево», иногда специально «дуб», иногда «лес» вообще: греч. бр5д «дуб», санскр. daru, dru-, авест. dru- «дерево, лес», drvaeni- «деревянный», гот. triu «лес, дерево» (и соответствующие формы, англ. tree и т. д.), уэльск. derw(MH.4.) «дубы», ст.-слав. др"Бво, русск. дерево, лит. derva «сосновый лес».
Как упорядочить это распределение значений — «дерево», с одной стороны, и «верность», с другой, — в системе форм, которые в других отношениях весьма тесно между собою связаны? Все это этимологическое семейство было изучено Г. Остгофом (Н. О s t-h о f f) в большой главе его «Etymologica Parerga» (1901) под знаменательным заголовком «Eiche und Treue» («Дуб и верность»). В основу всего морфологического и семантического развития он кладет индоевропейское слово, представленное греческим брод «дуб», откуда, по его мнению, происходят моральные значения в Treue и truste. Гот. прилагательное triggws, др.-в.-нем. gitriuwi «getreu, верный» означает собственно, по Остгофу, «крепкий, как дуб». Согласно этой точке зрения, германское мышление представляло дуб символом прочности и надежности, и образ дуба повлиял на всю совокупность представлений о верности. Вот уже более полувека теория Остгофа считается обоснованной; этимологические словари ссылаются на нее как на нечто вполне доказанное 7. В таком случае мы имели бы здесь типичный процесс: конкретное обозначение развивается в нравственное понятие, общественная моральная категория имеет началом символ, восходящий к образу растения.
Однако при первом же внимательном рассмотрении в этом теоретическом построении обнаруживаются просчеты. Делая название дуба отправной точкой всей деривации, Остгоф, судя по всему, в неявной форме допускает — и это существенный для его теории аргумент,— что значение «дуб» является общеиндоевропейским. Однако все говорит против этого. Только в греческом dru- означает «дуб». В других языках значение этого слова — «дерево, лес» вообще; хетт, taru, индо-иран. daru-, dru-, гот. triuHT. д., ст.-слав, дръва (мн. ч.). В самом греческом языке бори служит обозначением дерева (ц, 167), дерева корабля (0,410), древка копья и копья. Более того, значение «дуб», которое 6pt5g имеет в классическом языке, вторичное и относительно позднее; еще древний комментатор
 г Ср. Walde — Pokorny, I, стр. 804; Рокоту, цит. соч., стр. 214.
г Ср. Walde — Pokorny, I, стр. 804; Рокоту, цит. соч., стр. 214.
(к Л, 86) знал, что «древние всякое дерево называли 6p5g» (5pov ёхаЛогл' o't лаХаю... nav 8£v6pov). Родовой термин для «дерева» стал обозначать самое важное дерево, «дуб», по-видимому, под воздействием верований, связанных с пророческими дубами Додоны. Впрочем, общее название дерева, греч. *dendrewon, объясняется разорванным удвоением с диссимиляцией *der-drew-on (ср. лат. cancer от *kar-kro-) и опирается на *drew- в значении «дерево». Таким образом, все подтверждает, что *dreu- означало «дерево вообще» и что значение «дуб» возникло только в греческом языке. Это ограничение имеет свою причину: дуб растет лишь в одной части индоевропейского ареала, в средней зоне Европы, идущей от Галлии к востоку не далее северной Греции; и действительно, индоиранского названия «дуб» не существует. Теория Остгофа оказывается уязвимой в самом своем основании: значение, которое он считал первоначальным, определяется как позднейшее и с ограниченным ареалом распространения. Вследствие этого отношение, которое он устанавливал между понятиями, лишается своей главной опоры.
Необходимо пойти дальше и вскрыть методический порок аргументации в целом. Морфологические связи и распределение форм не обнаруживают между словами, обозначающими «дерево», и словами со значением «верность» отношений деривации вторых от первых. Они распределяются одинаковым образом в каждом языке и, как те, так и другие, восходят к одному и тому же значению, которое можно реконструировать с помощью всех засвидетельствованных форм. В качестве формальной базы следует принять I *der-w-II *dr-eu- со значением «быть твердым, прочным, здоровым». Ср. санскр. dhruva- (вместо *druva-, контаминация с dhar-), авест. drva, др.-перс, duruva- «крепкий, здоровый», греч. 8poFov4t7%t>p6v (Гесиод), ст.-слав. *su-dorwa > съдравъ,. русск. здоров, ирл. derb (*derwo-) «уверенный», др.-прусск. druwis «вера» (< «безопасность»), лит. drutas «крепкий, мощный» и т. д. Здесь естественно находят свое место германские члены этой группы, такие, как гот. trauan, trausti и т. д., которые происходят непосредственно от них и которые закрепили в германском терминологию «доверия, веры». Обозначение «дерева» связано с этим общим значением. В противоположность Остгофу мы рассматриваем *derwo-, *drwo-, *dreu-«дерево» лишь как частный случай общего значения «крепкий, прочный». И не «первобытное» название дуба создало понятие прочности, а, наоборот, посредством обозначения прочности дали наименование дереву вообще и дубу в частности: греч. 6p5g (уэльск. der-wen) буквально значит «прочный, крепкий». Мы имеем параллель этому в иранских языках, где «дерево» называется draxt (ср.-персидский), diraxt (совр. персидский), что восходит к авест. draxta-, прилагательному от dfang- «держаться стойко». Романтическая концепция дуба как прообраза рерцости уступает место менее оригинальному, но, по-видимому, более точному представлению: в наз-
вании дерева *dru- нет ничего «первобытного», это качественное определение, которое, будучи приложено к своему объекту,стало его обозначением и оказалось отделенным от своего семантического гнезда; отсюда сосуществование двух, ставших различными, морфем, таких, как tree «дерево» и true «верный, правильный» в английском языке. Здесь видно, насколько обманчив критерий «конкретного» и «абстрактного» в применении к реконструкции и насколько важно и необходимо различать значение и обозначение (денотат, designation).
9. Различие значений, а вместе с тем и трудности реконструкции достигают еще большей степени, когда формы распределяются по разным и грамматически несовместимым классам. В рассмотренных выше случаях мы имели дело с формами, статус которых по крайней мере не исключал прямого сравнения и лишь значение давало повод для обсуждения. Но как следует поступать, когда формальному сходству противоречат функциональные различия? Нетрудно соотнести глагольные и именные формы, разделяющиеся на основе деривации. Но можно ли объединять в одно семантическое гнездо формы, не имеющие соотносительных синтаксических употреблений, одни из которых являются частицами, другие — глагольными и именными формами? Такую проблему тем не менее ставит сосуществование разных рядов форм, группирующихся во-вокруг индоевропейского термина *pot(i)-, обозначающего главу, начальника. Пытаясь ее разрешить, мы ответим на методический вопрос, встающий в связи с этим случаем.
И.-е. *pot(i)- предстает в несвязанном виде в санскр. pati-«глава, начальник», а также «супруг», греч. ябстьд «супруг»; в сложных словах — в санскр. jas-pati «родоначальник» (очень продуктивный индо-иранский тип), греч. 8ео-л6хгс„ лат. hospes, compos, лит. viespats «господин», гот. brup-fajjs «bridegroom, жених, новобрачный» и т. д. К ним легко можно присоединить лат. potis «мощь» и все производные — potior «овладевать», possum «мочь», possideo «владеть». Единообразно распределенное значение определяется как «хозяин, начальник» с развитием в латинском и италийских в сторону «мочь, мощь, власть». Но существует омофония между этим *pet-/*pot(i)- «начальник» и частицей *pet-/pot(i)- со значением отождествления, «сам»: хетт, -pet, авест. -paiti, лат. -pte, лит. -pat. He всегда оба омофона сосуществуют в одном языке; хеттский не имеет формы *pot(i)- «начальник», а в греческом и в санскрите, насколько известно, нет частицы. Но в большинстве языков имеется и то и другое, однако так, что между ними не обнаруживается видимой связи. Реконструкция семантического отношения должна необходимо начинаться с выбора основы для дальнейшего анализа: какой из двух классов взять за отправную точку? Этот вопрос решался противоположными способами. Мейе считал, что нужно исходить из *poti- «начальник» и что значение лит. pats «(он) сам» — результат его употребления в качестве приложения (аппозиции),
которое он не объяснял 8 . Эта гипотеза вряд ли совместима с очевидной древностью частицы. Более вероятным, но не минующим своих трудностей, является мнение X. Педерсена, который выводит значение «хозяин» из значения «сам», приводя не точные доказательства, а параллели; он сопоставляет некоторые употребления «сам» в значении «хозяин дома», таковы греч. aoxog, лат. ipse, датск. диал. пап selv «хозяин», hun selv «хозяйка дома», русск. «сам», «сама», т. е. «барин» и «барыня» 9 . Но все эти примеры могут доказать лишь то, что в особой ситуации, в частности в кругу домочадцев и слуг, достаточно местоимения, чтобы назвать лицо, пользующееся властью. Так выражаются при случае рабы в греческой или латинской комедии, но отнюдь не свободные люди, говорящие на торжественном языке культа или поэзии. Употребление ipse для обозначения хозяина дома — это простой факт «речи» («parole»), оно никогда не достигало уровня «языка» («langue»). К тому же оно встречается лишь от случая к случаю и слишком недавнее, чтобы объяснить такие явно архаические и «высокие» формы, как пары санскр. pati/patni, греч. ябогд/лбтдна. Нельзя также обнаружить, чтобы это употребление аотбд, ipse и т. д. в обиходе слуг когда-либо порождало лексическое наименование «хозяина» как такового или какое-нибудь производное на основе этого значения. Короче говоря, эти параллели слишком ограничены своей сферой и одновременно слишком «домашнего» стиля, чтобы можно было видеть в них нечто другое, кроме «ситуативных вариантов». Местоимения ipse, aotog могут окказионально обозначать хозяина, но они никогда не значили «хозяин» вне одного определенного контекста. Они не помогают обнаружить связь между двумя формами *pot(i)-.
Заслуживает внимания способ, каким соответственно распределяются формы каждого ряда. Отметим, что хеттский диалект, архаический во многих отношениях, имеет только частицу -pet «сам» (арай-pet «он сам, именно он»), в нем нет следов такой именной формы, как *pot(i)-. Это заставляет предположить, что именная форма окажется вторичной. С другой стороны, именные формы группы «хозяин» не связываются ни с одним глагольным корнем; когда есть глагольная форма, такая, как санскр. patyate, лат. potior, она явно отыменного происхождения. Следовательно, перед нами лексическое гнездо, являющееся полностью и исключительно именным. Таким образом, рассматриваемые формы представляют собощ с одной стороны, частицу, с другой — именную форму.
Прежде всего надо уточнить функцию частицы -pet. В индоевропейских языках имеется два разных выражения отождествления, которые можно проиллюстрировать примером из готского языка, обладающего одновременно формами sama и silba: через sama (ср.
 8 A. Meillet, «Worter und Sachen», 12 (1929), стр. 18. 8 H. Pedersen, «Archiv Orientalni», 7, стр. 80 и ел., «Hittitisch», 1938, стр. 77—78. Ср. уже у Schrader —Nehring, Reallexikon, I, стр. 216.
8 A. Meillet, «Worter und Sachen», 12 (1929), стр. 18. 8 H. Pedersen, «Archiv Orientalni», 7, стр. 80 и ел., «Hittitisch», 1938, стр. 77—78. Ср. уже у Schrader —Nehring, Reallexikon, I, стр. 216.
англ. same) выражается отождествление как постоянство предмета, опознаваемого в разных аспектах и в разное время; через silba (ср. англ. self) тождество как бы противопоставляется наличию другого — «он сам», исключая всякого другого. Заметим попутно, что значение подчеркивания и контраста, присущее категории «self», ведет к тому, что эта категория сигнализируется либо ссылкой на телесное существо (откуда индо-иран. tanu-; хетт, tuekka-; др.-в.-нем. leip, франц. en personne «лично», en chair et en os «самолично, во плоти», букв, «в мясе и костях», и т. д.), либо через такое эмфатическое обозначение, как превосходная степень; откуда нем. selbst, греч. аотбтатод, лат. ipsissimus (ср. met-ipsimus > ст.-франц. те-disme, франц. тёте «сам»), слав, сам(ый) как превосходная степень и т. д., которые берутся в качестве «образцовых» олицетворений понятия. Очевидно, именно понятию «self» отвечает функция энклитики хетт, -pat, лит. -pat, употребление которой унаследовано: хетт, apais-pat «как раз тот, он сам», лит. ten-pat «там же», а§ pats «я сам» со значением превосходной степени, развившимся в литовском языке (pats pirmasis «самый первый»).
В этой функции частица присоединяется к местоимению, и тогда
возникает избирательная (селективная) связь, которая ясно про
является в иранских языках, где -pati образует единое целое с воз
вратным местоимением, авест. х^аё-раШ- «сам» и особенно произ
водное x^agpaieya-, др.-перс. (h)uvaipaSiya «его собственный», в
предикативной конструкции др.-перс, (h)uvaipaeiyamkar-«proprium
facere, присваивать», по отношению к любому лицу, но всегда лицу.
Из этого употребления можно вывести объяснение именного *pet/pot,
номинализованного суффиксом -i в *poti-, которое будет обозначать
собственно лицо, то есть «ipse» с каким-нибудь определением. В са
мом деле, настоящее время, производное от pati-, санскр. patya-,
в конструкции с дативом сохраняет значение «быть свойственным
чему-либо»: Ssutis cSrur madaya patyate букв, «приятное питье свой
ственно опьянению» (R. V. VIII, 1,26) и авест. paiGya-- означает
«иметь на правах собственности» (а не «быть хозяином чего-либо»). Это определение значения *poti- как «ipse, само это существо лично» обусловлено тем детерминативом, который действительно всегда сопровождает *poti- в самых древних выражениях; *dems poti (авест. dang pati-, вед. dam-pati, греч. беа-яот^е — это буквально «тот, кто есть ipse в доме, само существо семьи», тот, кто олицетворяет собой эту социальную ячейку. Это то самое, что мы передаем в терминах нашей собственной культуры в виде обычного перевода «господин дома». Отсюда происходят другие сложные слова, последовательно распределенные территориально: санскр. vis-pati-, авест. vis-paiti-, лит. vieS-pats «тот, кто есть ipse в *wik-, то есть глава клана», и т. д.
Факты дают два указания, которыми мы можем подкрепить данную здесь интерпретацию. Значение лат. hospes (*ghos-pet-), обозначающего как того, кто пользуется гостеприимством, так и того,
кто его предоставляет, объясняется Скорее как «ipse», субъект, чем как «хозяин» взаимного долга гостеприимства, обозначаемого через *ghos(ti)-, в котором оба члена выступают как равные партнеры. Кроме того, теперь становится возможным связать ряд сложных слов с *-poti и одно образование, имеющее то же значение, но другую структуру, которое принадлежит западному индоевропейскому ареалу. Соссюр некогда привлек внимание к любопытному образованию: лат. dominus, tribunus, гот. piudans «король», kindins «7)Y8^(ov», др.-исл. drottenn «князь», которые представляют собой вторичные производные на *-по- от базовых слов для обозначения главы, главного лица; dominus (*domo-no-) — это глава дома (domus), как piudans (*teuta-no) глава £>iuda 10. Если мы сравним ряд производных на -по- и ряд сложных слов с -poti, то увидим, что они параллельны и могут содержать общие элементы: *domo-по- и *dem(s) poti-; *genti-no- (гот. kindins) и *gentu-poti- (авест. zantu-pati); лат. *vicinus соответствовал бы санскр. vis-pati. Это соотношение между терминами на -по- западного ареала и сложными словами, распространенными особенно в индо-иранском, наводит на мысль, что они выражают одно и то же понятие. Однако производное на -по- едва ли может само по себе нести специфическое значение «глава, хозяин»; *domo-no-, *genti-no- должны просто означать «тот, кто из domus, дома; тот, кто из gens, рода», то есть действительно того, кто олицетворяет род и некоторым образом воплощает его в своем лице, действует от его имени и имеет власть над ним. Таково точное значение, которое *poti несет само по себе: представительное лицо, ipse, облеченное властью в социальной ячейке, то, что мы называем «господин, хозяин».
Если это так, то основы семантической истории *poti «хозяин» заложены в синтагмах или в сложных словах, в которых *poti является вторым членом. Это подтверждается фактами; санскр. pati-«господин, хозяин» в несвязанном состоянии извлечено из сложных слов, в которых оно приобрело свое значение. Но как объяснить в таком случае частное значение слова, а именно значение «супруг», засвидетельствованное санскр. pati-, греч. jtoaig. Только ли это муж как «господин» своей жены? Такой ответ соответствовал бы упрощенной концепции индоевропейского брака, но противоречил бы форме женского рода patnl, potnia. Это обозначение, несомненно, связано с древними обычаями, косвенное свидетельство о которых нам дает одно из сложных слов, гот. brup-faps. На отношение brup-faps «vu^tpiog, BrSutigam» [«жених, новобрачный»] к brups «wfxqrn» [«невеста, новобрачная»] проливают свет современные формы Brati-tigam, bridegroom (вместо *-goom), алем. bryd-guma, где -fabs было заменено наименованием мужчины (-guma) для указания на «мужчину новобрачной», то есть «мужского партнера bruti «новобрачной». Здесь необходимо указать на очень древние формулы, в
 F. de Saussure, Cours de linguistique generate, 4-е изд., 1949, стр. 309.
F. de Saussure, Cours de linguistique generate, 4-е изд., 1949, стр. 309.
которых будущие супруги представляются стоящими друг против друга, как партнеры союза: в Риме ubi tu Gaius, ego Gaia «где ты Гай — там я Гая»; в Индии amo 'ham asmi sa tvam «я такой-то, ты такая-то» п. Так же и в настоящем случае, pati (муж. р.) и patnl (жен. p.), ix&aig (муж. р.) и лбтляа (=p6ina) (жен. р.) — это, в сущности, ipse и ipsa — действующие лица обязательства, которое их соединяет. Вот почему мужской партнер к bruti обозначен как *bhnlti-poti-, где *-poti имеет ту же функцию, что и -pet- в лат. hospes.
При этой реконструкции в качестве решающего фактора в семантической истории обеих морфем, подлежащих отождествлению, мы наблюдаем номинализацию частицы pet/pot в -poti и употребление частицы с местоимением для подчеркивания «самости» (ip-seite). Развитие синтагм (*dems poti) и сложных слов связано с социальной значимостью созданных таким образом обозначений в специфической структуре индоевропейского общества. Человек, определяемый названием с *-poti, был вначале не главой или хозяином, а представителем определенной социальной ячейки.
Факты латинского языка заслуживают того, чтобы их рассмотреть в совокупности, потому что при всем разнообразии значений и синтаксических функций они представляют собой как бы резюме всего процесса. Значение, приобретенное в латинском языке группой posse, potens, potentia, potestas, и преобладание понятия «мочь» в современных производных затемнили в глазах филологов и лингвистов внутренние связи всей этой семантической группы и, в частности, те условия, при которых это понятие «мочь» сформировалось. В исходной точке мы находим наследие энклитической частицы (mea)pte, которая служит для подчеркивания того, что есть в собственном владении, «самость»: suopte pro suo ipsius, ut meopte meo ipsius, tuopte tuo ipsius (P. Festus, 409, 1). Далее, заметим, что utpote означает не «как возможно», а «как свойственно данным обстоятельствам, как естественно», и что значение наречия сравнительной степени potius «скорее всего, преимущественно» и превосходной степени potissimum «особенно» заставляет сделать вывод о существовании pote «как раз, точно, собственно», как вышеупомянутое хетт, -pat12. Тем самым в именные формы вводится значение «который находится на правах собственности», подчеркивающее обладание как «свойство». В самом деле, compos означает буквально «который вступил во владение (чем-либо)» не только в compos sui (или mentis, animi) «находящийся в здравом уме, в полном сознании», или, как мы говорим, «владеющий собой», но также в compos culpae (PI. True, 835) «кто имеет вину, кто отождествляется с нею, кто берет на себя ответственность за нее», в compos voti «тот, чье
 11 Ср. «Language», XXIX (1953), стр. 259.
11 Ср. «Language», XXIX (1953), стр. 259.
12 Было бы, конечно, заманчиво найти эту частицу в самой форме лат. ipse.
Но сближение -pse с -pote, -pte наталкивается на непреодолимую, на наш взгляд,
фонетическую трудность.
желание исполнилось, кто сделал его своим (= кто видит его осуществленным)» в явной связи со значением авестийского сложного слова xva6pai9ya- «proprius, собственный». Таково, несомненно, и значение poti- в possideo «обладать», букв, «занимать как свое собственное». От ipse к производному proprius вырисовывается отношение, которое закрепит значение «обладания». Архаическая форма настоящего времени potio означает proprium facere «делать из чего-либо собственное имущество кого-либо»: eum nunc potivit pater servitutis букв, «теперь отец сделал из него собственность рабства (отдал его во власть рабства)» (Pi., Amph., 177). К этому добавляется тот решающий факт, что potis тяготеет к предикативной конструкции; таким образом, можно видеть, как potis sum facere букв, «я сам в состоянии сделать, ipse sum qui faciam» становится «я могу сделать».
Итак, сформировалось понятие «мочь». Оно представляет «мочь» как способность, зависящую от отличительного свойства лица, человека, от его «самости», а не от человеческой природы или от благоприятного стечения обстоятельств. Таков последний этап процесса, который ведет от частицы со значением отождествления к созданию особой, важнейшей и продуктивной группы имен существительных, и который как индоевропейские, так и латинские словоупотребления позволяют восстановить с известной степенью вероятности.
определенного «значения»; каким образом одно значение, считавшееся отличным от другого, может оказаться лишь одним из его вариантов; как вариант значения «семантизуется» в свою очередь и становится самостоятельной единицей,— все это такие проблемы, которые легко можно было бы изложить в терминах фонологии. Но семантические категории, гораздо более сложные, с большим трудом поддающиеся объективации и особенно формализации, включенные в экстралингвистическую «субстанцию», требуют прежде всего описания употреблений, которые только и позволяют определить данное значение. Такое описание в свою очередь требует освободиться от ложных «очевидных истин», от ссылок на «универсальные» семантические категории, от смешения данных, подлежащих исследованию, с данными языка исследователя. Может быть, именно в работе по реконструкции эти условия жестче всего.
В приведенных выше образцах анализа, целью которых было главным образом послужить иллюстрацией нескольких простых правил метода, мы использовали разнообразные примеры. Рассматриваемые проблемы имеют разную сложность и лежат на разных уровнях, они принадлежат или к синхронии одного языка, или развертываются в глубокой исторической и доисторической перспективе. Здесь они были отобраны по их типичности, а также потому, что, как нам кажется, все выбранные проблемы можно было разрешить. Метод, который демонстрируется на разрешении трудностей реальных проблем, можно по крайней мере оценить по достигаемым с его помощью результатам, в то время как рассуждая на основе уже твердо установленного, действуют без риска, но зато и доказывают лишь общеизвестное.
Во всех рассмотренных выше случаях присутствует проблема отношения, и именно отношениями определяется всякая семантическая структура. Осведомленный читатель, несомненно, увидит в методе, которого мы придерживались здесь, те же устремления, которые проявляются и в других областях современной лингвистики, и даже известные аналогии в объекте исследования. Центром всего вышеизложенного является один и тот же вопрос — вопрос о нахождении различительных признаков в противопоставлении вариантов; как определить дистрибуцию и комбинаторные способности
ГЛАВА XXVIII
СЛОВАРЬ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ (ИЗВЛЕЧЕНИЯ)
I. ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ
Термином «индоевропейский» обозначается семья языков, происходящих из одного общего языка и последовательно вычленявшихся из него путем отделения.… Удивительно, что, хотя этапы этих миграций и обособлений остаются нам… семье мы находим эталон межъязыковых соответствий, служащих для определения семьи языков и позволяющих восстанавливать…Бенвенист
Здесь делается также попытка показать двойственный характер описываемых явлений: с одной стороны, сложные переплетения, возникающие в ходе… Природа исследования диктует способ доказательства. Читатель не найдет здесь… II. «СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК»Quot; Збб
Таким образом, понятие «свобода» формируется на основе со-циализованного понятия «роста» — роста определенной социальной категории людей, развития… Теперь мы можем вернуться к liber и выявить связь между различными понятиями.… Обнажаются социальные истоки понятия «свободный». Первоначальным оказывается не значение «освобожденный, избавленный…ПОНЯТИЕ «РИТМ» В ЕГО ЯЗЫКОВОМ ВЫРАЖЕНИИ
Каково же происхождение этого термина и его точное значение в самом греческом языке, где ритм обозначается словом puGu.og? Все словари одинаково… С морфологической точки зрения не представляет никаких трудностей связать… Чтобы восстановить историю этого слова, которая была гораздо менее простой, но зато тем более поучительна, следует…БИБЛИОГРАФИЯ РАБОТ Э. БЕНВЕНИСТА
БИБЛИОГРАФИЯ РАБОТЭ. БЕНВЕНИСТА
книги 1) Essai de grammaire sogdienne, P., 1929. 2) The Persian Religion according to the Chief Greek Texts, 1929.Дополнение
181)Mutations of linguistic categories. «Directions in Historical Linguistics», ed. by W. P. Lehman and Y. Malkiel, Univ. of Texas Press, Austin,… 182) *L'appareil formel de l'enonciation, « Langages » (Paris), № 17, Mars… 183)Structure de la langue et structure de la societe, « Linguaggi nella societa e tecnica », Milano, 1970.КОММЕНТАРИЙ
Комментарий имеет целью ввести работы Э. Бенвениста в контекст современной советской лингвистики и особенно показать точки близости и схождений… Несколько общих замечаний о терминологии. Точкой отсчета при описании любой… Важная группа терминов, более или менее распространенных, но у Бенвениста особым образом упорядоченных, организуется…ЛИНГВИСТИКА НА ПУТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ ЛИНГВИСТИКИ (БИБЛИОГРАФИЯ,№ 36) Этот обзор, рассчитанный на широкого читателя, может служить хорошим введением… К стр. 22. Наша лингвистическая терминология...— см. гл. VIII и комм.ГЛАВА III
СОССЮР ПОЛВЕКА СПУСТЯ (БИБЛИОГРАФИЯ, № 37)
Работа содержит глубокую и в целом объективную оценку деятельности Ф. де Соссюра (1857—1913). И все же следует иметь в виду два обстоятельства. Во-первых,швейцарец по происхождению.Соссюр писал научные труды и читал лекции по-французски; основные периоды его деятельности приходятся на Париж (1881— 1891) и Женеву (1891—1913), это обстоятельство и, самое главное, то, что идеи Соссюра тесно связаны с общим развитием французской философии и социологии от Декарта до Дюркгейма, обусловили его огромное посмертное влияние во франкоязычных странах. Идеи Соссюра способствовали возникновению Женевской школы и — благодаря деятельности А. Мейе — французской социологической школы в лингвистике. В других странах влияние Соссюра не могло быть и не было столь значительным. Во-вторых, влияние Соссюра преимущественно сказалось в разработке оснований современной лингвистики, то есть в логическом плане развития идей. Только в этом, буквальном, смысле Соссюр может быть назван «основоположником». В историческом же плане Соссюр не оказал существенного влияния на становление ни русской, ни американской лингвистики первой половины нашего века, ни даже Копенгагенской школы (известно высказывание Л. Ельмслева о том, что он воспользовался основаниями Соссюра, когда его собственные взгляды уже во многом сложились). В этих двух отношениях — географическом и историческом—роль Соссюра в изложении Бенвениста, пожалуй, преувеличена. Но воздействие идей Соссюра на мировую лингвистику наших Дней, бесспорно, велико.
К стр. 47. В настоящее время имеется полное критическое издание соссю-ровского «Курса общей лингвистики» (тираж 880 экз.): F. de S a u s s и г е, Cours de linguistique generale. Edition critique par Rudolf Engler, fasc. 1, 2, 1967; fasc. 3, 1968, Otto Harrassowitz, Wiesbaden. См. об этом издании: Н. А. С л ю с а р е в а, К выходу в свет критического издания «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра, ФН, 4, 1971; F. d e Saussure, Cours de linguistique generale. Edition critique preparee par Tullio de Mauro, P., 1972 (с обширным комм.); Bibliographia Saussuri-ana 1870—1970, by E. F. K- Koerner, Indiana Univ. Press, 1972. Критический обзор учения см.: Н. А. Слюсарева, Критический анализ проблем внутренней лингвистики в концепции Ф. де Соссюра, а. д. дисс, М., 1970; Р. А. Б у д а г о в, Ф. де Соссюр и современное языкознание (К 50-летию «Курса общей лингвистики»), «Рус. яз. в школе», № 3, 1966; A. J. G г е i m a s, L'actualite du saussurisme, «Le franfais moderne», t. 24, 1956.
К стр. 49. Если есть история, то это история чего-то... Необходима система определений.— Бенвенист утверждает здесь, по существу, следующее положение: определение факта должно предшествовать научному постижению факта во времени, следовательно, и в истории. Это положение может быть названо одним из «постулатов» Соссюра и вместе с тем лингвистического структурализма. Однако в действительности оно не самоочевидно и не является единственно возможным основанием научного метода. Возможно и прямо противоположное основание, при котором первичной данностью считается языковой факт, взятый во времени (и соответственно язык как изменение, язык в истории). Так, акад. Ф. Ф. Фортунатов, закладывая (как и Соссюр) основы формального метода в русской лингвистике, вместе с тем утверждал (как и младограмматики): «Языковедение есть наука, имеющая предметом изучения человеческий язык в его истории» («О преподавании грамматики русского языка в средней школе», 1903 г., Ф. Ф. Ф о р т у н а т о в, Избр. труды, т. 2, М., 1957, стр. 462). В настоящее время языкознание стремится к синтезу этих противоположных положений.
Дальше в статье то же утверждение принимает более «сильный» вид: «Чтобы уловить явление в его исторической конкретности,., мы должны поместить каждый элемент в сеть определяющих его отношений». Это равносильно утверждению, что
 индивидуальное существует лишь в силу общих связей и индивидуальное постигается лишь через общее. Взятое как утверждение о бытии объекта (в онтологическом смысле), оно свидетельствует о том, что Соссюр опирается на один из основных тезисов рационалистической философии, впервые отчетливо высказанный Декартом и развитый Спинозой и рядом позднейших философов. Этот тезис, согласно которому «сущность, essentia, предшествует существованию, existentia», «эссенциалистский» тезис, к началу XX в. уже в значительной степени исчерпал свой прогрессивный философский смысл и не удовлетворял многих европейских философов. Начинается «экзистенциалистское» движение, согласно которому «существование, экзистенция, предшествует сущности». Следовательно, индивидуальный исторический факт, в частности и факт языка, не может быть целиком понят только в сетке абстрактных отношений. Экзистенциальная философия оказала в дальнейшем известное положительное влияние и на критику соссюрианства (см., например: L. S p i t z е г, Linguistics and Literary History, Princeton, 1948). Тот же «эссенциалистский» тезис, взятый как утверждение о познании объекта (в гносеологическом смысле), имел тогда и сохраняет теперь известное прогрессивное значение: он обосновывает возможность понимания внутренней структуры языка в абстракции от ее действительного существования, как «алгебры», возможность «исчисления» этой структуры и ведет к прогрессивной формализации в качестве одного из возможных методов в науке о языке. Интерес к формализации языка возникает именно с расцветом рационализма, сначала у Декарта, см.: В. М i g I i о-r i n i, Lingua e cultura («II Cartesio e il problema della lingua universale»), Roma, 1948, затем у Лейбница, см.: П. С. П о п о в, История логики нового времени, М., 1960, стр. 66 и ел.; Н. И. С т я ж к и н, Формирование математической логики, М., 1967, особ. стр. 215—219. Широко обсуждались эти идеи и современниками Соссюра, см., например: Н. D i e I s, Leibniz und das Problem der Universalsprache, «Sitzungsberichte der Deutschen Akademie», Berlin, I, 1899; L. Couturat, Sur la structure logique du langage, «Bulletin de la Societe francaise de philosophies,XII, 2, 1912 (в том же журнале дискуссия); о н ж е, Pour la logique du langage, там же, XIII, 1913; ср. также несколько более поздние работы Б. Рассела и др. (см. комм, к гл. II, XXIV). Возможность «исчисления» системы открывает возможность и предсказания неизвестного факта, но не кап еще не возникшего явления, а как явления уже существующего или существовавшего и лишь не известного исследователю. Так обстояло дело с ларингальными звуками, теоретически предсказанными самим Соссюром в его «Мемуаре» в 1878 г. и фактически открытыми (один ларингал) Е. Куриловичем в 1927 г. (см. об этом ниже).
индивидуальное существует лишь в силу общих связей и индивидуальное постигается лишь через общее. Взятое как утверждение о бытии объекта (в онтологическом смысле), оно свидетельствует о том, что Соссюр опирается на один из основных тезисов рационалистической философии, впервые отчетливо высказанный Декартом и развитый Спинозой и рядом позднейших философов. Этот тезис, согласно которому «сущность, essentia, предшествует существованию, existentia», «эссенциалистский» тезис, к началу XX в. уже в значительной степени исчерпал свой прогрессивный философский смысл и не удовлетворял многих европейских философов. Начинается «экзистенциалистское» движение, согласно которому «существование, экзистенция, предшествует сущности». Следовательно, индивидуальный исторический факт, в частности и факт языка, не может быть целиком понят только в сетке абстрактных отношений. Экзистенциальная философия оказала в дальнейшем известное положительное влияние и на критику соссюрианства (см., например: L. S p i t z е г, Linguistics and Literary History, Princeton, 1948). Тот же «эссенциалистский» тезис, взятый как утверждение о познании объекта (в гносеологическом смысле), имел тогда и сохраняет теперь известное прогрессивное значение: он обосновывает возможность понимания внутренней структуры языка в абстракции от ее действительного существования, как «алгебры», возможность «исчисления» этой структуры и ведет к прогрессивной формализации в качестве одного из возможных методов в науке о языке. Интерес к формализации языка возникает именно с расцветом рационализма, сначала у Декарта, см.: В. М i g I i о-r i n i, Lingua e cultura («II Cartesio e il problema della lingua universale»), Roma, 1948, затем у Лейбница, см.: П. С. П о п о в, История логики нового времени, М., 1960, стр. 66 и ел.; Н. И. С т я ж к и н, Формирование математической логики, М., 1967, особ. стр. 215—219. Широко обсуждались эти идеи и современниками Соссюра, см., например: Н. D i e I s, Leibniz und das Problem der Universalsprache, «Sitzungsberichte der Deutschen Akademie», Berlin, I, 1899; L. Couturat, Sur la structure logique du langage, «Bulletin de la Societe francaise de philosophies,XII, 2, 1912 (в том же журнале дискуссия); о н ж е, Pour la logique du langage, там же, XIII, 1913; ср. также несколько более поздние работы Б. Рассела и др. (см. комм, к гл. II, XXIV). Возможность «исчисления» системы открывает возможность и предсказания неизвестного факта, но не кап еще не возникшего явления, а как явления уже существующего или существовавшего и лишь не известного исследователю. Так обстояло дело с ларингальными звуками, теоретически предсказанными самим Соссюром в его «Мемуаре» в 1878 г. и фактически открытыми (один ларингал) Е. Куриловичем в 1927 г. (см. об этом ниже).
Однако в указанном положении Соссюра в зародыше содержится и характерное для него ошибочное отождествление научной абстракции языка (то есть в широком смысле — «гносеологической характеристики языка», в узком смысле — «модели языка») с языком как объективно существующим явлением действительности (то есть с «онтологической характеристикой языка»). Это отождествление породило в дальнейшем много недоразумений и неоднократно было предметом научных дискуссий. Подробнее о философской стороне вопроса см. сб. «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания», М., 1970.
В концепции самого Бенвениста есть известное противоречие, так как он, с одной стороны, как будто бы принимает эссенциалистский тезис об определении, предшествующем факту, а с другой — неоднократно подчеркивает существование, экзистенцию, языка в протекающий, настоящий момент как основу для теоретического построения (см. весь раздел «Человек в языке»). Второй тезис, несомненно, играет главную роль в его собственной концепции.
К стр. 51. Работа Е. Куриловича, содержащая это открытие, опубликована в сб. «Simbolae grammaticae in honorem Ioannis Rozwadowski», I, Krakow, 1927. О современном состоянии ларингальной теории см.: Э. А. М а к а е в, Ларингаль-ная теория и вопросы сравнит, грамм, и.-е. языков, «Труды Инст. языкозн. АН Груз. ССР. Серия вост. яз.», т. 2, Тбилиси, 1957; сб. «Evidence for laryn-geals», ed. by W. Winter, The Hague, 1965; F. O. L i n d e m a n n, Einfuhrung in die Laringaltheorie, Berlin, 1970 (Sammlung Goschen). На открытии Соссюра основана и созданная значительно позднее теория индоевропейского корня самого Бенвениста, см. Библиография, №6 и Mb 11, и здесь, гл. XI и комм.
К стр. 51. «.Высшая школа» — имеется в виду Ecole pratique des hautes etudes, тогда, как и теперь, одно из трех главных высших учебных заведений гуманитарного цикла в Париже; два других — Сорбонна и College de France. Парижское лингвистическое общество, Societe de linguistique de Paris,— свободная ассоциация лингвистов вне зависимости от теоретического направления и подданства, основанная в 1865 г.; его текущее издание — «Bulletin de la Societe de linguistique de Paris» (BSL) с периодичностью две (иногда три) тетради в год; общество издавало также «Memoires» (с 1868 по 1927 г. регулярно).
К стр. 52. Балтийским слоговым интонациям — одному из кардинальных вопросов индоевропейского сравнительно-исторического языкознания — Соссюр посвятил несколько статей. Важнейшая из них — «Accentuation lituanienne», впервые опубликованная в журнале «Indogermanische Forschungen», Anzeiger, VI, 1896, стр. 157—166 (другое издание в кн.: F. d е S a u s s и г е, Recueil des publications scientifiques, Geneve, 1922). В ней он сформулировал открытый им закон передвижения ударения; в дальнейшем этот закон, одновременно и независимо от Соссюра открытый также Ф. Ф. Фортунатовым, получил наименование «закона Фортунатова — де Соссюра».
К стр. 52. Интерес Соссюра к познанию неповторимых конкретно-исторических фактов языка как к главному в науке о языке — свидетельство его замечательной разносторонности и подлинного величия научной мысли. Этот интерес в дальнейшем был совершенно не свойствен структуралистам, тем не менее указывавшим на Соссюра как на своего предшественника.
К стр. 55. Здесь и далее Бенвенист резюмирует основные пункты концепции Соссюра. Кроме названного выше «постулата», он выделяет следующие положения:
1) Двойственность, дуализм природы языка вообще ив самых
разных частных ее проявлениях; в оригинале статьи здесь в разных значениях ис
пользуется слово dualite, в частности, этим словом Бенвенист называет и те про
тивопоставления, которые в русской традиции часто назывались «дихотомиями»
Соссюра. Утверждение о дуалистическом характере языка Бенвенист считает за
мечательным достижением Соссюра. В связи с тем что в последнее время иногда
настоятельно подчеркивается необходимость устранить дуалистическое понима
ние языка, как «архаизм» в лингвистике, и заменить его монистическим, как более
«современным» (см.: А. Г. В о л к о в, Язык как система языков, М., 1966, также:
W. M a n с г a k, Les termes «langue» et «parole» designent-ils quelque chose de reel?,
«Linguistics», 55, 1969), весь этот вопрос заслуживал бы дальнейшего обсуждения;
2) Дуализм знака (единство в нем означаемого и означающего) как ос
новной единицы язык а; в этом положении Бенвенист видит основное
конкретное открытие Соссюра, значение которого возрастает в связи с расшире
нием границ науки о знаках, семиотики или семиологии, и ее выходом в область
культуры; 3) Вытекающая из предыдущих положений особая, по Соссюру —
неустранимая черта лингвистического метода: «точка зрения создает
объект».
В связи с последним пунктом необходимо подчеркнуть иное, современное материалистическое понимание этого вопроса. Действительно, поскольку система противопоставлений, образующих основу языка, не дана человеку в непосредственном наблюдении (и констатация этого положения составляет большую заслугу Соссюра), она обнаруживается посредством лингвистических исследований с разных сторон, проявляясь тем самым в разных, но всегда несколько односторонних видах. В настоящее время существуют структуры дистрибутивные, оппо-зитивные, трансформационные, алгебраические, статистические и др. Каждая такая структура является и теоретическим построением лингвиста и вместе с тем более или менее адекватно отражает одну из сторон того, что объективно существует как внутренняя структура языка.
К стр. 56. Бенвенист лишь мельком упоминает здесь о И. А. Бодуэне де Кур-тенэ и Н. В. Крушевском. Однако их идеи и труды имели для русских и для значительной части восточноевропейских языковедов всей первой половины XX в. едва ли не большее значение, чем идеи Соссюра. Новейший обзор относящихся сюда во-
14 Бенвенис»
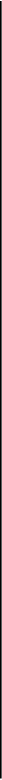 просов см. в упомянутой выше работе Н. А. Слюсаревой, а также: Ф. М. Б е р е-зин, Очерки по истории языкознания в России (конец XIX — начало XX в.), М., 1968; А. А. Л е о н т ь е в, Общелингвистические взгляды И. А. Бодуэна де Куртенэ, а. к. дисс, М., 1963; сб. «И. А. Бодуэн де Куртенэ», М, 1960; R.J akobson, Kazanska szkola polskiej lingwistyki i jej miejsce w swiatowym rozwoju fonologii, «Biuletyn polskiego towarzystwa jezykoznawczego», z. 29, 1960; L. W a 1 d, La notion d'economie dans la theorie linguistique de J. A. Baudouin de Courtenay, «Actes du XeCongres International des linguistes», II, Bucarest, 1970, стр. 321—325.
просов см. в упомянутой выше работе Н. А. Слюсаревой, а также: Ф. М. Б е р е-зин, Очерки по истории языкознания в России (конец XIX — начало XX в.), М., 1968; А. А. Л е о н т ь е в, Общелингвистические взгляды И. А. Бодуэна де Куртенэ, а. к. дисс, М., 1963; сб. «И. А. Бодуэн де Куртенэ», М, 1960; R.J akobson, Kazanska szkola polskiej lingwistyki i jej miejsce w swiatowym rozwoju fonologii, «Biuletyn polskiego towarzystwa jezykoznawczego», z. 29, 1960; L. W a 1 d, La notion d'economie dans la theorie linguistique de J. A. Baudouin de Courtenay, «Actes du XeCongres International des linguistes», II, Bucarest, 1970, стр. 321—325.
К стр. 57. Мы указывали в другом месте, что предложение...—См.гл.Х. Тезис о том, что предложение является единицей называния и в этом аналогично слову, но отличается от слова тем, что называет не отдельный объект, а целую ситуацию— составляет суть проблемы «ономасиологической функции предложения», усиленно разрабатываемой в последнее время в мировой и советской лингвистике. См.: В. Г. Г а к, О двух типах знаков в языке (высказывание и слово), в сб. «Материалы к конференции «Язык как знаковая система особого рода», АН СССР, М., 1967; Т. П. Л о м т е в, Проблема знака и значения в применении к предложению, «Проблемы изучения семантики языка», ч. 1, Днепропетровский Гос. университет, Днепропетровск, 1968; Н. Д. Арутюнова, О номинативном аспекте предложения, ВЯ, 6, 1971 (с библиографией).
К стр. 58. Критический обзор структурализма за пределами лингвистики, в науках о человеке и обществе, см.: М. Н. Г р е ц к и й, Французский структурализм, изд. «Знание», М., 1971, материалы дискуссии о структурализме во Франции: «La Pensee», 1967, №135, «Numero special. Structuralisme et marxisme»; дальнейшее в комм, к гл. V.
ГЛАВА IV
ПОНЯТИЕ СТРУКТУРЫ В ЛИНГВИСТИКЕ (БИБЛИОГРАФИЯ, № 34)
Работа замечательна примененным в ней методом генетического объяснения теоретических понятий. Такое сугубо теоретическое понятие, как понятие структуры в лингвистике, определяется здесь не дедуктивно, а исторически — последовательным раскрытием этапов его становления. При этом из каждого этапа берется лишь то, что в дальнейшем вошло в современное понятие (иное частично отмечается автором в сносках). В таком очищенном виде исторические этапы становления понятия соответствуют ступеням его логического определения. Названный метод не получил у Бенвениста эксплицитного обоснования и названия, но широко использовался им и в других случаях (см. Вступ. статью). Сходный подход в советском языкознании см. в работе: А. С. М е л ь н и ч у к, Понятия системы и структуры в свете диалектического материализма, в сб. «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания», М., 1970, особ. стр. 45; там же библиография вопроса. Благодаря названному методу Бенвенисту удалось дать ясное и соответствующее всем основным лингвистическим употреблениям термина определение структуры: структура есть сетка отноцщшй между элементами языковой системы, или «реляционный каркас» языковой системы. Таким образом, система включает в себя,.Д структуру и 2) элементы. Утверждение о том, что языковые элементы (элементы системы) определяются отношениями, нужно, однако, в настоящее время понимать с ограничениями. В о-п е р в ы х, с тем ограничением, что объективные отношения определяют элемент и его функцию лишь в синхронной системе. Поэтому при описании системы логическое определение отношений действительно предшествует логическому определению элементов. Однако в историческом и генетическом плане отношения никоим образом не предшествуют элемещам., или фактам, языка и не определяют нй~15х~матерйального бытия, ни их функций. Напротив, появление__ма1еадального факта как будущего элемента системы или всей' материальной совокупн6стй~ф"актов,
которые в будущем составят систему, предшествует их дальнейшему бытию в качестве элементов системы и их функциям в системе. Поэтому при тождественной сетке структурных отношений (при «изоморфизме структур») материальная реализация может существенно различаться, что было бы необъяснимо, если бы отношения определяли элементы также и в историческом и генетическом плане. Например, материальная форма славянского инфинитива предопределена не теперешним (синхронным) отношением инфинитива к другим глагольным формам, а тем, что по происхождению теперешний инфинитив есть форма индоевропейского отглагольного имени — супина, причем в конкретной форме местного падежа. Материальная форма балтийского инфинитива восходит главным образом к иной вариации той же формы — к дательному падежу индоевропейского супина. Колебания, подобные колебаниям в предпочтении, которое язык оказывает здесь формам либо дательного, либо местного падежа супина, свидетельствуют о том, что они существуют и в самой синхронной системе, которой принадлежат формы дательного и местного падежей супина и из которой вырастет в дальнейшем .иная система — с инфинитивом. Такие колебания могут быть объяснены лишь как вероятностный процесс выбора форм, а не как результат жестко и однозначно детерминированных отношений. Отсюда, в о-в т о р ы х, вытекает другое ограничение, которое заключается в том, что в системе языка важную роль играют нежестко детерминированные, вероятностные отношения. Одно из проявлений вероятностных отношений в языке — наличие в нем рядом с системным также бессистемного и внесистемного — явление, которое в последнее время все больше привлекает внимание советских лингвистов. Интерес к внесистемному есть закономерная реакция на крайности структурализма. Следует заметить, что Бенвенист в своей общей концепции языка и в исследовательской работе свободен от этой узости воззрений жесткого детерминизма, и они дают себя знать в его работах лишь там, где он слишком приближается к Соссюру, то есть главным образом там, где Бенвенист стремится осмыслить наследие Соссюра,— в этой и предыдущей главах (см. также комм, к гл. III).О различии структуры как сетки отношений и системы как совокупности матерладьйих^лементов см. также: Г. П. М е л ь н и к о в, Системная лингвистика в ее отношении к структурной, «Проблемы языкознания. Доклады и сообщения советских ученых на X Международном конгрессе лингвистов», М., 1967, и др.
работы этого автора.
К стр. 62. О F. Гийоме см. комм, к гл. II. Бенвенист, как он это и сам отмечает, упоминает здесь лишь лингвистов, пишущих на французском языке. На русском языке идеи структуры, в некоторых отношениях параллельные идеям Гий-ома, но совершенно независимые от них, развиты в ряде работ Н. С. Поспелова; см.: Н. С. П о с п е л о в, О двух рядах грамматических форм времени в современном русском языке, в сб. «Проблемы современной лингвистики», М., изд. МГУ, 1967; он же, О некоторых синтаксических категориях, в сб. «Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие», М., 1969; далее в
комм, к гл. XXI.
К стр. 65. Отмеченный Бенвенистом параллелизм между лингвистическим и психологическим понятиями структуры говорит о том, что соссюровское учение о системе в языке не было единственным источником современного лингвистического понятия структуры. К понятию структуры своими путями шли все науки уже в начале XX в. О гештальт-психологии см.: М. Г. Ярошевский, История психологии, М., 1966, стр. 463 и ел.; сб. «Современная психология в капиталистических странах», М., 1963, гл. 3; сб. «Основные направления исследований психологии мышления в капиталистических странах», М., 1966, гл. 5; А. А. Л е о н т ь е в, Язык, речь, речевая деятельность, М., 1969; о н ж е, Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания, М., 1969 (о категории структуры в психолингвистике). В самое последнее время общие тенденции разных наук к системности и структурности нашли отражение в опытах создания общей науки о системах — «системологии»; см. сб. «Исследования по общей теории систем», М., 1969; сб. «Проблемы методологии системного исследования», М., 1970. Первые идеи такого рода были высказаны еще раньше: А. А. Б о г д а н о в. Очерки всеобщей организационной науки, Самара, 1921; история вопроса э статье «Система», ФЭ, 5,
| 14* |
 I. f
I. f
f '
I1
'
ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИИ
СЕМИОЛОГИЯ ЯЗЫКА (БИБЛИОГРАФИЯ, № 42) Из множества проблем, связанных со становлением новой науки — семиотики, или,… 1. Точка зрения, опирающаяся на идею «панзнаковости», которая в свою оче редь имеет глубокие философские традиции.…КОММУНИКАЦИЯ В МИРЕ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК
В данной работе Бенвенист несколько нарушает цеховые традиции французской лингвистической школы. Парижское лингвистическое общество уже в своем… ГЛАВА VIII КАТЕГОРИИ МЫСЛИ И КАТЕГОРИИ ЯЗЫКА (БИБЛИОГРАФИЯ, №29)ГЛАВАХ
УРОВНИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (БИБЛИОГРАФИЯ, № 33)
В настоящем издании использован заново отредактированный перевод К. Г. Филоновой (НЛ, IV).
Эта работа Бенвениста сыграла важную роль в современной лингвистике: она в ясной и сжатой форме резюмировала основные достижения в области лингвистического анализа и, кроме того, ответила на ряд до тех пор дискуссионных вопросов. Среди последних нужно в первую очередь упомянуть два: 1) что такое «уровень языка» и 2) является ли предложение «единицей языка». На первый вопрос Бенвенист отвечает так: уровнем языка является то, что имеет соответствующую одноименную единицу; так, есть уровень фонем, или фонематический; уровень морфем, или морфематический; уровень слов. В этом смысле нет, например, уровня словосочетаний, нет уровня предложений, так как предложение не является единицей языка в том смысле, как другие названные единицы.
Вместе с тем результатом данной работы явился и ряд новых вопросов, и некоторые из них не получили еще ответа. Один из них связан со значением термина segmentable «сегментируемый» (таков был перевод в предшествующем русском издании). Действительно, перевод segmentable как «сегментируемый» подходит для всех уровней (каждая единица одновременно и вычленяется как сегмент данного уровня и расчленяется на сегменты низшего уровня), кроме фонематического: фонема вычленяется как сегмент этого уровня, но сама на сегменты не членится. Элементы, на которые она действительно расчленяется,— это дифференциальные признаки, симультанные, одновременные, но не последовательные элементы, т. е. не сегменты. Между тем Бенвенист и уровень фонем называет segmentable. В настоящем русском переводе мы устраняем эту недомолвку, переводя segmentable как «поддающийся операции сегментации», в смысле «вычленения» (допустимо также просто «сегментный»). Таким образом, уточняется характер операции сегментации. Она оказывается двойственной по своей природе: для всех уровней операция сегментации заключается в установлении сегментов каждого данного уровня; одновременно д л я части уровней (а именно для всех, кроме фонематического) операция сегментации ведет к установлению сегментов низшего уровня по отношению к тому уровню, который является в данный момент объектом анализа. Основания этого свойства требовали бы специального исследования. (Следует заметить, что перевод слова segmentable не пассивным причастием «сегментируемый» (такой перевод соответствует лишь первым значениям французских слов на -able), а более общим «имеющий отношение к сегментации», «сегментный» отвечает обычным во французском языке вторым значениям слов на -able, например ouvrable «рабочий (день)», (une) observable «данное, факт», monnayable «наличные (деньги)» и т. п.)
К стр. 131. Здесь предел лингвистического анализа.— В этом месте Бенвенист формулирует один из принципов представляемого им направления, который иначе можно было бы выразить так: язык лежит в диапазоне восприятия человеческих
органов чувств. Все данные о субстанции языка, которые могут быть получены посредством специальной машинной техники (форманты звуков и т. п.), если они лежат за порогом естественного восприятия человека, являются внеязыковыми и внелингвистическими. Сведения о формантах звуков и т. п., полученные с помощью машин, так же не относятся к ведению лингвистики, как специальные знания о денотате слова, например о садоводстве или устройстве автомобиля, не относятся к ведению лексикологии. Об общих основаниях этого подхода к языку см. Вступ. статью.
К стр. 182. Если фонема определима, то только как составная часть единицы более высокого уровня — морфемы.— Это положение сближает концепцию Бенвениста с Московской фонологической школой (ср. высказывание П. С. Кузнецова, приведенное во Вступ. статье). Подробнее см.: А. А. Реформатский, Из истории отечественной фонологии, М., 1970. В других, так называемых «имманентных», теориях фонем фонема определяется независимо от морфемы, а тем самым план выражения языка в целом постулируется вне его отношения к плану содержания—семантике, а также лексике и грамматике.
К стр. 134. Предложенное здесь'Бенвенистом различие между «автономными» и «синномными» словами только до некоторой степени совпадает с различием «самостоятельных» и «несамостоятельных» слов традиционной грамматики, почему мы и предпочли не употреблять в переводе эти термины. Термины Бенвениста удобны еще и потому, что благодаря своему составу (наличие элемента «авто-», «ауто-») они оказываются параллельны другим парам терминов. С парой терминов, предложенной Марти и упоминаемой Бенвенистом,— «автосемантические» и «синсе-мантические»,— следует сопоставить еще и логические термины: «автологичные» и «гетерологичные», см. о них: Н. И. С т я ж к и н, Гетерологичности парадокс, ФЭ, 1. На связь всех явлений, выраженных всеми тремя парами терминов, указывает тот факт, что «автономные» слова в отличие от «синномных» могут быть, по-видимому, определены как слова, могущие быть названиями самих себя. Этим свойством не обладают «синномные» слова, например под может быть названо только как «предлог под» или «выражение такого-то отношения». В силу этого свойства различие «автономных» — «синномных» слов стоит в прямом отношении к различию «автологичных» — «гетерологичных» слов, а вследствие этого также — к явлениям логических парадоксов типа парадоксов Рассела и т. д.
К стр. 136. О предложении в его отношении к знакам см. комм, к гл. III.
ГЛАВ А XI
О НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ РАЗВИТИЯ
ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО ПЕРФЕКТА
В первой части работы Бенвенист блестяще демонстрирует применение своей «теории индоевропейского корня» к конкретному анализу. Сама теория в связи с… В данной работе Бенвенист демонстрирует в действии как раз другие положения…ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ПРЕДЛОГОВ В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ
В оригинале статья называется «Сублогическая система...» То, что автор, вслед за Л. Ельмслевом, называет этим термином в применении к материалу… Кроме названной Бенвенистом работы Л. Ельмслева, существует другое… ского языка как иностранного», МГУ, М., 1966 (ротапринт); Т. А. Р е п и н а, О противопоставлении «падеж — предлог» в…СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
Как почти всегда у Бенвениста, рассматриваемый вопрос включается в ряд более общих проблем. Первый круг проблем — принципы синтаксической… Другой круг проблем формулируется в современной советской лингвистике как… №ПАССИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРФЕКТА ПЕРЕХОДНОГО ГЛАГОЛА
Как уже было отмечено во Вступ. статье, проблема перфекта—один из узловых пунктов современной теории языка. Бенвенист посвятил ей много работ — см.… Для понимания дальнейшего необходимо иметь в виду, что перфект в древних… Из новой литературы см.: W. S. A 1 b e n, Transitivity and possession, «Language», XL, 3, 1964; V. V. I v a n о v,…ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ПРОБЛЕМА ОБЩЕГО СИНТАКСИСА
Вэтой главе Бенвенист развивает свою концепцию типологического изучения синтаксиса. В этом общетеоретическом плане работа является как бы… К стр. 226. Для полного понимания дальнейшего необходимо иметь в виду, что… ГЛАВА XIXЧЕЛОВЕК В ЯЗЫКЕ
СТРУКТУРА ОТНОШЕНИЙ ЛИЦА В ГЛАГОЛЕ (БИБЛИОГРАФИЯ, № 18) Глава не случайно открывает данный раздел: она не только освещает специальный… Бенвенист начинает с выяснения универсального характера категории лица. Однако он идет при этом не дедуктивным путем…ФОРМАЛЬНЫЙ АППАРАТ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
Работа (1970 г.) посвящена тому аспекту языка, который лишь в самое последнее время стал предметом изучения в мировой лингвистике и логике,— «языку… ГЛАВА XXVI ДЕЛОКУТИВНЫЕ ГЛАГОЛЫ (БИБЛИОГРАФИЯ, № 31)СЛОВАРЬ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ
Эта последняя по времени крупная работа Бенвениста состоит из двух томов: Т. 1, «Экономика, родственные отношения, общество», т. 2, «Власть, право,… гия». Ее общий характер вполне обрисован самим автором в «Предисловии», которое здесь воспроизводится почти…Лингвистика на пути преобразований
Глава I. Взгляд на развитие лингвистики.............................................. 21
Глава II. Новые тенденции в общей лингвистике................................................. 33
Глава III. Соссюр полвека спустя...................................................................... 47
Глава IV. Понятие структуры в лингвистике .................................................... 60
Проблемы коммуникации
Глава V. Семиология языка........................................................................................ 69
Глава VI. Природа языкового знака ................................................... 90
Глава VII. Коммуникация в мире животных и человеческий язык 97
Глава VIII. Категории мысли и категории языка........................................ 104
Глава IX. Заметки о роли языка в учении Фрейда ............................ 115
Языковые структуры и их анализ
Глава X. Уровни лингвистического анализа.......................................................... 129
Глава XI. О некоторых формах развития индоевропейского перфекта 141
Глава XII. Логические основы системы предлогов в латинском языке 148
Глава XIII. К анализу падежных функций: латинский генитив . . 156
Синтаксические функции
Глава XV. Активный и средний залог в глаголе ............................... 184 Глава XVI. Пассивное оформление перфекта переходного глагола…Глава XIX. Синтаксические основы именного сложения............................................ 241
Человек в языке
Глава XXI. Отношения времени во французском глаголе............................................. 270 Глава XXII. Природа… Глава XXIII. О субъективности в языке............................................................ 292– Конец работы –
Используемые теги: Общая, Лингвистика0.029
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ОБЩАЯ ЛИНГВИСТИКА
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
| Твитнуть |
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?







Новости и инфо для студентов